Егоров Б.Ф., Лотман Ю.М., Вердеревская Н.А., Щукин В.Г. и др. Из истории русской культуры. Том V (XIX век)
Подождите немного. Документ загружается.


отделение, ему был предложен список вопросов, среди которых был один, основанный на
перлюстрации письма к И. С. Аксакову его брата Григория: «Брат ваш Григорий (...)
выражает надежду, что Австрия из немецкой превратится в славянскую монархию. Не
питаете ли вы и родственники ваши славянофильских понятий и в чем оные состоят?» Вот
где собака зарыта: Николай и его окружение трактовали славянофилов как радикальных
панславистов, мечтающих о свободном объединении славянских народов.
Иван Аксаков по-честному разъяснил позицию русских славянофилов сороковых годов,
подчеркнув, что главное внимание он и его близкие*уделяют не славянам вообще, а
России, и что вряд ли возможно объединение православных славян с католическими.
Николай I, внимательно читавший ответы Аксакова, оставил на полях следующую
заметку: «И дельно,- потому что все прочее мечта. Один Бог может определить, чему быть
в дальнем будущем; но ежели стечение обстоятельств и привело бы к сему единству, оно
будет на гибель России» (Сухомлинов, 1889, 2, 510). Любопытна последняя фраза:
Николай дико боится перекраивания европейских границ!
И особенно важно развернутое резюме царя на славянскую тему: подробнее об этом
эпизоде см. в главе «О национализме и панславизме славянофилов».
Да, смертельно боясь революционных потрясений, Николай отворачивался от судьбы
угнетенных народов, также как в страхе приостановил после 1848 г. робкую подготовку
крестьянской реформы внутри России. Вот почему и, казалось бы, невинное понятие
«народность» воспринималось как революционный лозунг.
При Александре II «триединая формула» была как бы забыта, в официальной и
официозной печати ее заменили насущные проблемы крестьянской реформы, местного
самоуправления и т. п. Однако не были созданы какие-то обобщающие идеологические
лозунги взамен ува-
87
ровскому. А он хотя и был отодвинут в сторону злободневными делами, но все же
чувствовался как своеобразный фундамент официальной идеологии. При Александре
III, хотя конкретного восстановления «триединой формулы» не было, она стала
значительно более заметной, чем в предшествующий период: великодержавная
политика нового императора, внимание к православной церкви, громадная
идеологическая роль обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева снова
выдвинули на первый план по крайней мере две первые ипостаси триединой формулы,
а «народность», понимаемая как «русская народность», как бы подразумевалась при
достаточно шовинистическом мировоззрении Александра III. Эта же тенденция
наблюдалась и при Николае II. Иными словами, последующие после Николая I
русские императоры не смогли использовать какую-либо официальную доктрину
взамен уваровской формулы, и она негласно просуществовала в качестве
идеологической основы монархического строя страны до самого 1917 г.
СОСЛОВИЯ, ТИТУЛЫ, ОБРАЩЕНИЯ
Произведения культуры, в какой бы сфере они ни создавались, — в художественной,
научной, религиозной, технической — по сути своей являются достоянием всего
человечества, и если это произведения выдающиеся, то они в конце концов и становятся
всемирными, преодолевая национальные, социальные, хронологические границы,
возвышаясь над владельческой собственностью и над материальной закрепленностью. Но
бытование произведений, реальная культурная жизнь в мире, разделенном го-
сударственными, национальными, социальными границами, имеет свою специфику.
Россию XIX века невозможно понять без учета сословного устройства и сословной
иерархии (в дальнейшем мы будем пользоваться именно понятием сословия, ибо
вытеснение его марксистским термином класс очень упрощало картину; считалось, что в
любом досоциалистическом обществе существуют два главных и антагонистических
класса: рабы и рабовладельцы, крестьяне и феодалы, пролетарии и капиталисты — на
самом-то деле картина была куда более сложной; в этой главе термин «класс» будет

употребляться, главным образом, для обозначения ступеней «Табели о рангах»). Согласно
реформам XVIII века, в стране было установлено четыре сословия: дворяне, духовенство,
городские обыватели, сельские обыватели (крестьяне). Каждое сословие имело свои права
и обязанности, каждый человек от рождения — по сословию родителей — принадлежал к
определенной группе.
Сословия располагались на вертикальной шкале иерархии: дворянство — самое высшее,
крестьянство — самое низшее; два первых сословия назывались неподатные, два
последних — податные, они облагались различными податями, т. е. налогами.
Консервативные мыслители мечтали увековечить такую незыблемую структуру, чтобы
человек не мог пере-
90
мещаться через сословные границы. К. Н. Леонтьев в известной работе «Византия и
славянство» (1875) привлекал даже естествознание для доказательства реальности
своей мечты: «Растительная и животная морфология есть также не что иное, как наука
о том, как оливка не смеет стать дубом, как дуб не смеет стать пальмой и т. д.; им с
зерна предуставлено иметь такие, а яе другие листья, такие, а не другие цветы и
плоды» (Леонтьев, 5, 198). Но действительность разрушала подобные мечты.
Петровская «Табель о рангах» (1722) совместно с последующими законами и
манифестами предоставляла возможность получать дворянство отличившимся по
службе, дворянство личное или потомственное, т. е. передаваемое и детям. Появля-
лись законы о возможностях перехода и в другие сословия, особенно много границ и
ограничений было разрушено реформами Александра II (см. статью Д. И. Раскина
«Исторические реалии...»).
Некоторое размывание границ, например, в связи с получением образования,
наблюдалось и ранее; в этом отношении создание промежуточного сословия
разночинцев весьма характерно: оно официально не входило в рубрикацию четырех
сословий, но реально оно существовало, и даже появились некоторые законы,
признающие за ним определенные права (см. статью Н. А. Вердеревской «О
разночинцах»). Потом нужно учесть льготы, которые царское правительство давало
купцам и промышленникам. Особенно это относится к Николаю I; подозрительно
относившийся к дворянскому сословию после восстания декабристов, он готов был
расширять права трудолюбивых или образованных городских обывателей; Николай в
1832 г. издал манифест о почетном гражданстве, освобождавший получившего это
звание от податей, рекрутской повинности, телесных наказаний, т. е. сближавший
почетных граждан с привилегированными сословиями.
Некоторая размытость наблюдалась при соотношении армейских и гвардейских чинов,
при определении статуса получивших придворные звания камергера и камер-
91
юнкера: оба эти звания не вписывались в табель о рангах, хотя были весьма
почетными.
Однако в целом сословные перегородки, как и иерархия табели о рангах, соблюдались
неукоснительно, и чем далыце, тем больше рогаток ставилось для желающих получить
дворянство: если в первых десятилетиях XIX века самые низшие офицерские чины —
подпоручик и прапорщик (в кавалерии корнет) — уже давали потомственное
дворянство, то потом «планка» поднималась все выше и выше, достигнув в 1856 г.
полковника, чина VI класса, а в гражданской службе еще выше — действительного
статского советника (IV класс); т. е. весьма почтенные чины статского советника и
подполковника еще не давали права потомственного дворянства.
Менялись не только границы получения дворянских прав, менялись названия чинов и
их места в табели о рангах. Сложнейшие схемы XVIII века упрощались. Например, до
1867 г. к военным причислялись ведомства, казалось бы, чисто гражданские: горное,

путейское, лесное и межевое. Но чиновники этих ведомств носили военные мундиры и
имели соответствующие воинские звания. Известный радикальный публицист
шестидесятых-семи-десятых годов Н. В. Шелгунов был по чину полковник корпуса
лесничих. А горные инженеры носили свои собственные наименования, которые не
так-то легко произносить, а запоминать еще труднее: обер-берггауптман,
берггауптман, обер-бергмейстер, бергмейстер, обер-гиттен-фервальтер,
гиттенфервальтер, маркшейдер, обер-бергпро-бирер, бергпробирер, берггешворен,
шихтмейстер (чины от IV до XIV класса). Названия вполне обычные, если знать
немецкий язык.
Надо сказать, что многие названия гражданских и военных чинов тоже странно звучат,
если не знать их происхождения: асессор по-латыни значит «заседатель», генерал по-
латыни — «главный»; адмирал, термин, взятый у голландцев, по-арабски значит
«владыка моря» (эмир-ал-бахр); майор по-латыни «старший», капитан — «главный»;
мич-
92
ман — от английского midshipman, корнет — по-французски «знаменосец», лейтенант
— заместитель и т. д. Чуть ли не из всех западноевропейских языков заимствованы
названия чина, расположенного ниже предыдущего: вице-, секунд-, штабе-
1
, унтер-
(впрочем, использовано и русское под-: подполковник, подпоручик). В таком же смысле
может быть употреблено и звание «лейтенант»: генерал-лейтенант означает как бы
«заместитель полного генерала», т. е. генерала от инфантерии (пехоты), от кавалерии, от
артиллерии (в XVIII веке эти «полные» генералы именовались «генерал-аншефы»; в
советское время было вместо них введено более понятное звание генерал-полковника). А
генерал-майор оказался ниже, вопреки превосходству майора над лейтенантом.
Существует несколько объяснений этому казусу, одно из них такое: в XVIII веке был чин
бригадира (V класс), т. е. бригадного генерала, а генерал-майор (IV класс) оказывался как
бы старшим над бригадиром, но после ликвидации Павлом I чина бригадира генерал-
майор остался без «пары» — и тем самым в некотором противоречии с генерал-
лейтенантом.
В течение XVIII—XIX веков было немало изъятий и добавлений в иерархию чинов; чтобы
в них разобраться, нужны сопоставительные таблицы. Подобные таблицы необходимы и
синхронные, чтобы видеть соответствие чинов по рубрикам: гражданские; армейские
(пехота, артиллерия, инженерные войска); армейская кавалерия; гвардейские (пехота,
артиллерия, инженерные войска); гвардейская кавалерия; казачьи войска; военно-морские;
придворные. /
Некоторые преобразования в табели о рангах выглядят иррациональными — или
проведенными по примеру гоголевского Городничего, желавшего перед Ревизором по-
казать энергичную работу: «Да разметать наскоро старый
1
Не следует путать «снижающую» приставку «штабе-» с «возвышающей» «штаб-»: штаб-офицеры —
это высшая группа офицеров, от полковника до майора; а от капитана, ротмистра, лейтенанта и ниже
— обер-офицеры.
93
забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтобы было похоже на
планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности
градоправителя».
Так, в 1884 г. упразднены в армии чины майора и прапорщика. А. П. Чехов посмеялся
над этим в рассказе «Упразднили!» (1885): отставной прапорщик Вывертов с ужасом
узнает о ликвидации своего чина и испытывает еще большее потрясение после
разговора с отставным майором Ижицей, к которому обратился по-старому:
«— Я вас, майор, не понимаю (...).
— Да какой же я майор? Нешто я майор?
— Кто же вы?

— А чорт меня знает, кто я! — сказал Ижица. — Уж больше года, как майоров нет».
Любопытно, что цензор увидел в чеховском рассказе «неуместную шутку над
правительственными распоряжениями» и запретил его; лишь в третьей инстанции,
после вмешательства самого начальника Главного управления по делам печати Е. М.
Феоктистова, рассказ был одобрен; очевидно, консервативный Феоктистов не прочь
был разрешить произведение, автор которого иронизирует над новшествами.
На самом деле некоторый смысл в новом законе был: расширялись преимущества
армейских офицеров, они теперь почти приравнивались к гвардейским: все армейские
чины штаб-офицеров были «подняты» на один класс выше и тем самым разница
между армейскими и гвардейскими одинаковыми чинами сократилась на одну или
даже на две ступеньки и осталась всего в один ранг вместо прежних двух: подпоручик
и корнет из XIII и XIV классов поднимались в XII, штабс-капитан и штабс-ротмистр
— из X в IX, а капитан и ротмистр даже поднялись в группу штаб-офицеров, т. е.
перешли из IX класса в VIII. Но для этих перестановок нужно было «окно», его и
создали изъятием майоров (VIII класс); служащие майоры были переведены в
подполковники, а отставные как бы теряли свой чин (с прапорщиком было сложнее: в
дей-
94
ствующей армии этот чин XIV класса уничтожался, офицерам предлагалось или идти в
запас, или сдавать экзамен на подпоручика, а отставные прапорщики возвышались до XIII
чина, и в случае военных действий чин сохранялся на этой
х
ступени).
Чехов со стороны весело описывал передвижки и ликвидации, но за сухими манифестами,
за цифрами и рангами часто таились драматические судьбы получавших чины. Особенно
драматична была история А. А. Фета. Многим известно, что будущий знаменитый поэт не
был реальным сыном орловского помещика А. Н. Шеншина, который увез из Германии
беременную любовницу, чуть ли не купив ее у мужа, дармштадского чиновника Фета.
Родившегося уже в России мальчика местный священник окрестил и записал как
законного сына помещика, хотя Шеншин официально женился на его матери значительно
позже. В конце концов подлог раскрылся, запись была аннулирована, с большим трудом
удалось получить документ сына на имя немецкого отца, Фета. Но тем самым Афанасий
Афанасьевич из потомственного дворянина превращался сразу в безродного мещанина со
всеми вытекающими для человека податного сословия последствиями. Нужно было
своими силами добиваться дворянского звания.
Друг Фета студенческой поры, Аполлон Григорьев, тоже незаконный сын дворянина,
достиг лишь личного дворянства, лениво трудясь по окончании университета на
гражданской службе; чин коллежского асессора (VIII класс) Григорьев получил лишь в
1857 г.: этот чин, ранее дававший право на потомственное дворянство, теперь — с 1856 г.
— оказывался недостаточным, надо было дослуживаться до IV класса (действительный
статский советник). Но Григорьев был равнодушен к чинам и званиям и без
95
сожаления ушел в отставку. Но Фет хотел во что бы то ни стало получить именно
потомственное дворянство, которое, считал он, у него несправедливо отняли в детстве.
Окончил университет он в 1844 г. и, выбирая между гражданской и военной службой,
предпочел последнюю: в гражданской нужно было около 10 лет трудиться, пока
достигнешь VIII класса, чина коллежского асессора, а в военной самый низший
офицерский чин, XIV класс, прапорщик или, в кавалерии, корнет уже давали право на
потомственное дворянство. Веда в том, что человек даже с университетским
дипломом, но без военного образования, не мог быть записан в офицеры: надо было
хотя бы несколько месяцев послужить унтер-офицером. И Фет пошел на это,
отправившись в Кирасирский орденский полк, в глухую провинцию, надеясь на скорое
производство в офицеры. Увы. В апреле 1845 г. он поступил в полк, а в июне вышел

манифест Николая I, ограничивающий возможности получать дворянство. Надо было
теперь дослужиться до майора, до VIII класса! Конечно, нравственный удар был
сильный, но крепкий Фет выдержал, решил во что бы то ни стало достичь этой
высокой планки. 11 лет он мучился: в невежественной армейской среде, вдали от
столиц зарабатывая чины... И вот следующий удар: когда он вышел на финишную
прямую и впереди уже маячил чин майора, Фет узнал о манифесте нового царя,
Александра II, снова повысившем границу: теперь надо было дослужиться до
полковника! Этого Фет уже не выдержал — и ушел из армии, так и не получив
желанного права (как часто бывает, оно ему оказалось бы и не нужным практически:
детей у Фета не было!).
Строгой системе чинов и званий соответствовала не менее строгая система
обращений. Гражданские, военные, придворные чины первых двух классов имели
титул
96
«высокопревосходительство» (т. е. при обращении заочном «его
высокопревосходительство» или личном «ваше высокопревосходительство»). Третий и
четвертый классы — «превосходительство», пятый — «высокородие», шестой-восьмой (т.
е. уровень штаб-офицеров) — «высокоблагородие», остальные — «благородие».
«Благородиями» были и все нечиновные дворяне. Женщины получали титулы только
будучи женами носителей соответствующих чинов, хотя обращения к ним с такими
титулами употреблялись очень редко. Окуджавская строка «Ваше благородие, госпожа
Удача» относится, следовательно, к жене обер-офицера, от капитана до подпоручика, к
жене чиновника от IX до XIV класса (от титулярного советника до коллежского
регистратора) или просто к дворянке. Конечно, если мы будем стихотворное обращение
понимать буквально — как к реальной даме.
В обыденном обращении представителей низших сословий к дворянам чаще
употреблялось не «ваше благородие», а «барин», «барышня», «господин», «госпожа». Лю-
бопытно редкое употребление слова «барыня»: шутливая песня-пляска «Барыня» и обилие
поговорок, нравственно унижающих барыню, вытеснили это слово из серьезного обихода.
«Гражданин», «гражданка» совсем не фигурировали как обращения — это уже продукт
XX века. А в XIX эти термины означали или городских жителей («горожанин»,
«горожанка»), или юридическую принадлежность к определенному государству
(«гражданин России»).
Князья и графы имели титул «сиятельство», светлейшие князья и, с 1886 г., князья
«императорской крови» — «светлость». Император, императрица (и еще вдовствующая
императрица, мать царя) — «императорское величество», цесаревич-наследник и другие
великие князья — «императорское высочество». При личном обращении слово
«императорское» опускалось.
Строгая система обращений существовала и в духовном сословии. Митрополит и
архиепископ именовались «высокопреосвященство», епископы — «преосвященство»
97
(носители всех трех рангов имели при личном обращении еще и более простое
наименование «владыко»; заочно о них можно было говорить «владыка»),
архимандриты и игумены — «высокопреподобие». Это в монашествующем, в черном
духовенстве. А в белом протопресвитеры и протоиереи — «высокопреподобие»,
священники (иереи) и дьяконы — «преподобие»
2
.
Конечно, все указанные титулы неукоснительно соблюдались лишь в официальных
бумагах и в обращении низших чинов к высшим. При равных отношениях и тем более
при обращении высших к низшим существовали другие формы: по имени-отчеству
или «господин такой-то» (в военных сферах после «господин» не фамилия, а
соответствующий чин; впрочем, и в гражданской сфере «господин» с фамилией
соединялся довольно редко). Среди высших гражданских и военных чинов эти формы

могли употребляться и при обращении к более высшим.
Наличие у восточных славян тройного имени: имя, отчество, фамилия — создавало
чрезвычайно разнообразные формы обращения и вне титулов и чинов, варьируя
разные степени родства, дружбы, официальности и т. д. Одно дело — «Иван», другое
— «Иван Петрович», третье — «Петрович», четвертое — «Сидоров», пятое —
«господин Сидоров» и т. д.
В. Г. Белинский в известном письме к Н. В. Гоголю (1847) ужасался, что в России
«люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками,
Палашками». Строго говоря, это не клички, а те же имена, только с уничижительными
суффиксами. И, конечно же, невозможно это наблюдение перенести на всю Россию, на
все сословия: ясно, что речь идет о простом народе. Однако имена с такими
фамильярными суффиксами и в простом народе, в крестьянстве в первую оче-
2
Подробнее см. в Приложениях статью Д. И. Раскина, а также ценные справочники: Шепелев Л. Е.
Отмененные историей. Чины, звания и титулы в Российской Империи. Л., 1977; его же. Титулы,
мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991.
4 — 810
98
редь, употреблялись отнюдь не поголовно, они применялись по отношению к детям
(эта тенденция сохранилась до наших дней). При крепостном праве господа могли так
называть и взрослых слуг (соответственно и они сами друг друга так называли), но до
определенного возраста и семейного положения: женатого повара или дворника уже
неудобно было так называть, переходили на полные имена
3
, на имя-отчество или на
отдельное отчество, что характеризовало уважительное отношение к человеку
(вспомним пушкинского Савельича).
В деревне же, тем более в пореформенной (как и в пореформенном городе), люди
вообще более уважительно, чем при «Ваньках» и «Палашках» обращались к родным и
знакомым. Женатых мужчин и замужних женщин называли по имени-отчеству или,
что чаще, просто по отчеству (дети родных и знакомых обращались к ним по одному
полному имени с прибавлением перед ним «дядя» или «тетя»). Молодая жена,
вступающая в дом мужа, называла по имени-отчеству не только своего суженого, но и
его родителей, а также, хотя бы первое время, — и малолетних деверей и золовок, т. е.
братьев и сестер мужа.
Если в крестьянском мире при обращении варьировались просто имена и имена-
отчества, то у духовных лиц были только имена: невозможно было называть священ-
ника «Иван Петрович» — он был только «отец Иван». Даже если обращающийся был
глубоким стариком, а священник — 20-летний юнец, все равно он назывался «отец
Иван» или еще проще «батюшка»; жена его тоже обычно теряла отчество и называлась
«матушка», «мать Мария». В официальных документах духовных лиц существовали и
фамилии, но в быту они совершенно не употреблялись. Тем более что, как и в
крестьянском мире, фамилии духовных лиц были непрочными; например,
3
Особый случай — наименование разбойников (Стенька Разин, Емелька Пугачев и т. п.)' В этой
фамильярности заключался целый комплекс чувств: и восхищение, и страх вместе с презрением, и
осуждение.
99
руководство семинарий и академий легко перекраивало фамилии учащихся по своему
усмотрению (см. об этом в главе «Духовенство и религия»). Современный минский
культуролог А. Л. Ренанский рассказал, что его дед, священник, увлекавшийся
книгами знаменитого Ренана о Христе и апостолах, попросил церковное начальство о
переименовании фамилии — и его просьба была удовлетворена! Значит, можно было
менять фамилии уже и после семинарии или академии.
При переходе в монашество человек терял и фамилию, и имя-отчество, приобретая
только новое имя, которое он получал при обряде (фактически — второе крещение).

Даже если он потом достигал высоких ступеней в церковной иерархии, становясь
архиепископом, митрополитом, — он все равно оставался при одном монашеском
имени. Лишь в посмертных упоминаниях (скажем, в энциклопедиях, научных трудах)
к имени еще добавляли и домонашескую фамилию (иногда — в скобках), например:
митрополит Филарет Романов, митрополит Филарет Дроздов, митрополит Филарет
Гумилевский.
В дворянском мире при обращении были наиболее распространены имя-отчество;
даже детей по одному имени называли лишь родители и близкие родственники (или
очень близкие знакомые). Исключением был княжеский титул: при нем с
допетровских времен употреблялось лишь имя: князь Иван, княжна Марья — но это
лишь среди относительно хорошо знакомых, в остальных случаях существовало
внеименное титульное обращение «Ваше сиятельство». Любопытно, что при других
титулах, введенных Петром I — граф, барон — обращение по имени не было принято,
к ним присоединяли фамилию. А просто по фамилии в мужском дворянском обществе
было принято называться в среде относительно молодых людей (ср. в опере «Евгений
Онегин»: «Что ты, Ленский, не танцуешь?» «Онегин, вы больше мне не друг»). Харак-
терно, что герои наших классических романов, как правило, тоже запоминаются и
употребляются в разговорах,
100
в трудах по фамилии: Онегин, Печорин, Обломов, Рудин, Базаров, Раскольников... А
героини, девушки, почти как семинаристы имевшие «зыбкую», непрочную фамилию
— еще при родительской, но вскоре долженствующие получить фамилию мужа, — как
правило, именуются просто: Татьяна, княжна Мери, Ольга, Наталья, Соня... А к за-
мужней женщине уже прочно пристает фамилия: Анна Каренина.
В армии и гвардии офицеры, близкие по чину, обращались друг к другу, как правило,
по фамилии; исключение делалось для старших по возрасту: поэтому у Лермонтова —
Печорин, но Максим Максимыч!
Личные связи, человеческие отношения разрушали и размывали официальные
градации и перегородки, упрощали наименования. Но, скажем, когда приходилось пи-
сать письмо близкому человеку, то опять возникала необходимость некоторой
официалыцины. Если письмо отправлялось казенной почтой, то нельзя было, как
чеховский Ванька Жуков, начертать на конверте «На деревню дедушке Константину
Макарычу», нужно было соблюсти определенные правила.
В XIX веке было принято начинать адрес с имени получающего: принцип,
распространенный ныне во всем мире, кроме нас, поместивших теперь адресата в
самый конец. И совершенно невозможно было, как опять же теперь принято, на первое
место поставить фамилию, а потом уже сообщать имя-отчество. Никоим образом
нельзя было написать «Сидорову Ивану Петровичу» (тем более невозможно —
«Сидорову И. П.», как ныне частенько пишут), а лишь так: «Ивану Петровичу
Сидорову». Очевидно, перемена мест в советское время связана с широко
распространившейся системой анкет и списков, где естественно выдвижение на
первый план фамилии — известное «ф. и. о.»! В XIX веке еще не знали в таких
масштабах ни анкет, ни списков.
Перед тремя элементами имени адресата было принято указывать его титул. Даже если
писалось письмо к
101
другу, на конверте было: «Его высокоблагородию Николаю Яковлевичу
Прокоповичу» (письмо Н. В. Гоголя к приятелю). Затем следовал адрес. В отличие от
Запада, где после имени — номер дома и улица, потом город, потом область (штат,
графство), потом страна (если из-за рубежа пишется), у нас была система нисходящая:
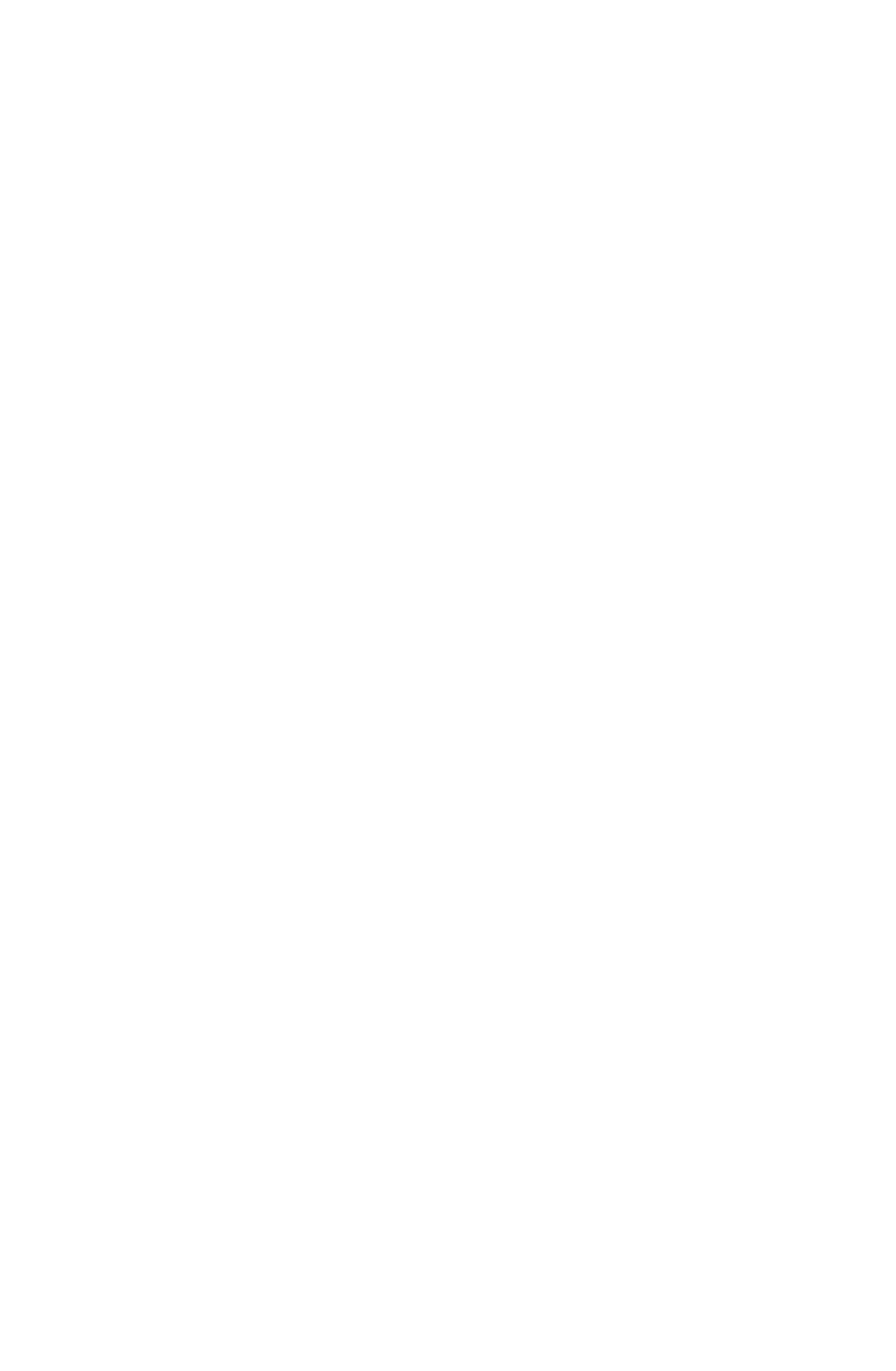
город, а затем уже место в городе. В первой половине XIX в. нумерация домов еще
только проводилась, поэтому адрес предпочитали описательный: «В С. Петербург, на
Васильевском острове, в 9 линии, между Большим и Средним проспектом, в
собственном доме» (из того же письма Гоголя). Во второй половине века нумерация
домов в больших городах уже более-менее упорядочилась, но все же она не всегда
соответствовала простому чету-нечету по противоположным сторонам улицы, а
проводилась — например, в Москве — по кварталам (аналогичный принцип поныне
существует в Японии). Вот, например, московский адрес 1871 г.: «В Сущевский части
3-го квартала на Новослободской улице за острогом третий дом — Виноградовой, №
522/546». Наверное, проще отсчитать от острога третий дом, чем искать трехзначный
номер...
Вообще же структура адреса на конверте глубинно отражала общественно-
нравственные приоритеты: при уважительном отношении к человеку его имя-отчество
было весомее фамилии. По той же причине все сведения о личности выдвигались на
первое место, а потом уже шли элементы адреса, причем они следовали как бы для
удобства почтовых работников, сверху вниз по нисходящей. Так и структура любого
иерархического документа: анкеты, паспорта, бланка — является замечательным мате-
риалом для социально-политического анализа. А заполненные такие документы тем
более предоставляют исследователю ценнейший материал, даже если они не содержат
остроумных ответов выдающихся людей (ср. ответ Б. В. Томашевского на вопрос
советской анкеты начала 1920-х гг.: «Каких политических убеждений придержи-
ваетесь?» — «Не убежден»).
РЕЛИГИЯ И ДУХОВЕНСТВО
В царской России каждый человек должен был быть «приписан» к определенной
религии, не разрешалось быть свободным атеистом. А так как подавляющее боль-
шинство населения принадлежало к православию (к концу XIX века — 80 миллионов
человек обоего пола), то в данной главе речь будет идти, главным образом, о господ-
ствующей церкви.
Унитарность русского монархизма, стрижка всех и вся под одну гребенку вместе с
иерархичностью строя, разумеется, и в религиозной области проявлялась в полную
силу. Ясно, что правящей могла быть лишь одна церковь — православная. А она, в
свою очередь, не могла быть самостоятельной — лишь подчиненной. Христов
принцип «Богу — богово, кесарю — кесарево» не мог утвердиться в царской России.
Уже во времена татаро-монгольского ига русские великие князья, а потом и цари
начали все больше и больше подчинять себе церковь. Самоуправничал Василий III, но
особенно отличился его сын Иоанн IV. Когда митрополит Филипп (Колычев) осудил
зверства и казни, творимые опричниками, то Иоанн Грозный приказал низложить его,
а потом и убить. После смерти тирана как будто бы забрезжила самостоятельность
церкви, впервые в России было введено патриаршество (1589), но первый же патриарх
Иов, включенный в политическую борьбу Смутного времени, был в начале XVII века
низложен и сослан.
Радикальные меры, как всегда, употребил Петр I. В начале XVIII века он упразднил
патриаршество и подчинил православную церковь государству: во главу в 1721 г.
поставил Святейший Синод, совершенно чиновничью бюрократическую организацию,
в которую входило несколько церковных иерархов, митрополитов, но управлял
Синодом обер-прокурор, лицо принципиально не цер-
104
ковное, гражданское, назначаемое царем. Правда, в руководстве Синодом принимал
участие первоприсутствующий иерарх, как правило, — митрополит Петербургский
или Московский; он имел право непосредственно обращаться к царю по делам церкви.

Однако при Александре I, в конце его правления, когда в правительстве царствовал
Аракчеев, с императором по делам церкви общался лишь этот граф, да и при Николае I
первоприсутствующий член Синода был лишен доступа к царю, главным оставался
обер-прокурор. Так в XIX веке руководство православной церкви было окончательно
бюрократизировано и деспотизировано.
Что еще стало наносить страшные удары самостоятельности и моральной высоте
духовенства — это петровские распоряжения об обязанности священников доносить в
соответствующие гражданские инстанции: об умыслах и деяниях прихожан, которые
могли иметь опасный политический смысл (т. е. помимо прочего, открыто приказы-
валось нарушать тайну исповеди!), о раскольниках и разных сектах и т. д. И эти
распоряжения не были отменены и в XIX веке. О тяжелом нравственном и
материальном состоянии русского духовенства еще будет у нас идти речь ниже.
Выборность священнослужителей разных рангов, господствовавшая в Древней Руси,
постепенно в верхних эшелонах церковной власти вытеснялась назначениями.
«Внизу», в приходах в петровское время определились два способа утверждения и
существования священников: выборы прихожанами (с последующим утверждением
епископом) и наследственная передача детям (сын сам становился иереем, а дочь
выдавалась за претендента на должность). Наследственное право затем все более и
более укоренялось и вытесняло выборность. Последняя была вообще отменена при
Павле I. В XVIII веке уничтожилась и выборность причетников, т. е. пономарей и
дьячков, на эти места стали поступать тоже только лица духовного происхождения.
Даже жениться претендующий на место в
105
церкви должен был только на девице духовного звания, если же на «светской»
девушке, то практически он не мог рассчитывать на должность священника или
дьякона. Так создавалась замкнутость, кастовость духовенства. Приток в него из
других сословий был весьма затруднительным. Почти весь XVIII век действовал
закон, фактически запрещавший дворянам переходить в духовный мир; лицам
податных сословий и в XIX веке разрешалось переходить лишь при нужде, при
нехватке на какие-то вакантные должности лиц духовного звания. Конечно,
безусловно запрещалось переходить крепостным крестьянам.
И лишь при Александре II в 1869 г. был издан закон, ликвидировавший
наследственность и замкнутость духовенства, на церковные должности мог теперь
поступать любой гражданин; впрочем, для лиц податного состояния требовалось
разрешение губернатора! Дети духовных лиц уже не принадлежали к духовному
званию, были, так сказать, свободными от кастовости. Тем самым была уничтожена
сословность духовенства, ибо первый признак сословия — наследственная передача
прав и обязанностей. Но духовенство как класс оставалось, и законы почти полностью
уравнивали его с привилегированным классом дворянства: оно освобождалось от
телесных наказаний, от податей и налогов, от военной повинности и от постоя и т. д.
Вдовы священников пользовались правами личного дворянства. Любопытно, что
священнослужителям, в отличие от дворян, запрещались винокурение и продажа
спиртных напитков, но разрешалось на своей земле иметь соответствующие заводики
и торговые винные лавки — только не заниматься ими самому, а сдавать в аренду!
Еще ограничения и запреты духовным лицам: нельзя вообще торговать и участвовать
в промышленности, нельзя вмешиваться в мирские дела (в городских думах и земских
собраниях можно участвовать лишь в качестве представителя духовного начальства, а
не от себя лично), нельзя стричься и бриться, нельзя плясать и смотреть на
106
пляски, конечно же, — нельзя посещать театры и увеселительные заведения, нельзя

играть в карты и в азартные игры. Много ограничений было в семейной области. Не-
женатые священники допускались, но ими могли быть лишь лица старше 40 лет;
жениться же надо еще до посвящения в сан; вдовец, желающий жениться вторично,
мог оставаться на службе лишь в качестве причетника (о разводе же и думать нельзя!);
вдовцам нельзя держать в доме женщин, кроме ближайших родственниц...Если жена
священнослужителя будет замечена в блуде, то муж должен был развестись с ней или
отказаться от службы.
В целом в многомиллионной России духовенство занимало ничтожную количественно
долю: в 1890-х гг. на 80 миллионов православных обоего пола приходилось 38 тысяч
священников, 19 тысяч дьяконов, 75 тысяч причетников, то есть этот класс составлял
менее четверти одного процента от числа православных, был несравненно
малочисленное всех других классов России, но качественно он играл, конечно, весьма
весомую роль в жизни страны: без церкви не обходилась ни одна значительная акция в
жизни каждого человека (крещение, женитьба, похороны), не говоря уже о теснейшей
связи с церковью большинства граждан (участие в службах, исповеди и причастия,
консультации на нравственные темы и т. д.). Священнослужители находились при всех
группах жителей великой страны: при царском дворе и в небольших селах, в армии и
учебных заведениях, в посольствах за границею и на кораблях флота.
Как и в других сферах монархического режима церковь имела строго вертикальную
структуру властвования и подчинения. Во главе православной церкви находился
Святейший Синод, теоретически состоявший к концу XIX веке из 12 духовных
иерархов (митрополиты и архиереи), но практически ограничивавшийся семью. А над
иерархами стоял обер-прокурор Св. Синода, «царево око» во всех духовных делах.
Конечно, в Синоде работало много гражданских и духовных лиц, чиновников. С 1864
г.
107
появилась должность товарища обер-прокурора, т. е. заместителя (по аналогии с
заместителем министра; в XIX веке он назывался «товарищ министра»). Было еще два
«филиала» — синодальная контора в Москве и грузино-имеретинская в Тифлисе.
Синоду подчинялись все 66 епархий, т. е. духовных округов, как правило,
совпадающих с территориями губерний и областей. 64 епархии находились внутри
империи, две — за границей (алеутская в Америке и японская). Во главе епархии стоял
архиерей, носивший титулы митрополита или архиепископа (в отдаленных и не-
больших епархиях — просто епископа). Митрополитов было всего три на всю Россию:
Московский, Петербургский и Киевский. Митрополиты как бы заменяли отмененного
Петром I патриарха. Особенно большую роль играл митрополит Московский: он
короновал на царство всех императоров (хотя столица уже второй век была в
Петербурге, царский двор на коронацию приезжал в московский Кремль, где в
Успенском соборе происходил торжественный акт официального восшествия на пре-
стол). Если еще учесть, что среди московских митрополитов были выдающиеся
личности (Филарет Дроздов, митрополит с 1826 по 1867 гг., особенно значителен), то
можно считать их как бы заменяющими патриархов. Все управители епархий
назначались царем по представлению Синода.
Каждому епархиальному иерарху подчинялись местные монастыри и несколько сотен
приходов: церковь со всем причтом и церковная община прихожан составляют один
приход. Всего в России к концу XIX в. было 38 тысяч приходов. Группа приходов (до
тридцати) объединяется в благочиннический округ, во главу которого епархиальный
иерарх назначает благочинного, т. е. как бы старшего священника, своего помощника.
Им же назначаются и благочинные, следящие за монастырями. На волне либеральных
реформ Александра II в 1860-х гг. ввели выборность благочинных самими
