Егоров Б.Ф., Лотман Ю.М., Вердеревская Н.А., Щукин В.Г. и др. Из истории русской культуры. Том V (XIX век)
Подождите немного. Документ загружается.


священниками округа, но
108
в 1880-х гг. снова вернулись к назначениям. Если в церкви было несколько священников,
то главный из них, настоятель церкви, получал звание протоиерея (т. е. перво-
священника); старое звание протопопа практически исчезло в начале XIX века.
Все высшие иерархи (митрополиты, архиепископы, епископы) принадлежат к черному
духовенству, к монашествующим; они, как правило, имеют высшее духовное образование;
низшее духовенство — священники и диаконы — называется белым.
Вне епархиального подчинения находились церкви и духовенство придворного ведомства
(они подчинялись духовнику императора и императрицы) и церкви и духовенство
военного ведомства (они подчинялись протопресвитеру, т. е. старшему священнику армии
и флота). Непосредственно Синоду, а не епархиям, подчинялись и знаменитые, высшего
класса монастыри: четыре лавры и семь ставропигиальных монастырей
(ставропигиальный — от греческих слов «ставрос» — крест и «пегнио» — водружаю,
вбиваю: обычно сам патриарх всея Руси открывал эти монастыри).
Лавры: Киево-Печерская (основана в 1051 г., лаврой названа в 1598 г.), Троице-Сергиева,
под Москвой (основана Сергием Радонежским в середине XIV века, лавра — с 1744 г.),
Александро-Невская в Петербурге (основана в 1710 г., лавра — с 1797 г.), Почаевско-
Успенская на Волыни (основана в XVI веке, лавра — с 1833 г., ныне — в Тернопольской
области Украины).
Ставропигиальные монастыри: Соловецкий, четыре московских (Новоспасский за
Таганкой, Заиконоспасский близ Кремля на Никольской ул., Симонов, Донской),
подмосковный Воскресенский («Новый Иерусалим»), ростовский Спасо-Яковлевский.
В России было много и других знаменитых монастырей: древние новгородские, Псково-
Печерский, основанный в середине XV века, Кирилло-Белозерский и Валаамский,
основанные еще раньше, в XIV веке, Чудов монастырь в
109
Московском Кремле (тоже XIV век), но они не были возведены в ранг лавры или
ставропигиального монастыря. За рубежом страны были широко известны русские
монастыри на Афонской горе в Греции (не путать с Новоафонским монастырем в
Абхазии, созданным в 1876 г.).
Хотя монастыри распространены во всем христианском мире, да и не только
христианском (например, буддийские монастыри в Азии), но в России они играли
уникально важные роли, превосходящие значение зарубежных монастырей: вначале, при
почти полном отсутствии светской образованности, как очаги культуры, а в новое время
при все увеличивающейся конфликтности, напряженности, неустроенности жизни — как
очаги нравственно-психологического врачевания и духовного совершенствования.
Монастыри появились на Руси уже в первые годы по принятии христианства. Они очень
широко распространились в годы татарского ига и после него, многие монастыри
становились центрами культуры: в них создавались летописи, собирались и
переписывались книги, переводились греческие рукописи, неграмотные монахи получали
элементарное образование; при монастырях организовывались больницы и богадельни.
Появились школы для крестьянских и городских детей. Однако расширение монастырей,
значительное увеличение числа вступающих в обители имело и негативную сторону:
попадались лица, корыстно избирающие монашество; распространение пьянства и раз-
врата в некоторых монастырях, да еще и появление раскольничьих обителей заставило
светские и духовные власти в XVII веке принимать меры: запретили строительство новых
монастырей, стремились уменьшить и число существующих, ввели строгие правила для
пострижения и т. п. Петр I не любил монахов, считал их тунеядцами и ретроградами
(кстати, в самом деле, многие из них противились петровским реформам), готов был
вообще закрыть все монастыри, но не успел; однако свойственные ему радикальные
преобразования произвел: подтвердил
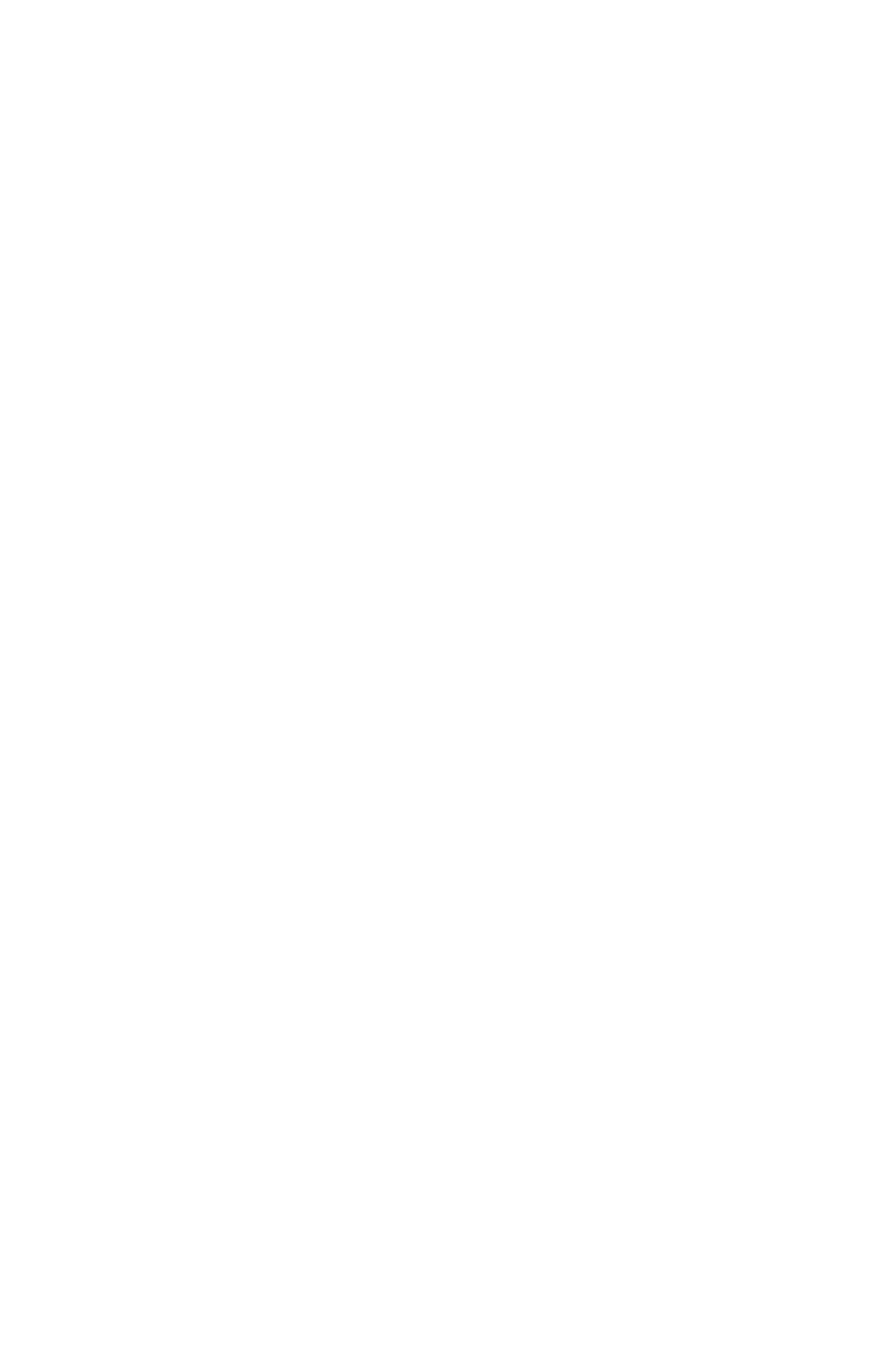
по
указом запрет на строительство новых монастырей, сократил слиянием число
существующих, ужесточил правила приема в монахи. При Елизавете Петровне
суровые законы были несколько смягчены, но Екатерина II снова занялась
переустройством и сокращением монастырей, ввела строгие количественные нормы
лиц и упразднила почти половину монастырей в России (из 1072 — 496).
При Александре I снова произошло смягчение законов и обычаев, а затем в течение
XIX века количество монастырей и монахов неуклонно росло, несмотря на ряд
бюрократических ограничений. К концу XIX века в России было около 500 мужских
монастырей с 8000 монахов и 7500 послушников и около 250 женских с 7000 мона-
хинь и 17 тысячами послушниц. Лишь одна треть всех монастырей находилась в
городах, остальные были в сельской местности, иногда даже совершенно отдельно от
сел и деревень.
Прежде чем стать монахом, претендент должен был несколько лет (как правило, три
года) проходить «испытательный срок», быть послушником и лишь, достойно проявив
себя, принимал постриг, т. е. прием в монахи, когда как бы совершалось второе
крещение: монах получал новое имя (без отчества и фамилии!). Пострижением
называлось и возведение в сан священника. Если же священник или монах снимали
сан, то это называлось расстрижением. В первом случае символическая стрижка в
самом деле осуществлялась, а у расстриг голову не трогали. Есть еще самый высокий
монашеский чин — схима; схимник соблюдал особенно строгие правила монашеского
служения. При великой схиме монах еще раз заново получал имя. Более простое
посвящение в монахи, минуя степень послушника, существовало при духовных
академиях: обычно монахами становились некоторые студенты-старшекурсники.
Академическое начальство внимательно присматривалось к умственным и
нравственным качествам студентов и, незадолго до выпуска, предлагало лучшим
принять монашество. Для академии было почет-
Ill
но, если несколько выпускников уже было пострижено в монахи. Это были будущие
ректоры и профессора духовных учебных заведений, епископы, митрополиты.
Разумеется, и в новое время — в семье не без урода — оказывались лицемерные,
корыстные, тунеядствующие люди, использующие монастырь отнюдь не в высоком
религиозном смысле. Были бездельники, пьяницы, даже развратники И однополые, и
обычные. В Нижегородском областном архиве мне попалось дело середины XIX века:
предписание полиции о насильственном снесении незаконно и наспех построенного
городка вокруг мужского монастыря; в этих постройках проживали женщины сомни-
тельного поведения, и городок представлял «опасность не только в пожарном, но и в
нравственном отношении». Или рассказ моего отца о спуске и чистке пруда при
женском монастыре в г. Балашове Саратовской губернии: в иле были найдены
скелетики новорожденных младенцев.
Эта — лицемерная — сторона монашеской жизни нашла отражение и в народном
мнении, и в художественной литературе: вспомним образ мажорного, жизнелюбивого
отца Варлаама в пушкинском «Борисе Годунове» (эти черты еще более усилены в
опере Мусоргского). Но была и другая сторона, другие люди, чей облик отображен у
Достоевского, Лескова, на картинах М. В. Нестерова. К счастью, именно они
составляли цвет русского монашества: это люди глубокой духовной культуры, сво-
бодно и целеустремленно ушедшие от всего мирского, отдающие себя Богу и
человечеству. Именно они и народ воспитывали в русле настоящей религиозности и
высокой нравственности. Чем ближе подходила Россия к XX веку, тем больше
отмечались реальные, даже материальные деяния монастырей и монахов: организация

богаделен, больниц, мастерских, школ. Развивалось садоводство, овощеводство,
рыбоводство. Монашки плели кружева и шили одежду, среди монахов были хорошие
ремесленники и кузнецы. Но самым главным, могучим видом монастырской «пользы»
была нравственно-психологическая
112
помощь. Особенно это проявилось в своеобразном национальном нашем явлении
старчества, известном еще с первых веков христианства, но особенно распространив-
шемся в XIX веке.
Как правило, у старцев был, по примеру древних христианских монахов, период
отшельничества: они удалялись из монастыря в пустынные местности, в леса, в
пещеры и жили там годами, совершенствуя свое благочестие и религиозную,
духовную глубину. Иногда старцы возвращались потом в монастырь, помогали
монахам и богомольцам советами и примером. Именно духовная помощь людям стала
характерной особенностью русских старцев, и показательно, что именно XIX век дал
интенсивный всплеск самого института старчества и массового, измеряемого
тысячами и десятками тысяч паломников в год, наплыва посетителей к старцам.
Очевидно, народ, измученный войнами, неурожаями, притеснениями, личными
бедами и неурядицами очень нуждался в нравственно-психологической поддержке,
которую не всегда могли оказать местные священники. Старцы же, единичные гении,
умные, тонкие, образованные, всегда могли дать мудрый совет, утешить страждущего,
утешить его горе, разрешить нравственные сомнения, возродить высокие религиозные
чувства. Потому и шли толпами к знаменитым старцам, шли не только простые
крестьяне, но и мещане, купцы, военные, чиновники и даже настоящая интеллигенция.
Самым известным старцем начала XIX века был Серафим Саровский (1760—1833). В
миру Прохор Мошнин, он 20-летним юношей пришел в Саровский (Тамбовская
губерния) монастырь, прошел искус послушника, стал монахом Серафимом и вскоре
удалился в лесную чащу, построил там келью и много лет жил уединенно, питаясь
плодами маленького огородика и лесными дарами, углубляясь в Библию и молитвы.
Изредка он приходил в монастырь для причастия и покаяния, но ни с кем почти не
общался. Вокруг него уже складывались легенды: о раз-
113
бойнике, досетившем старца, о дружбе с медведем и другими дикими зверями...
Наконец, через 30 лет, где-то около 1812 г., Серафим как бы открыл себя людям: он
стал принимать всех посетителей, сам ходить в монастырь и там общаться с монахами
и богомольцами. На беседующих с ним врачующе действовал уже внешний облик Се-
рафима: тихий, кроткий, проницательно умный старец со светящимся,
одухотворенным лицом. И советы он давал разумные и глубокие. Слава о нем,
конечно, быстро распространилась по всей стране, и тысячи паломников направились
в Саровский монастырь. Двадцать лет врачевал Серафим духовные и душевные
болести. В 1903 г. русская православная церковь канонизировала его как святого.
Поразительно, что во многих и многих церквах имеются копии знаменитой иконы,
изображающей старца почти во весь рост и очень «реалистично» передающей черты
его одухотворенного лица; кажется, это первая икона, воспроизводящая облик святого
старца XIX века. Подлинник иконы, увы, находится далеко от России: бури Граж-
данской войны занесли ее в Киев, потом в Берлин, а ныне она украшает церковь
православного Дивеева монастыря близ Нью-Йорка. Слава Богу, естественно, что она
вообще сохранилась. Автору этих строк выпало счастье стоять перед нею: сила
впечатления может сравниться только с воздействием икон и фресок Рублева и
Дионисия.
В середине и конце XIX века центром старчества стала Оптина пустынь. Когда-то, при

основании, в XIV— XV вв., это в самом деле была «пустыня», «пустынь»: глухие
калужские леса, дебри, тишина. А к началу XX века рядом, в двух верстах, вырос
довольно большой уездный город Козельск, в самом же монастыре жило до 300 мона-
хов, не считая паломников.
По одной легенде монастырь основал раскаявшийся разбойник Опт (Опта), по другой
— название происходит от значения, близкого к современному «оптовый», т. е.
подчеркивающего общее, всеобщее пребывание и владение. Монастырь не был
знаменитым, к концу XVIII века
114
он совсем захирел, в нем жило всего три монаха. Но выдающийся Московский
митрополит Платон (Лёвшин), управлявший своей епархией с 1775 по 1812 гг. (а Ка-
лужская губерния входила в его духовный округ), обратил внимание на красивое
месторасположение монастыря на берегу реки Жиздры и содействовал его возрождению в
начале XIX века. Платону последовал, после образования Калужской епархии, ее молодой
архиерей Филарет (Амфитеатров), будущий Киевский митрополит. По его инициативе
возле монастыря был построен отшельнический скит, куда поселились духовные внуки
(ученики учеников) знаменитого старца Паисия Величковского, жившего в Молдавии.
Первым оптинским старцем стал выходец из купеческого сословия о. Леонид (Лев
Данилович Наголкин), в схиме получивший имя Льва (1768—1841); это имя очень
соответствовало его облику: высокого роста, живой, грубоватый, с громадной гривой
волос. Толпы народа осаждали келью, получая его мудрые советы и наставления.
Посетивший его протоиерей из Козельска удивлялся, зачем Леонид-Лев утруждает себя,
целые дни возясь с посетителями. Леонид-Лев весомо ответил, что, конечно, общение с
народом — дело мирских иереев, но у вас, дескать, времени-то на это нет, вот и
приходится с народом возиться инокам... Шумные толпы посетителей раздражали
настоятеля монастыря, он запрещал Леониду принимать людей, переводил его из скита в
монастырь, где запирал инока, снимал с него схимническую одежду, — ничто не
помогало, народ все равно к нему прорывался. Пришлось закрыть глаза на шум и суету.
За семь лет до кончины Леонида-Льва у него появился замечательный помощник, второй
оптинский старец — о. Макарий (в миру Михаил Николаевич Иванов; 1788— 1860),
хорошо дополняющий старшего схимонаха: Макарий — дворянин, помещик,
образованный вообще и в религиозной литературе в частности, мягкий по характеру.
Продолжая дело Леонида-Льва, т. е. духовное и душевное
115
врачевание обращавшихся к нему, он начал великое дело оптинского книгопечатания.
В монастыре благодаря подаркам учеников и поклонников старца Паисия Велич-
ковского образовалась основательная библиотека рукописей старца, главным образом,
его переводов с греческого на церковнославянский язык святоотеческой литературы
первых веков христианства. В Петербурге уже было издано (в переводе со славянского
на русский) пятитомное собрание трудов святых отцов, подготовленное Паисием Ве-
личковским, под общим названием «Добротолюбие». Ма-карий продолжил издание
рукописей старца, а также издал жизнеописание о. Паисия. Готовить рукописи к печа-
ти и вычитывать корректуры помогали Макарию его ученики и соратники по
монастырю, а также И. В. Киреевский, известный славянофил, и его жена Наталья
Петровна (Макарий был их духовным отцом). Книги печатались в Москве, там
помощь оказывали те же Киреевские и проф. С. П. Шевырев.
Активная и разносторонняя деятельность Макария, как это почти всегда бывает,
вызывала, наряду с восторженными и благоговейными откликами, и пересуды,
сплетни. То возникали доносы — якобы тексты Паисия имеют канонические изъяны,
то до Московского митрополита Филарета докатывался слух, что якобы Макарий чуть
ли не по месяцу гостит в имении Киреевских и пренебрегает своими старческими

обязанностями по монастырю, и митрополит сердился (хотя на самом деле оказалось,
Макарий приезжал всего на три дня). Но Макарий непоколебимо до самой смерти нес
свой крест.
Издательскую деятельность Макария, опять же с учениками и собратьями, продолжил
третий знаменитый оп-тинский старец — о. Амвросий (в миру Александр Михайлович
Гренков, 1812—1891), выходец из духовной среды (окончил семинарию). Но он, в
отличие от Макария и ближе ко Льву, на первое место ставил общение с людьми, и в
самом деле превзошел всех своих предшественников в умении духовно и душевно
помогать людям. Его проница-
116
тельность и прозорливость поражали пришедших к нему незнакомых людей, его
советы оказывались удивительно полезными и действенными. Старца посещали Л. Н.
Толстой, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, большое влияние он оказал на К. Н.
Леонтьева. Без знакомства с Амвросием Достоевский вряд ли мог бы создать свой
потрясающе яркий образ старца Зосимы в «Братьях Карамазовых».
Монашеский мир и особенно старцы сыграли большую роль в религиозной жизни
России XIX века, даже значительно большую, чем мирское духовенство. Дело ведь не
только в том, что у старцев времени было больше, чем у обычных священников, как
деликатно объяснял о. Лев, но и в возможности их, старцев, выбора посетителями. Как
в больничных историях: если у тебя нет вариантов, если обязан идти в данную
поликлинику к назначенному врачу, то здесь могут быть самые различные, в том числе
и плачевные результаты. Но если ты можешь выбирать докторов и идти к
талантливому, то, разумеется, успех лечения гарантирован. И то, что люди могли
выбирать своих духовников и врачевателей, давало поразительно действенные
результаты.
И потом еще следует учесть, что старцы были относительно свободными людьми.
Конечно, они тоже подчинялись законам, часто суровым и деспотичным, они тоже
страдали под разными интеллектуальными и моральными прессами, но все же они
жили относительно обособленно и могли относительно раскованно, творчески
беседовать с людьми и давать им творческие же наставления. Мирское же духовенство
находилось в несравненно более жестких, иерархических, деспотических условиях, и
духовная отдача прихожанам была у них сильно ослаблена по целому ряду причин.
Прежде всего — это неумолимо жесткое вхождение в иерархическую пирамиду,
которую возглавляли люди, обычно не имевшие никакого отношения к религии, —
чиновники Синода.
Начинал девятнадцативечный список обер-прокуроров Св. Синода
полуанекдотический стихотворец граф
117
Д. И. Хвостов, ничего, конечно, общего с церковными делами не имевший. После
краткого периода его заменили тоже калифом на час А. А. Яковлевым, грубым, дерзким
чиновником; по просьбе членов Синода он был смещен. С 1803 г. Синод возглавил друг
юности императора кн. Александр Николаевич Голицын (1773—1844), вначале живой
вольтерьянец, презиравший религию, а потом ударившийся в религиозный мистицизм.
Александр I благоволил к Голицыну и именно для него создал в 1817 г. странное
министерство духовных дел и народного просвещения. Если департамент духовных дел в
министерстве возглавил выдающийся масон и мистик
1
А. И. Тургенев, то департамент
народного просвещения — хотя и почтенный чиновник, но фактически хлыстовец,
завсегдатай салона Татариновой В. М. Попов (см. о хлыстах ниже). Православная церковь
и так была уже унижена подчинением Синоду, а тут еще и Синод был унижен: Голицын,
став министром, передал должность обер-прокурора кн. П. С. Мещерскому и подчинил
его себе, т. е. практически — А. И. Тургеневу, присвоив себе некоторые синодские пре-

рогативы, например, назначение епископов в епархиях. Чиновничий иерархизм
соседствовал при Голицыне и Тургеневе с терпимым отношением к сектантам, а видные
гости, представители западных христианских конфессий — католики, протестанты,
квакеры и т. п. — даже пользовались почетом, принимались императорской семьей. Воца-
рился как бы космополитический, «экуменический», говоря языком XX века, дух,
вызывавший в консервативных православных кругах вначале глухой ропот, а потом и
прямое противодействие.
К началу 1820-х гг. на царя все большее влияние стал оказывать граф А. А. Аракчеев,
ненавидевший Го-
1
Масонство и мистицизм не одно и то же: мистицизм антирационалистичен и, в отличие от
масонства, является религией чувства, проповедником «внутренней церкви», непосредственного
соединения с Богом; но масоны часто становились мистиками: настолько мистические учения
XVIII — начала XIX веков были популярны и завлекательны.
118
лицына и постепенно оттеснивший его от покровителя. В 1821 г. по совету Аракчеева
Петербургским митрополитом был назначен московский владыка, консервативный
митрополит Серафим Глаголевский. В 1822 г. Александр запретил все тайные общества —
это был прямой удар по масонству и мистицизму. Льнувшие к всесильному министру
деятели, увидев, куда ветер дует, стали покидать Голицына и переходить в лагерь его
противников; особенно была колоритна измена его правой руки, попечителя Казанского
учебного округа М. Л. Магницкого. Неожиданно возвысился молодой, фанатичный и
аскетический монах Фотий: покровительствуемый влиятельной графиней А. А. Орловой-
Чесменской, он из недоучившегося студента (не закончил духовной академии) быстро
сделался Юрьевским (в Новгороде) архимандритом, принимаемым неоднократно царем.
Именно Фотий открыто выступил против Голицына в 1824 г.: в доме графини Орловой он
встретил министра требованием покаяния и отречения от лжепророков; взбешенный
Голицын немедленно ушел, а Фотий вослед ему кричал: «Анафема!». Поддержанный
Аракчеевым, точку над «1» поставил митрополит Серафим: он явился к царю, положил
белый клобук к ногам Александра и заявил, что не примет его на свою голову, пока царь
не скажет о смене министра. Император решился на перемену: Голицын со своими
помощниками ушел в отставку, министром был назначен адмирал А. С. Шишков. В
министерстве, помимо «просвещения», осталось лишь ведомство иностранных
вероисповеданий, а православная часть была возвращена Синоду.
Безликий кн. Мещерский потом долго возглавлял Синод, до 1833 г., т. е. уже и при
Николае I. После небольшого перерыва обер-прокурором был назначен граф Николай
Алексеевич Протасов (1798—1855), и он пробыл во главе Синода всю оставшуюся часть
николаевского царствования, 20 лет (1836—1855). Это был типичный офицер, полковник
лейб-гвардии гусарского полка, который и в церковном ведомстве пытался установить
военный поря-
119
док, военную дисциплину, за что и был пожалован царем генеральским чином. Чем он
был любопытен — это стремлением обмирщить духовные учебные заведения: он ввел
русский язык преподавания (до этого была латынь), а также совсем не церковные
предметы: естествознание, медицину, сельское хозяйство (при Александре II последние
два предмета упразднены, при Александре III снова восстановлены в некоторых
семинариях).
При Александре II в течение почти всего его царствования (1865—1880) обер-прокурором
был граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823—1889). Происходя из древнего рода,
окончив Александровский (бывший Царскосельский) лицей, он быстро поднимался по
ступенькам чиновничьей лестницы; через год после обер-прокурорства он еще был
назначен министром народного просвещения; в отличие от кн. Голицына, он никому не
передал первую должность, а так и процарствовал в обоих ведомствах 15 лет. Мало
сказать, что он был матерый реакционер. Он еще имел тяжелый, отвратительный
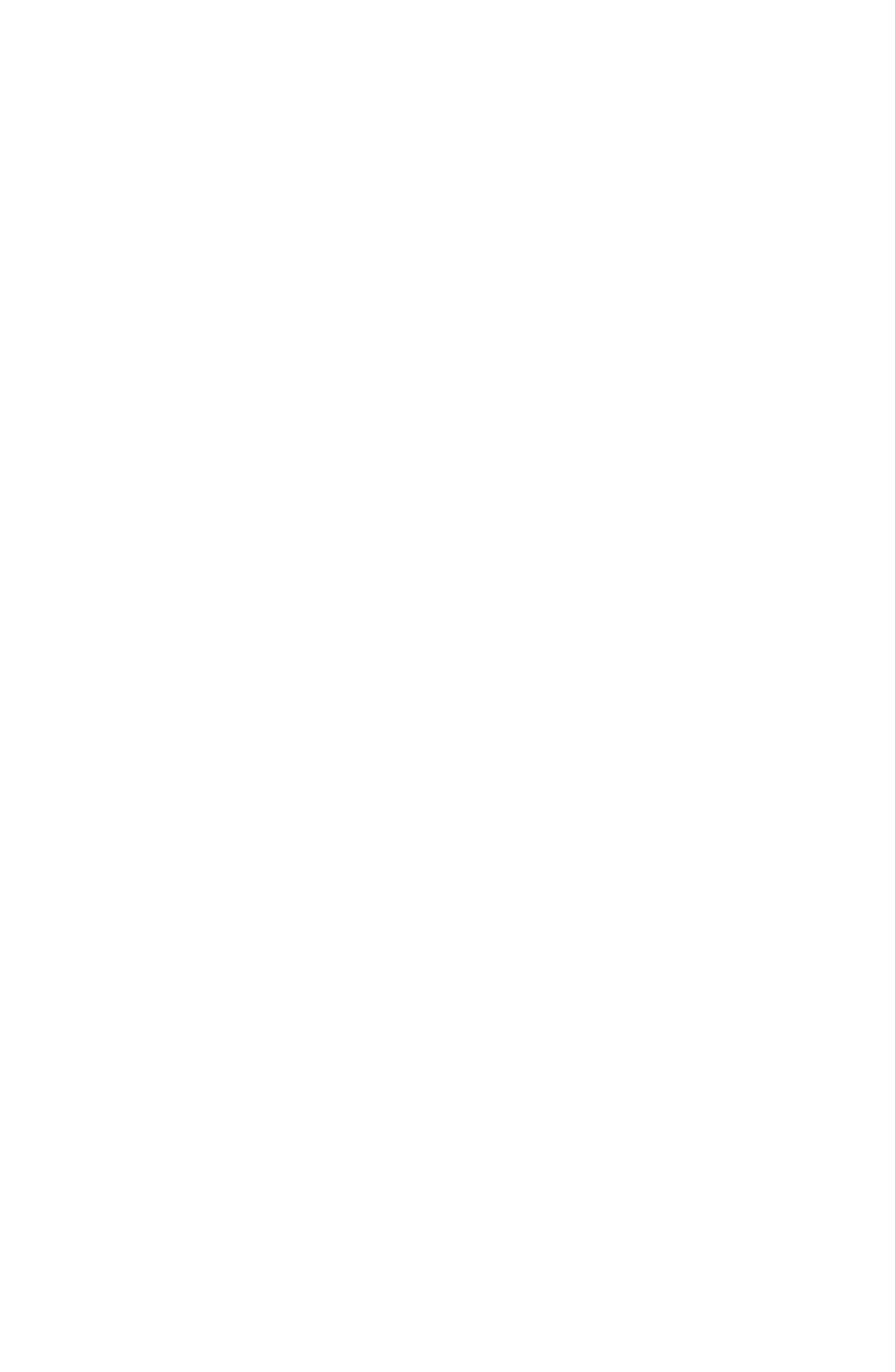
характер, очевидно, изломанный с детства (отец его, в пьяном виде сболтнувший
собеседнику, что жена того — его любовница, был застрелен «потерпевшим»; мать потом
вышла замуж за ничтожного гувернера; мальчик стал, таким образом, почти сиротой и
очень бедным). Б. Н. Чичерин ярко обрисовал этого человека: «...не глупый, с твердым
характером, но бюрократ до мозга костей, узкий и упорный, не видавший ничего, кроме
петербургских сфер, ненавидящий всякое независимое движение, всякое явление свободы,
при этом лишенный всех нравственных побуждений, лживый, алчный, злой, мстительный,
коварный, готовый на все для достижения личных целей, а вместе доводящий раболепство
и угодничество до тех крайних пределов, которые обыкновенно нравятся царям, но во
всех порядочных людях возбуждают омерзение» (Чичерин, 1929, с. 192—193).
Толстой при этом презирал духовенство с высоты своего дворянского величия (он
настолько был пропитан клас-
120
совым и корпоративным духом, что на много недель задержал запрещение
«Отечественных записок»: видите ли, во главе крамольного журнала стоял М. Е.
Салтыков-Щедрин, который мог обижать министра едкой сатирой, но он был «свой» —
лицеист!). Конечно, Толстой читал, что церковь и должна быть униженной, она должна
подчиняться государству, правительству. Кажется, из всех обер-прокуроров Синода это
был самый неверующий православный человек! Церковные иерархи, естественно,
ненавидели его. Когда он умер, Петербургский митрополит Исидор так отозвался о своем
«начальнике», по записи в дневнике А. В. Богданович: «Он не жалеет Толстого,
рассказывал про него, что никто не помнит, когда он причащался. В бытность его обер-
прокурором Синода, он ни разу не был в Исаакиевском соборе, не заглядывал в
синодальную канцелярию, где только висел его мундир на вешалке» (Богданович, 1924,
97).
Либеральное окружение Александра II смогло в 1880 г. уговорить царя уволить Толстого с
обоих постов. Существует легенда, что, совпав с Пасхой, отставка ненавистного
ретрограда вызвала ликование приходивших на заутреню в Зимний дворец, и люди
целовались, произнося не только слова о воскресении Христа, но и еще: «Толстой сменен,
воистину сменен!» Зато при Александре III Толстой воспрянул в качестве министра
внутренних дел.
Но Толстого в должности обер-прокурора Синода сменила не менее мрачная фигура —
Константин Петрович Победоносцев (1827—1907). Это самый долговечный обер-
прокурор в царской России, он занимал этот пост четверть века, с 1880 по 1905 гг. И
наверное, его можно считать са-мым-самым консервативным из всех его предшественни-
ков. Сослуживцы его утверждали, что ему была невыносима любая положительная
программа действий, он признавал или статус-кво, или попятное движение. Выпускник
Училища правоведения, он поднялся до профессорской кафедры в Московском
университете (1860—1865), был умен и в меру либерален (Б. Н. Чичерин говорил, что ме-
жду ними тогда были чуть ли не дружеские отношения),
121
обратил внимание царя, который пригласил его преподавать юридические предметы
наследнику, рано умершему Николаю Александровичу, а потом Победоносцев стал
учителем и последующих наследников — вначале будущего Александра III, а уже при
этом императоре — его сына, будущего Николая II. Так Победоносцев оказался при
дворе, так он получил высокий пост обер-прокурора Синода. Уже в конце
царствования Александра II он был отъявленным консерватором, а при Александре III
— тем более. Именно он являлся автором программного манифеста при восшествии
Александра III на престол, манифеста, содержание которого потрясло либеральных
министров Александра II и заставило их сразу же уйти в отставку. И в церковной
сфере Победоносцев проводил крайне консервативную политику, пользуясь
поддержкой царей.

Таковы были властители русской православной церкви в XIX веке. Они определяли
законы и обычаи, они выбирали подходящих лиц на архиерейские должности, они,
когда нужно им было, и перемещали архиереев с места на место или вообще
отправляли в «отставку», на покой... Они правили церковной жизнью. А
соответствующие архиереи управляли, по нисходящей, своими епархиями, назначали
и смещали благочинных и священников.
В такой пирамидальной иерархии преобладали люди не самостоятельные, не
творческие, с изрядной долей раболепства и карьеризма. Но, как часто бывает в жизни,
сквозь жесткую сетку направленного отбора прорывались и талантливые уникумы,
оставлявшие заметный след в истории не только церковной, но и светской культуры.
Среди православных иерархов XIX в. особенно выделялся Московский митрополит
Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов, 1782—1867), почти полвека управ-
лявший вверенным ему округом (с 1821 г.).
Сын коломенского дьякона, В. М. Дроздов, по окончании в 1803 г. Сергиево-Лаврской
семинарии (которая тогда была почти на уровне высшего учебного заведения), был
оставлен в ней для преподавания. В 1808 г. он при-
122
нял монашество и стал Филаретом; вскоре был вызван в Петербург и уже в 1812 г.
определен ректором Петербургской духовной академии, коей управлял пять лет. Его
таланты ученого и проповедника были рано замечены, отсюда такое быстрое
продвижение. Подчеркнем еще универсальность интересов молодого монаха: живой и
любознательный, он жадно изучал богословские науки, языки, философию, любил
музыку (пел в хоре, играл на гуслях), увлекался шахматами и рыбной ловлей. Но при
этом он с юных лет отличался самообладанием, самоанализом, сильным
диалектическим умом — и никогда не впадал в крайности. Конечно же, он был
замечен кн. А. Н. Голицыным, и привлечен в организованное им в 1813 г. Библейское
общество (Голицын стал его президентом). Филарет принял активное участие в
осуществлении самой замечательной идеи, вызревшей в этом обществе, — перевести
на русский язык Библию (ведь до тех пор великая книга существовала в России лишь
на церковнославянском языке: слабые попытки перевести на русский намечались
лишь при Петре I, а потом более 100 лет не предпринимались).
Филарет с помощью трех петербургских богословов перевел прежде всего четыре
Евангелия, которые были изданы в 1818 г. массовым тиражом в два столбца: па-
раллельно славянский и русский тексты. Затем был закончен весь Новый Завет и
выпущен двумя изданиями в 1821 и 1822 гг., тиражом 110 тысяч экземпляров. Вся
читающая Россия была обрадована этим мероприятием, но нашлись и
недоброжелатели: ведь в церковнославянском переводе было немало неточностей и
ошибок по сравнению с греческим подлинником, приходилось объяснять, почему
имели место расхождения; консерваторы, в том числе и члены Синода, роптали. А
когда Библейское общество приступило к переводу Ветхого Завета (первым была в
переводе Филарета и его помощников в 1823 г. издана Псалтырь: двенадцатью
изданиями и 100 тысячью экземпляров!), то уже над Голицыным сгуща-
123
лись тучи и росла критика переведенных частей Библии (надо сказать, что в критике были
и рациональные зерна: чтобы не слишком далеко отступать от церковнославянского
текста Ветхого Завета, переведенного в свое время с греческого языка, не учитывались
некоторые расхождения с древнееврейским подлинником и т. п.)-
Александр I, сперва сочувственно относившийся к трудам Библейского общества,
особенно — к русскому переводу Библии, с начала 1820-х гг. стал все более враждебно
воспринимать деяния Голицына (любопытно, что европейская реакция в свете растущего
национально-освободительного движения весьма болезненно воспринимала организацию

национальных Библейских обществ и переводы Священного Писания на современные
языки: например, римские папы дважды запрещали перевод на польский язык!). В 1824 г.
царь заменил Голицына на посту президента Библейского общества его противником,
Петербургским митрополитом Серафимом. В 1825 г. уже отпечатанный тираж первого
тома Ветхого Завета на русском языке (предполагался пятитомник) был сожжен. Придя к
власти, Николай I вообще закрыл Библейское общество. Эти уроки не прошли даром для
Филарета, он на много лет замолчал как переводчик, и лишь на закате своих дней, при
Александре II, возобновил замысел полного перевода Библии
2
.
Филарету доставалось от недоброжелателей с самого его появления в Петербурге: в его
ранних проповедях находили пантеизм и мистику (не без оснований, заметим: в печатных
текстах молодого богослова были рассуждения о внутреннем храме, о Боге, о Христе в
нашей душе и т. п.).
2
Любопытно, что Филарета опередил (а, может быть, и подтолкнул?) А. И. Герцен: в его лондонской
типографии в 1860 г. было издано в переводе В. И. Кельсиева, известного эмигранта, Пятикнижие
(Тора), первая часть Ветхого Завета. Эта публикация, видимо, не известная историкам русской
библеистики, отмечена в недавней статье: Гурвич-Лищинер С. Атеистическое художественное
сознание в русской философской прозе середины XIX в. и Библия. — Jews and Slavs. Vol. 4. Jerusalem,
1995. P. 117,123.
124
Вступив в 1824 г. в должность министра народного просвещения, адмирал Шишков стал
придираться к соратнику Голицына, архимандриту Филарету, доложил самому
императору, что в «Православном катехизисе» Филарета «молитвы» «Верую» и «Отче
наш» приводятся в переводе на русский язык, и возмечтал о запрещении всей книги, плода
многолетнего напряженного труда Филарета...
Но умный Филарет очень ловко повернул критику: во-первых, наповал сразил почтенного
старовера, упрекнув его в религиозной малограмотности («Верую» не молитва, а символ
веры), во-вторых, подчеркнул цензорское разрешение Синода, поэтому сомнения в
православное™ катехизиса означает подкоп под православие Синода. В общем
архимандрит отвел от себя готовившиеся громы и молнии.
Нападки на Филарета кончились в 1826 г. Он произнес при восшествии на престол
Николая I такую яркую речь-проповедь, она так понравилась молодому императору, что
тот сразу же возвел Филарета в сан митрополита и потом всю свою жизнь оказывал ему
покровительство. Это дало возможность Филарету спокойно произносить проповеди,
писать и издавать книги... Но за все нужно платить, и цена величавого покоя была очень
высокая: Филарет, вникавший во все дела и дни Московской епархии, читавший в
рукописях многие предцензурные книги, участвовавший почти на всех выпускных
экзаменах и защитах диссертаций в Московской духовной академии, был весьма и весьма
суровым цензором и кадровиком, если так можно выразиться. Он не выносил
субъективных, личных отклонений от строгих канонов, он отбирал умных и работящих
священников, богословов, монахов, но находившихся в шорах, не выходящих из
положенных границ.
Казалось бы, испытав тревоги и гонения по поводу своих проповедей и переводов, он
должен был бы сочувственно относиться к аналогичным страдальцам в последующие
годы, во времена своего могущества. Нет, наоборот. Показательны примеры с
профессором Петербургской духовной академии Г. П. Павским, в 1810-х гг. со-
125
ратником Филарета по переводу Библии. Возможно, что уже тогда Филарет чем-то
был недоволен (известно, что Павский настаивал на точном переводе Ветхого Завета с
древнееврейского, независимо от соответствия или расхождения с
церковнославянским текстом), но в 1836 г. митрополит воистину взорвался, при всей
своей выдержанности. Уже 10 лет Павский был не только видным профессором,
доктором богословия, но и законоучителем у детей Николая I, прежде всего — у
наследника престола. И вот Филарет дал совершенно разносный отзыв о лекциях

Павского и о его программной книге «Христианское учение...», якобы там проводятся
идеи протестантизма. Павский ответил «дерзкими» возражениями, ни с чем не
согласившись, но где ему было тягаться с всесильным митрополитом! У Пушкина в
дневнике от февраля 1835 г. есть запись, свидетельствующая о том, что петербургское
общество неодобрительно отнеслось к «спору»: «Филарет сделал донос на Павского,
будто бы он лютеранин, — Павский отставлен от великого князя. Митрополит
<Петербургский> и Синод подтвердили мнение Филарета. Государь сказал, что в
делах духовных он не судия; но ласково простился с Павским. Жаль умного, ученого и
доброго священника!» (Пушкин, VIII, 63). Павского отставили не только от двора, но и
от Академии, его послали священником в церковь Таврического дворца.
Принцип «от каждого по способностям» часто отсутствовал не только при советском
социализме, но и в царской России. Выдающийся богослов, знаток древних языков
должен был служить простым иереем...
Но на этом мытарства Павского не кончились. Уже после его увольнения из Академии
группа студентов собрала конспекты лекций профессора по Ветхому Завету и издала
их литографским способом. Павский в течение нескольких лет читал студентам свой
перевод Ветхого Завета непосредственно с древнееврейского языка и подробно
комментировал его, поэтому изданные лекции имели и церковное, и научное значение.
Студенты знали о «не-
126
каноничности» перевода и старались распространять литографированные лекции
полулегально, среди своих, но ценная книга разошлась быстро по другим городам и
академиям. В 1841 г. инспектор Московской духовной академии о. Агафангел (будущий
ректор Казанской академии и потом архиепископ Волынский) подбил четырех своих
студентов написать доносы всем трем русским митрополитам (анонимно, да еще и
отправить письма не из Сергиева Посада!) о великих прегрешениях Павского. Главный
упрек был именно в точности перевода, когда в тексте Ветхого Завета исчезали, например,
желанные пророчества о пришествии Христа и заменялись, как и было в подлиннике,
туманными разговорами о мессиях; а Павский в своих исторических комментариях еще и
подчеркивал невозможность христианских предвидений библейских пророков.
Филарет сильно разгневался на Агаф&нгела, вынесшего сор из избы (он бы постарался
разобраться без шума и тихо изъял бы книгу Павского), но уже нельзя было замять
историю, которая стала известной обер-прокурору Синода графу Протасову. Он создал
под своим руководством комиссию, куда вошли два Филарета, митрополиты Московский
и Киевский. Павскому был учинен допрос, он пытался отрицать согласие на издание
лекций (хотя потом стало известно, что он давал студентам тексты своих переводов),
оспаривал обвинения относительно подробностей и неточностей перевода. Московский
Филарет провел потом увещевательную беседу с несчастным профессором и заставил его
отречься от «заблуждений». По распоряжению Синода все обнаруженные экземпляры
лекций изымались и уничтожались.
Насколько деспотическая и формалистская атмосфера николаевской эпохи засушила душу
и научную совесть видного богослова, свидетельствует такой колоритный факт. Шла
защита диссертации в Московской духовной академии, на которой присутствовал и
Филарет. Диссертант, исследовавший борьбу православной церкви со старо-
127
обрядцами в XVIII веке, процитировал на диспуте интересную заметку митрополита
Платона о ненужности полемики с раскольниками. Эта мысль входила в сложный
контекст рассуждений владыки, но Филарет встрепенулся именно из-за одной фразы:
знаменитый Платон, учитель и благодетель Филарета, не должен был отрицать
необходимость полемики со старообрядцами! И Филарет громогласно заявил, что такого
не может быть! Диссертант сослался на документ: рукопись с заметкой Платона хранилась
в библиотеке Лавры. Филарет потребовал рукопись, ему принесли, он держал ее какое-то
