Егоров Б.Ф., Лотман Ю.М., Вердеревская Н.А., Щукин В.Г. и др. Из истории русской культуры. Том V (XIX век)
Подождите немного. Документ загружается.


что в целом составляет психический процесс, протекавший в условиях внешнего
благополучия, в условиях досуга, вольной праздности. Сказанное, разумеется, не
означает, что переживания дворянина менее ценны или «этичны», чем страдания
разночинца или пролетария. Непреходящая ценность дворянской культуры, а сле-
довательно, и «усадебного психологизма» как раз и заключается в бережном отношении к
движениям души, во внутреннем такте.
Истоки усадебной поэтичности, как уже было упомянуто, следует искать в
просветительском (сначала классицистическом, а затем сентиментальном) взгляде на
природу, человека и на его жилище, а также в романтическом переосмыслении культуры
прошлого. Каким же образом,
580
при помощи каких художественных установок и средств эта поэтичность воплощалась в
литературном жанре?
Для этого нужно сперва ответить на вопрос: к чему призывал этот жанр читателя, что
заставлял его делать? Ответ достаточно ясен: читатель усадебной повести поэтически
переживал монодраму. Главенствующую роль в ней играл рассказчик, осуществлявший
контроль над судьбами и высказываниями героев. Их жизненные пути и идеологические
позиции представлены в своей завершенности, так как уже успели стать историей.
Поэтика усадебной повести — это поэтика воспоминания. В годы расцвета усадебной
культуры (последняя треть XVIII — начало XIX века) ретроспекция эта могла
осуществляться в форме оды или идиллии. Но в середине XIX столетия, когда в русскую
жизнь все настойчивее врывались чуждые усадьбе социальные голоса, а сама усадьба
отходила в прошлое, идиллия стала превращаться в элегию.
Элегические по тону повести Тургенева, Нестроева и Салова, конечно, не были поэзией, и
не только потому что их написали прозой. Их язык далек от поэтического абсолютизма;
социальное разноречие вводится и в прямой речи, и в речи повествователя, создавая
особые зоны героев. Поэтому в усадебных повестях — в особенности у Тургенева — все-
таки звучит разноязыкое романное слово. В то же время поэтизация утрачиваемого рая
была немыслима без чисто поэтических по своей природе центростремительных
тенденций в слове, а также в предметно-образной сфере и композиции. Оттого-то
Тургенев, изображая героя переживающего, оставляет за собою право авторской
упорядочивающей передачи внутренней речи этого героя
9
. Автор «Ру-дина» и
«Дворянского гнезда», трезво осознававший иллюзорность и анахроничность
романтических стереотипов, столкнулся с сильным «сопротивлением материала», из
которого складывался его «родной» хронотоп, обросший в массовом литературном
сознании образом-клише: болезненного юноши, старого слуги, парка при луне,
заглохшего сада с лопухами и крапивой... Будучи не только реалистом, но и
рационалистом, Тургенев все же включил эти
9
Ср. Бахтин М. М. Указ. соч. С. 129, 132—133.
581
образы в свои произведения, справедливо полагая, что усадьба достойна поэтизации.
Замкнутый мир усадебного бытия требовал для своего изображения замкнутых
повествовательных структур. Ни такой роман, в котором сталкиваются враждебные друг
другу социальные миры, ни эпопея, ни нравоописательные жанры с их безграничностью и
композиционной неупорядоченностью для этого не годились. Зато повесть, которая, как
правило, рисует конфликты в малой группе людей, привязанных к своим семейным
гнездам и говорящих на одном социальном языке, для этого годилась вполне. Жанровые
признаки повести: средний размер, обозначенность границ действия, стройность и
однопла-новость сюжетно-композиционной структуры, тяготение к монологизму и
ретроспекции, а также достаточное количество места для обширных описаний и
лирических отступлений — все это встречается также в «Рудине», «Дворянском гнезде»,
«Накануне», по сути дела являющихся большими повестями
10
.
Поэтическая гармония усадебного рая имела, однако, свою оборотную сторону —

монотонность и скуку, от которой жители усадеб безуспешно пытались спастись, напол-
няя свою жизнь всевозможными развлечениями и праздниками. Зато избавлены были от
скуки жители городских трущоб, которым трудно было в чем-либо другом позавидовать.
Как тип жилища трущоба во многом являлась противоположностью усадьбы. Дешевые
доходные дома и ночлежки были предназначены для того, чтобы временно в них
приютиться, а не жить в истинном смысле слова, — но зачастую их обитатели коротали
там свою жизнь до смерти. В трущобе практически невозможно было жить обособленно, в
кругу семьи: даже «подпольным людям» Достоевского волей-неволей приходится
общаться со многими людьми, представлявшими широкий диапазон социальных ролей.
Внешне трущоба напоминала Ноев ковчег, но вместо дружбы и согласия здесь царила
беспощадная борьба за существование, люди постоянно враждовали друг с другом, а
случаи милосердия или товарищеской взаимопомощи были скорее исключениями.
10
Ср. Грифцов Б. Теория романа, М., 1927. С. 126.
582
Напрасно искать в реальном хронотопе трущобы некоей пространственной или стилевой
доминанты. Здесь все относительно: и время, и пространство, и слово, и поступки людей.
Здесь все непредсказуемо, так как события трущобной жизни не вытекают из традиции, не
организуются в соответствии с принятым в прошлые времена этикетом, а происходят
внезапно, являясь производной актуального конфликтного столкновения разных волевых
установок, социальных и групповых интересов, темпераментов и т. п. Трущоба состоит из
«углов», из предельно замкнутых пространств (классический пример — комната-гроб, в
которой живет Раскольников). Сюжетообра-зующим мини-хронотопом здесь может быть
порог — по-видимому, аналог сентиментально-романтической калитки в усадьбе. Однако
для обитателя трущобы на пороге комнаты или дома мир не кончается: жизнь заставляет
выходить во двор, на улицу, на площадь, отправляться за город, пускаться в скитания —
но может случиться и так, что всю жизнь проживешь в запертой комнате. Карнавально-
космическая беспредельность, бесприютность и непутевость сосуществуют бок о бок со
своей противоположностью — теснотой и мелочной регламентацией жизни в приюте
11
.
Столь же относительно трущобное время. Бег его неравномерен в зависимости от
чередования серой повседневности с кризисными моментами. Обитатель трущобы живет
главным образом сегодняшним днем, ибо прошлое (даже если это выходец из
«благородных») потеряло для него значение, а в будущем его может ожидать все что
угодно.
Реальное разноязычие трущобы, многоплановую относительность ее бытия мог передать
только сугубо прозаический жанр — роман, причем взращенный на почве традиции,
культивировавшей принципиальную разноречивость. Авторы проблемно-авантюрных,
бытовых сатирических романов, романов испытания и становления, а также
физиологических очерков и иного рода быто- и нравоописаний стремились зафиксировать
(по принципу
11
Ср. Бахтин М. М. Указ. соч. С. 397—398. В данном случае исследователь учитывает только
карнавально-мистерийные аспекты городского пространства.
583
«магнитовида», как Крестовский и другие натуралисты) или смоделировать (по
принципу вероятностного угадывания, как Достоевский) многоголосие личностных и
социальных субъектов речи, мысли и поведения, не заботясь при этом о
гармонической выдержанности стиля
12
. Отсюда две линии в развитии трущобного
романа — натуралистическая и реалистическая. Героем натуралистического
трущобного романа мог стать плут, авантюрист, богатый и сановный развратник, а
также их жертвы: падшая женщина, «честный» вор, идеалист-неудачник. Уделом этих
героев является действие, испытание и приключение — переживания их явно
отступают на задний план. Героем реалистического трущобного романа, пред-
ставленного в России только Достоевским, является идеолог, стремящийся

осуществить свою идею-страсть в деянии. Его душевные переживания также являются
лишь фоном, на котором разыгрывается драма идей. Обе линии трущобного романа
связаны с различными аспектами жизни большого города, который еще сто лет назад
никак не мог стать объектом ностальгической поэтизации, давшей о себе знать в XX
веке. О социальном плюрализме раннеиндустриального города и его символе —
трущобе — в литературе прошлого века можно было говорить лишь начисто
отказавшись от авторской координации стилевого разноречия.
Жанр трущобного романа создавал иллюзию соучастия в трагикомедии жизни с
большим числом действующих лиц, каждое из которых в любой момент могло
измерить свое амплуа. Авантюрность сюжета играла при этом значительную роль,
хотя и не была обязательной: иногда «физиологического» описания трущобы вполне
хватало, чтобы вызвать у читателя не меньшее возбуждение, чем при чтении романов
ужаса. Сюжетно-композиционная «правильность» теряла всякий смысл,
художественно подчеркивая общий эффект стилистического разнобоя. Так, в путанице
сюжетных линий «Петербургских трущоб» Крестовского можно легко заблудиться.
Трудно сосчитать, сколько в этом романе экспозиций, завязок, кульминаций и тому
подобного, трудно найти какую-либо очевидную закономер-
12
Ср. там же. С. 183.
584
ность в их расположении. Но вряд ли причиной этого был только недостаток
художественного мастерства. Ведь то же самое впечатление на первый взгляд производят
и романы Достоевского. Только более пристальный анализ найдет в их построении
поразительную стройность и гармонию, и, по всей вероятности, их полифония является не
чем иным, как предусмотрительно построенной художественной моделью разноголосого
мира.
«Непричесанное» прозаическое слово, реально звучавшее в речи городского плебса,
становилось словом героя романа, а в художественном пространстве и времени пре-
ломлялась реальная неоднородность города. Пространство в трущобном романе может
сужаться до нескольких сантиметров (порог), а может раздвигаться если не до беско-
нечности, то до размеров земного шара (сон Раскольникова о трихинах). Необыкновенно
важны в таком произведении места встреч и споров: гостиная, двор, общая спальня, ры-
ночная площадь, полицейский участок, тюрьма — там сталкиваются словесные стихии,
дразня ухо читателя сырой, необработанной прозой. Встречается также и вертикальный
хронотоп (небо — чердак — гостиная — подвал — могила)
13
, сочетающий в себе
архетипические элементы с остросоциальными. Что касается времени, то его течение
также носит неэпичесЪсий, скачущий характер, то замедляясь едва ли не до полной
остановки в решающих, кульминационных сценах (например, в описании «спящей»
Настасьи Филипповны), то искусственно растягиваясь в ретардациях, то внезапно
ускоряясь. При этом в разных типах трущобного романа одновременно присутствует
несколько временных планов. У Крестовского это связано с раскрытием всевозможных
сюжетных тайн, что требует то возвращения к событиям многолетней давности, то
забегания вперед. У Достоевского сюжетные тайны играют второстепенную роль, а
временная относительность проявляется в сосуществовании и взаимопроникновении
времен разного порядка: абсолютного (вечного, космического), всемирно-исторического,
объективного событийно-повествовательного и субъективного «предкатастро-
13
О средневековом вертикальном хронотопе Данте и его возрождении в творчестве Достоевского см.
там же. С. 306—308.
585
фического»
14
. Однако в любом из этих случаев преобладающим типом художественного
времени будет praesens, настоящее время.
Поэтому поэтика трущобного романа — это поэтика не воспоминания и не эпопеи, а
репортажа о происходящем ныне и в данном месте. Отсюда разные образы рассказчиков в

трущобных романах призваны выступать в роли хроникеров, о чем не раз писалось в связи
с Достоевским. Но если можно еще как-то вообразить себе хроникера-стихотворца, то
хроникера-поэта, воспевающего предмет изображения, представить совершенно
невозможно. Главным образом потому, что поэтизации не поддается предмет репортажа.
В свое время, противопоставляя друг другу слово в поэзии и слово в прозе, М. М. Бахтин
отмечал стилистическую стройность и целенаправленное единство первого в противовес
принципиальному разноречию и разноязычию (в том числе внелитературному)
последнего. При этом особо подчеркивалась важность изучения как социальной на-
правленности, так и социального происхождения слова
15
. Общественные процессы,
происходившие в России XIX века и захватившие сферу человеческого жилища, явились
причиной возникновения литературных жанров, развивавшихся в русле романтической
традиции, но представлявших две совершенно различные ее линии. Трудная пора
становления современного большого города заявила о себе в наиболее прозаическом по
своей сути и, быть может, в наиболее европейском из тогдашних жанров русской
литературы — трущобном романе. О непреходящем значении культурных ценностей,
созданных дореформенной, дворянской Россией, напоминала усадебная повесть, авторы
которой небезуспешно пытались сочетать достоинства реалистической прозы с
романтической в своей основе поэтизацией жилища, постепенно становившегося сим-
волом национального идеала красоты и душевного такта.
Разумеется, нельзя забывать о том, что представленная здесь типология является только
идеальной схемой, от которой могло быть достаточно много отступлений.
14
Ср. Назиров Р. Г. Творческие принципы Достоевского. Саратов, 1982. С. 15—27.
15
См. Бахтин М. М. Указ. соч. С. 101—113.
586
Возьмем, к примеру, прозу Льва Толстого, которая располагается как бы на полпути
между тургеневской усадебной повестью и трущобным романом Достоевского. С одной
стороны, Толстой, в молодости веривший в особую миссию русского дворянства, доказал,
что его сердцу близка поэзия усадьбы: взять хотя бы описание Лысых Гор, святки или
знаменитую охоту в «Войне и мире». Город оставался Толстому чужд на протяжении всей
жизни. Однако писатель никак не мог ограничиться ролью летописца былого величия
дворянства. Доблестные аристократы Толстого нередко открывали для себя источник
«окончательной» правды в речах и деяниях простого народа. Такова была логика
правдоискательства «кающихся дворян», создавших миф народа как высшей инстанции
истины. Преклоняться же перед мужиком и в то же время воспевать добродетели барина
было, мягко говоря, трудно. Толстому не удалось избежать соблазна патриархальной
утопии — но, избрав в качестве объекта преклонения избу, писатель не мог спокойно
предаваться поэзии усадьбы. Страстные, порою исступленно-прямолинейные поиски
неприкрытой правды и «естественности», нежелание уходить от вопросов современности
сперва заставили его безжалостно разоблачить несостоятельность усадебной идиллии
(«Утро помещика»), а затем и перешагнуть порог трущобы («Так что же нам делать?»). Но
все же через самого себя Толстой не перешагнул: «издерганная» городская проза
Достоевского была ему не по нраву, а попытка порвать с усадебной гармонией в живой
ткани собственного творчества успехом не увенчалась и вывела писателя за пределы
художественности. Зато в памяти читателя навсегда останутся семейные праздники, пение
девушек в лунную ночь и долгие разговоры в диванной — образы культуры, которая
взрастила Толстого и с которой ему столько раз не удавалось окончательно распрощаться.
Заново открыть для себя поэзию «дворянских гнезд» в их тургеневской интерпретации
выпало на долю Чехова. Это утверждение может показаться парадоксальным. Ведь
именно Чехов со свойственной гению смелостью разрушал самые разные литературные
стереотипы, обнажая ставшую на закате XIX века комичным анахро-
587
низмом усадебную мелодраму с ее поцелуями при луне на аллеях парка. Однако
оригинальность Чехова состояла, кроме прочего, в том, что любая односторонность и пря-

молинейность оценок была ему глубоко чужда, в отличие, скажем, от Толстого. С
присущей ему иронией наблюдая превращение рефлектирующего правдоискателя-
помещика в просто скучающего дачника, Чехов в создаваемой картине мира весьма
важное место отводил дворянской воспитанности. Комплекс вины перед мужиком не тяго-
тел над ним, как над Тургеневым или Толстым. Поэтому он мог объективно, со стороны,
оценить и хорошие, и дурные стороны дворянской культуры. Реальная жизнь русских
дворян 1880-х годов справедливо представлялась Чехову достаточно безотрадной. Но в
созданной их дедами и прадедами культуре, в этом хранилище интеллектуальной,
эстетической и духовной памяти поколений, Чехова неизменно привлекали такие,
например, качества, как уважение к другому, душевная тонкость, чувство собственного
достоинства, эстетика быта и поведения — то есть именно то, без чего, по его мнению,
немыслима культурность личности, воспитанность, которой так подчас недоставало
мещанину. Характерно, что источником воспитанности будут для Чехова тургеневские
усадебные повести
16
. Автору «Вишневого сада» удалось — во многом благодаря
исторической и социальной удаленности от дворянской культуры — отделить в ней
непреходящие ценности от обветшалых стереотипов
17
.
16
Ср. след, строки из письма Чехова к брату Николаю от марта 1886 г.: «Недостаток же у тебя только
один. В нем и твоя ложная почва, и твое горе, и твой катар кишок. Это — твоя крайняя не-
воспитанность (...) Иди к нам, разбей графин с водкой и ложись читать... хотя бы Тургенева, которого
ты не читал» (Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем. В 30-ти томах. Письма. Т. I. М., 1974. С
225). В рассказе «Безнадежный» (1885) некультурность главного героя определяется посредством
непричастности его к миру тургеневской красоты и благородства: он принимается было читать
неразрезанный номер журнала «Современник» 1859 года с романом «Дворянское гнездо», но через
десять минут засыпает. (См. там же. Сочинения. Т. III. С. 222.)
17
Подробнее см. ценную и содержательную работу: Минц 3., Место «тургеневской культуры» в
«картине мира» молодого Че-
588
Последним всплеском поэзии усадьбы в русской литературе станут новеллы И. А. Бунина
и отчасти его автобиографический роман «Жизнь Арсеньева». Поэтика элегии становится
здесь совершенно откровенной, нарочитой, выполняя, впрочем, жанровую функцию
причитания — скорби не по уходящему, а по навеки ушедшему миру.
Существенную трансформацию переживает в XX веке и проза трущобы. Это было связано
с колоссальными сдвигами в структуре городской жизни, с появлением таких
«незаконных» наследников трущобы, как коммунальная квартира и барак — в том числе
лагерный. Михаил Зощенко, Михаил Булгаков и Варлам Шаламов — три непохожих друг
на друга писателя — станут, наряду с некоторыми другими прозаиками, верными
продолжателями линии урбаниста Достоевского.
хова. — Annales Instituti Philologiae Slavicae Univresitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae,
Slavica XXIII, Debrecen 1986. P. 97—107.
В. Г. Щукин СПАСИТЕЛЬНЫЙ КРОВ
О некоторых мифопоэтических источниках славянофильской концепции
Дома
Дом относится к числу основополагающих, всеобъемлющих архетипических образов, с
незапамятных времен функционировавших в человеческом сознании. Эквиваленты
славянского слова дом — древнегреческий отко^ и древнееврейский bait — обозначали
широкий круг понятий: кров, семью, жилище, строение, Некое определенное место — а
также явления, связанные с культурной организацией жизни: хозяйство, быт семьи или
народа, наследство, иерархию и порядок. Эксплицитно понятие дома связывалось также
со своим народом (например, в Ветхом завете еврейский народ именуется Домом
Израилевым), страной, правом, нравственностью, памятью и верностью заветам.
Производными от отко£ являются слова: экономика (буквально «домоуправление»),
экология (знания о «доме», т. е. об окружающей среде) и ойкумена (обжитое человеком
пространство земли)
1
.

В мифопоэтических представлениях древних славян дому отводилось чрезвычайно
важное место. Он осмыслялся как «мир, приспособленный к масштабам человека и соз-
данный им самим»
2
. Жилище было по преимуществу носителем признака «внутренний»:
оно оберегало человека от невзгод внешнего мира, создавало атмосферу безопасности,
определенности, организованности, противостоящей внешнему хаосу. Дом сравнивался с
матерью, которая кормит и охраняет дитя, а также с материнским чревом, с наседкой,
защищающей цыплят. Закрытое обжитое пространство, где
1
Подробнее см.: Барабанов Е. Дом общего сиротства: Страна и мир. 1990, № 2. С. 152—153.
2 Цивъян Т. В. Дом в фольклорной модели мира: Ученые записки Тартуского государственного
университета. Вып. 464. Труды по знаковым системам. Т. X. Семиотика культуры. Тарту, 1978. С. 72.
590
главенствовали такие атрибуты дома, как постель, печь, тепло, издавна осмыслялось как
женское, в отличие от неуютного и «холодного» внешнего мира, в котором главную роль
играл мужчина — землепроходец, строитель, завоеватель.
3
Постоянно подчеркивались
такие признаки дома, как прочность, неподвижность, заполненность («полна горница
людей»), одушевленность. Человеку нужен был дом, соединяющий землю и небо. Он
крепко стоит на земле и является для его жителя центром посюстороннего, горизон-
тального мира. С другой стороны, он возвышается над землей, стремится к небу; «он
выпускает человека вовне и в этом смысле связан с внешним миром и с верхом»
4
. По-
этому возникала необходимость создания в доме некоего сакрального пространства,
напоминавшего о связи домашней организации и защищенности с божественным миро-
порядком и защитой от потусторонних сил.
Русские народные представления о доме в целом совпадали с вышеописанными. Об этом
свидетельствует «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля и
приведенные в нем многочисленные пословицы и загадки, относящиеся к дому. «Мило
тому, у кого много всего в дому», «Дом вести — не лапти плести (не задом трясти)»,
«Худу быть, кто не умеет домом жить», «На стороне добывай, а дому не покидай» — эти
и подобные изречения говорят о том, что дом рассматривался народом как осязаемое
воплощение своего, родного, безопасного пространства, а привязанность к нему считалась
добродетелью. Словарь Даля отмечает также, что слово дом означает в русском языке не
только «строение для житья» или «избу со всеми ухожами и хозяйством», но и
«семейство, семью, хозяев с домочадцами». Однако и в этом, и в позднейших толковых
словарях у лексемы дом отсутствует значение, соответствующее англ, home или нем.
5
Heim ('домашний, семейный очаг'): дом в значении 'семья' в русском языковом сознании
означает не духовное пространство
8
Ср. Лотман Ю. М. О метаязыке типологических описаний культуры: Ученые записки Тартуского
государственного университета. Вып. 236. Труды по знаковым системам. Т. IV. Тарту, 1969. С. 471.
4
Цивьян Т. В. Указ. соч. С. 76.
6
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1978. С. 465—466.
591
«родного угла», а группу людей, связанных кровными узами.
Все эти предварительные замечания, на наш взгляд, необходимы для верного понимания
славянофильской концепции Дома (с большой буквы, как одного из священных устоев
национальной жизни). Концепция эта во многом вобрала в себя архаические
мифопоэтические представления русского народа. Однако непосредственно она склады-
валась в ходе умственного движения тридцатых годов прошлого столетия. В то время в
образованных кругах русского общества набирал силу спор о ценностном превосходстве
патриархальности над цивилизованностью — или, наоборот, цивилизации над
первобытной «непосредственностью», в зависимости от симпатии споривших сторон.
Тогда не существовало еще западничества и славянофильства как теоретически
оформленных мировоззрений. Спор проходил в сфере незавершенных идеологических
построений: кроме застольной беседы, он проник в художественную литературу.
Среди «носившихся в воздухе» стереотипных представлений-антитез, порожденных
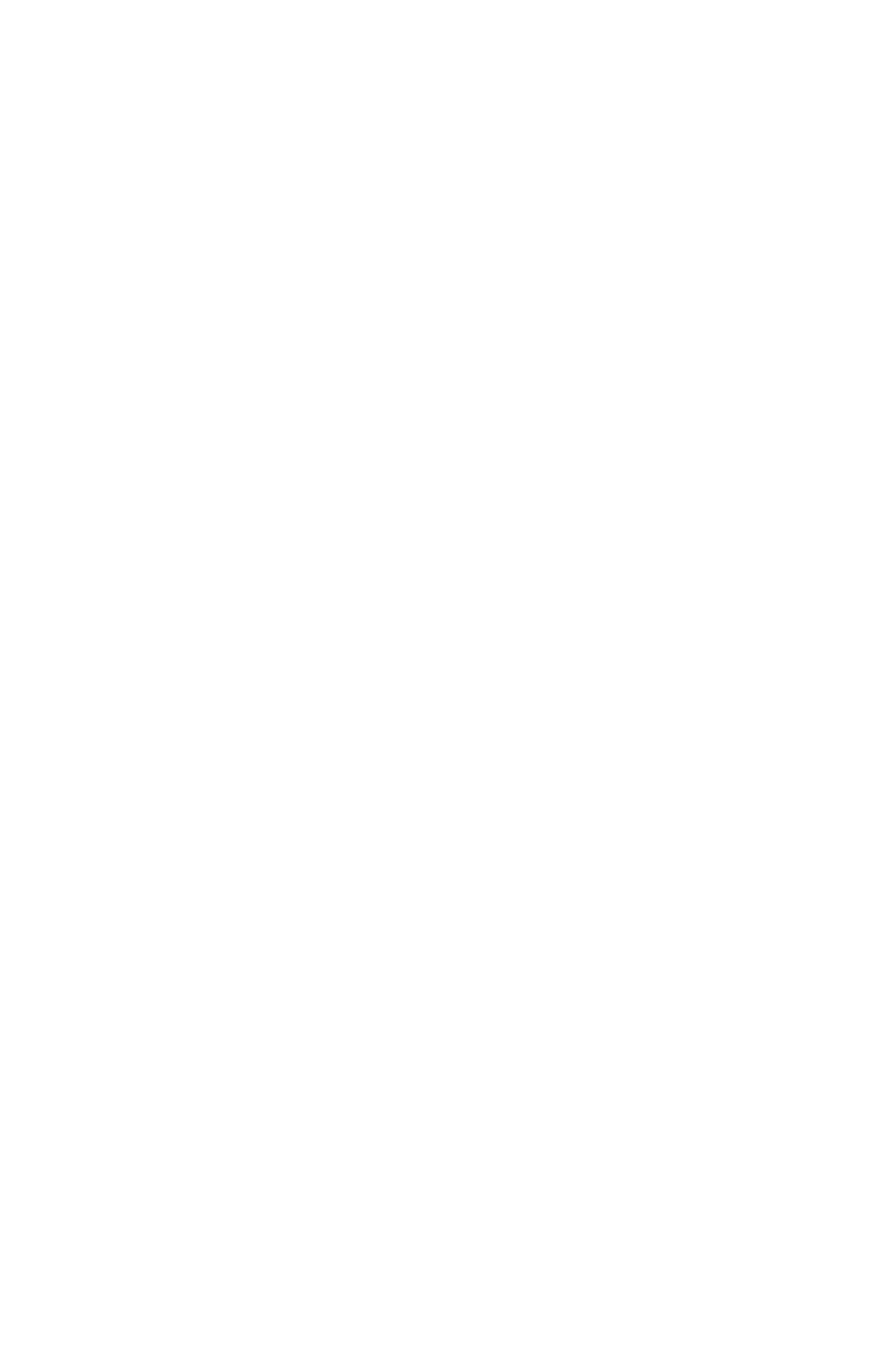
атмосферой романтического противостояния непреклонных, сингулярных точек зрения,
не могло не найтись места для противопоставления патриархального и цивилизованного
жилища. Описания первого можно было найти у Пушкина («Дубровский», «Капитанская
дочка»), Гоголя («Старосветские помещики»), позднее у Даля («Вакх.Сидоров Чайкин»,
«Павел Алексеевич Игривый», «Отец с сыном»), Григоровича, Тургенева и многих других
писателей, обращавшихся к изображению жизни провинциальных помещиков, крестьян
или купцов
6
. Противоположный тип жилища — благоустроенная городская квартира,
«английская» усадьба, особняк или дача — появляется в русской литературе начиная с
«Писем русского путешественника» Карамзина, который во многом явился
первопроходчиком, привившим русскому читателю вкус к европейской оформ-
6
Интересные наблюдения на эту тему содержатся в работе: Ка-зари Р. Купеческий дом:
историческая действительность и символ у Достоевского и Лескова. // Достоевский. Материалы и
исследования. Т. 8. Л., 1988. С. 87—92.
592
ленности. В 40-е годы интерес к бытовому удобству и изяществу возрастает: на страницах
петербургских журналов и альманахов появляются физиологические очерки А. П.
Башуцкого о жизни столичных немцев и о роскошных дачах в Царском Селе, Павловске,
Парголове и других пригородах Петербурга. Главными адептами комфорта и
фешенебельности (оба эти слова впервые вошли в употребление в середине 40-х годов и
не раз вызывали гнев и насмешки из лагеря
(
«Москвитянина») были И. И. Панаев, В. П.
Боткин и А. В. Дружинин. Отчетливое противостояние двух образов Дома, на которое к
концу «замечательного десятилетия» (1838—1848) нал сжились две законченные
культурные концепции — западническая и славянофильская — позволило Гончарову в
«Обыкновенной истории», а затем в «Обломове» создать емкие незабываемые образы
жилищ, которые олицетворяют два противоположных уклада русской жизни —
«почвенный» и «европейский». Это Грачи и Обломовка, с одной стороны, и дома Петра
Адуева или Штольца, с другой.
В конце 20-х годов нашего столетия В. Ф. Переверзев определял основную коллизию
романов Гончарова как конфликт двух миров — «мира коттеджа» и «мира ковчега»
7
.
Действительно, два противоположных идеала личной и общественной жизни, культурных
традиций и бытовых навыков, изображенные романистом, нашли свое воплощение в
образах обжитого пространства, обладающих большой силой обобщения. С одной
стороны — в самом деле «коттедж»: петербургская квартира, усадьба или дача, в которой
человек предоставлен самому себе, ни от кого не зависит и ни за кого не отвечает;
удобство и изысканность жилища являются залогом внутреннего гармонического
развития личности. С другой стороны — дом, где, как в Ноевом ковчеге, живут общей,
роевой жизнью родители, дети, слуги, нянюшки, родня, приживалки, где человеку
невозможно уединиться и спрятаться от глаз людских, да и не прилично это, не принято.
Здесь радость и печаль ка-
7
В. Ф. Переверзев высказывал эти соображения исключительно в устной форме. Автор выражает
глубокую благодарность доценту Московского университета Николаю Ивановичу Ливану, члену
историко-литературного семинара В. Ф. Переверзева, за ценную информацию о взглядах своего
учителя.
593
ждого становятся общей радостью и печалью. Всякий участвует в делах, заботах и
развлечениях сообщества. Завет и предание, обычай предков и страх пред неведомыми
силами, постоянно поддерживаемый при помощи семейных легенд и няниных сказок,
подготовляли почву для обязательной и единой для всех обитателей дома религиозности.
Подобно библейскому ковчегу, такой дом призван был спасать укрывшихся в нем людей
от враждебных стихий — сперва природных, затем общественных: от непогоды, поветрий,
недугов, от смуты и от сопутствующей прогрессу нестабильности. В жилище том
зачастую неудобно, «тесно», комфорту не придается особого значения — зато, как говорят
пословицы, «хотя тесно, да лучше вместе», «в тесноте люди живут, а на простор навоз

возят», «в тесноте, да не в обиде»
8
.
На основании сказанного можно было бы утверждать, что для человека, обитавшего в
культурно-идеологическом горизонте, способном породить славянофильское учение,
идеалом Дома был ковчег, если бы не одно обстоятельство.
Домик Афанасия Ивановича Товстопуза или Обло-мовка во многом напоминают ковчег: в
них действительно живет «каждой твари по паре», свято соблюдая заветы единодушия,
взаимопомощи, патриархальной простоты; они расположены на периферии обозримого
мира, вдалеке от столиц; они не только защищают, но и спасают человека от искушений
новейшей цивилизации. Поэтому неотъемлемым для них является элемент религиозного,
сакрального предназначения — во спасение души. Отсюда царящая в них атмосфера
религиозной умиротворенности. Однако ковчег — это корабль. При всей своей спаси-
тельной прочности он движется и переносит человека из одного царства в другое, из
одной эпохи в другую, обеспечивая лишь временную стабильность в глобальных бытий-
ных переменах. По древним мифологическим представлениям, корабль означал средство
перемещения в иной мир, в царство смерти. Герои народных эпосов, ищущие не
трансценденции, не преображения, а возвращения к исходному порядку, не могут стать
корабельщиками. Образ корабля способен появиться в сознании народа лишь в
8
Даль В. Указ. соч. Т. 4. С. 450.
594
эпоху дестабилизации, как, например, в новгородском былинном цикле или в сказаниях
старообрядцев
9
. Нет, архетипический образ корабля на волнах бытия, на протяжении
веков присутствовавший в мировой литературе (Ноев ковчег появляется даже в
«Мистерии-буфф» Маяковского) — это топос совсем иного рода, чем Обломовка,
приземленность и незыблемость которой являются для внешнего наблюдателя символом
застоя.
Славянофилы 40-х годов прошлого столетия сумели претворить трудноуловимую
привязанность к определенного типа жилищу в довольно стройную, монолитную
концепцию Дома, который правильнее было бы назвать не ковчегом, а гнездом, роль
которого — обеспечить безопасность семье от враждебных внешних сил под спаси-
тельным кровом.
Ощущение теплого, уютного домашнего гнезда, тоска по утраченной «младенческой
свободе» появляются в сознании славянофилов гораздо раньше, чем теоретическое
осмысление сущности Дома.
п
Тебя я помню, дом наш мирный, Довольства и веселья дом. И садик наш уединенный, Где я так часто,
восхищенный, Цветы сажал и поливал! Я помню золотые нивы — Их ветр приветно лобызал, И
земледел трудолюбивый Серпом златые волны жал
10
.
Эти строки были написаны Константином Аксаковым в возрасте 21 года (стихотворение
«Воспоминание», 1833). Ничего специфически славянофильского в них еще нет: поэт
прежде всего отдает дань сентиментально-элегической моде. И все-таки сочетание
образных деталей достаточно красноречиво: это поэзия аграрного труда, «торжество
земледелия». «Мирный дом» немыс-
9
Ср. Плюханова М. Народные представления о корабле в России XVII века: Semiotics and the History of
Culture. In Honour of Jurij Lotman (UCLA Slavics Studies, 17) Columbus (Ohio) 1988. P. 183—191.
10
Поэты кружка Н. В. Станкевича. М.;Л., 1964. С. 295.
595
лим вне деревни. Последняя мысль подчеркивается в стихотворении «Мечтание»
(1834):
\ Я здесь, в Москве. Судьба взяла меня, Безжалостно младенца отрывая От сельского беспечного
житья, От милого отеческого края
11
.
Из приведенного следует, что нарушение патриархальной гармонии ощущается
Аксаковым даже в его любимой Москве, «коренном России граде». Об идеальном доме
можно говорить только в давно прошедшем времени, так же, как об «истинной»
«народной» России славянофилы говорили, неизменно прибегая к исторической рет-

роспекции. Мысль поэта улетает в «золотые времена», и он видит «село, барский двор,
деревянный забор»;
Тихий вечер, тепло, а в окошках светло. В доме люди, дом жизнью кипит... Что! уж нет их давно, в
доме глухо, темно. Непробудно минувшее спит.'2
(«Тяжело-тяжело на душе залегло», 1836)
Вышеописанный дом — не плывущий ковчег, а именно гнездо, где не к чему уединяться
(«В доме люди, дом жизнью кипит»), и оно неподвижно, крепко вросло в землю. Вихрь
перемен затрагивает не его — он лишает стабильности его обитателя:
К толпе валов плывет моя ладья И ждут меня вдали беды и горе.
13
Попытаемся заглянуть внутрь такого гнезда. Поможет нам в этом реакция Константина
Аксакова на описание патриархального жилища. Разбирая в 1847 году «Петербургский
сборник» и критически оценивая «Бедных людей» Достоевского, Аксаков отмечает,
однако, что «в
11
Там же. С. 304.
12
Там же. С. 328.
13
Там же. С. 305.
596
отдельных местах, истинно прекрасных» автор повести достигает высокого
художественного мастерства
14
. В подтверждение своих слов автор статьи выписывает
обширный фрагмент, в котором Варенька Доброселова рассказывает о своем детстве в
деревне. Что ж тронуло сердце «передового бойца славянофильства»? Среди прочего и
такие строки:
«Я так любила осень, — позднюю осень, когда уже уберут хлеба, окончат все работы, когда уже в
избах начнутся посиделки, когда уже все ждут зимы [...] Запоздаешь, бывало, на прогулке,
отстанешь от других, идешь одна, спешишь, — жутко! [...] Страшно станет, а тут, точно как будто
заслышишь кого-то, чей-то голос, как будто кто-то шепчет: «Беги, беги, дитя, не опаздывай;
страшно здесь будет тотчас, беги, дитя!» — ужас пройдет по сердцу, и бежишь; — бежишь так,
что дух занимается. Прибежишь, запыхавшись, домой; дома шумно, весело; раздадут нам всем
детям работу, горох или мак шелушить. Сырые дрова трещат в печи; матушка весело смотрит за
нашей веселой работой; старая няня, Ульяна, рассказывает про старое время или старинные сказки
про колдунов и мертвецов. Мы, дети, жмемся подружка к подружке, улыбка у всех на губах. Вот
вдруг замолчим, разом... чу! шум! как будто кто-то стучит! — Ничего не бывало; это гудит
самопрялка у старой Фроловым; сколько смеху бывало! А потом ночью не спим от страха; находят
такие страшные сны. Проснешься, бывало, шевельнуться не смеешь и до рассвета дрогнешь под
одеялом. Утром встанешь свежа как цветочек [•••] Светло, ярко, весело. В печке опять трещит
огонек; подсядем все к самовару, а в окна подсматривает продрогшая.ночью наша собака Полкан
и приветливо махает хвостом. Мужнк проедет мимо окон на бодрой лошадке в лес за дровами. Все
так довольны, так веселы! На гумнах запасено много-много хлеба; на солнце золотятся крытые
соломой скирды большие-большие; отрадно смотреть! И все спокойны, все радостны; всех
Господь благословил урожаем; все знают, что будут с хлебом на зиму; мужичек знает, что семья и
дети его будут сыты; — оттого по вечерам и не умолкают звон-
14
Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1982. С. 186.
597
кие песни девушек и хороводные игры, оттого все с благодарными слезами молятся в доме
Божьем в праздник Господен! Ах какое золотое-золотое было детство мое!...
15
Нетрудно найти в приведенном описании существенные элементы архаической модели
жилища, функционировавшей в патриархально-аграрном укладе жизни. Чужое, опасное
внешнее пространство, противопоставленное домашнему теплу, довольству и уюту; печь,
постель, общая работа, забава и молитва как составные части стройной системы,
защищавшей человека от наводящей ужас одинокой беспомощности, подстерегавшей
каждого, кто осмелится уединиться или отстанет от «своих». Как и в вышеприведенных
стихах Аксакова, здесь звучит мотив сытости, довольства в его специфически сельском,
аграрном понимании (запасы хлеба на гумнах). Противоречие между благополучием Дома
и враждебным внешним миром нуждалось в постоянном подтверждении. Поэтому нельзя
было обойтись без страшных сказок «про колдунов и мертвецов», отчего окружающая

необжитая природа казалась населенной страшными духами, «нехристью». Все страшное
(стук в дверь, чей-то незнакомый голос) является таковым оттого, что оно неведомое, «не
наше», непричастное к пространству общего бытия и труда, к регламентированным
древней традицией потехам и забавам, к солидарной вере в общую для всех святыню и к
общим молитвам с «благодарными слезами».
Достоевский, примыкавший в 40-х годах к западничеству и преклонявшийся перед
Белинским, тронул сердце славянофила Аксакова еще и потому, что нащупал своим
гениальным художническим чутьем целые семантические пласты архаического сознания,
характерного для достаточно чуждой ему в социальном отношении патриархальной
деревни. В самом деле, что за праздник Господень, во время которого крестьяне молятся и
льют «благодарные слезы»? Судя по тексту, это Покров Пресвятой Богородицы, который
приходится на 1 октября по старому стилю. В России это уже поздняя осень, когда
16
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 1. Л., 1972. С. 84. Цит. по: Аксаков К. С., Аксаков И. С.
Указ. соч. С. 187.
598
заканчивается сбор урожая и ложится первый снег. Согласно общехристианским
представлениям, в этот день Богоматерь выступает в роли заступницы живущих на земле
людей, берет их под свою опеку, защищая от гнева Господня. В православной
иконографии символом этого заступничества является риза, которую Дева Мария рас-
простирает над землей. В народных верованиях выпадающий в это время снег выступает в
роли земного, твар-ного проявления всевышней опеки. Обратим внимание на то, что в
русском названии этого праздника защита от внешней опасности (гнева Всевышнего)
метафорически сравнивается с кровом, что в середине XIX века значило: «крыша, кровля;
строение, жилье, дом, изба; приют, скрывище, защита от непогоды»
16
. Достоевский,
который подчеркивает у Вареньки любовь к поздней осени, т. е. ко времени Покрова и по
православному, и по земледельческому календарю, создает целое семантическое поле,
обозначающее защищенность, спасительный кров. «Беги, беги, дитя!» — шепчет девочке
чей-то голос — и она бежит, разумеется, «к своим», от которых отстала и осталась одна,
бежит под кров дома, где тепло и весело. После страшных рассказов няни она дрожит
ночью под одеялом, которое в конце концов успокаивает ее, убаюкивает, прикрывая.
Другая семантическая связь указывает на Покров как на конец девичества Вареньки:
после Покрова и окончания полевых работ обычно отдавали девушек замуж, отсюда
отмеченные в словаре Даля пословицы: «Батюшка Покров, покрой мать сыру землю и
меня, моло-ду!», «Бел снег землю прикрывает: не меня-ль, молоду, замуж снаряжает?»,
«Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня, молоду, женишком», «Придет Покров,
девке голову покроет»
17
(после замужества женщина должна была ходить, покрывши
голову платком). Любопытно также, что заступником и первым возлюбленным Вареньки
будет студент по фамилии Покровский. После его смерти девушка теряет и чувство
домашней защищенности.
16
Даль В. Указ. соч. Т. 2. С. 196.
17
Там же. Т. 3. С. 247.
599
Если Достоевский предчувствовал мощные пласты мифопоэтического сознания,
связанные с понятием домашнего крова, то славянофилы были первыми русскими
теоретиками Дома. Им удалось осмыслить архаическую модель жилища в ее целостности,
а также придать ей определенную аксиологическую направленность. Изображенный
Достоевским дом Вареньки Доброселовой (так же, как и опубликованное на год позже
описание Обломовки) вполне мог напомнить Константину Аксакову оренбургские
усадьбы Ново-Аксаково и Надеждино, в которых прошло его детство. Читатель
<произведений> «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» легко найдет в
описаниях багровских имений все вышеупомянутые элементы жилища: общий труд и
общие досуги в людской и девичьей, страшные сказки и рассказы, таинственные комнаты,
в которых якобы являются духи усопших предков. Наряду с этим обращает на себя
