Егоров Б.Ф., Лотман Ю.М., Вердеревская Н.А., Щукин В.Г. и др. Из истории русской культуры. Том V (XIX век)
Подождите немного. Документ загружается.


Русское духовенство 1859. Русское духовенство, изд. Н. В. Елагина, Берлин, 185,9.
Скроботов 1871. Н. А. Скроботов. Приходский священник А. В. Гумилевский, СПб., 1871.
Смирнов-Платонов 1894. Г. П. Смирнов-Платонов. А. М. Иван-цов-Платонов // «Вопросы
философии и психологии», М.,1894, кн. 24.
Собрание отзывов и мнений... Собрание отзывов и мнений по учебным и церковно-
государственным вопросам Филарета, митр. Московского, под ред. Арх. Саввы, т. 1—6, 1885.
Титлинов 1910. Б. В. Титлинов. Духовная школа в России 1910, т. II.
Титов 1906. Ф. И. Титов. Преобразования духовных академий в России в XIX веке // «Труды»,
1906, № 4-6.
Трубецкой 1895. С. Н. Трубецкой. А. М. Иванцов-Платонов // «Вопросы философии и
психологии», М.,1895, кн. 27. «Собрание сочинений», т. I, 1907.
Трубецкой 1907. С. Н. Трубецкой. Проектированное чтение на «богословских беседах» в 1900-
1901 гг. // Собрание сочинений, т. 1, 1907, с. 446—451.
Филарет. 1869. Сборник писем Филарета к А. Н. Муравьеву, Киев, 1869, с. 640 и след.
П. Н. Милюков
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ*
Итальянец Кваренги, изучивший в натуре памятники древности, делает следующий
шаг в направлении к чистому классицизму и скоро затмевает славу Камерона. В этом
строгом стиле построен Английский дворец в Петергофе (1781—1789) и здание
Академии Наук (1783— 1787). Менее суров и более живописен фасад последнего
Эрмитажного здания по Дворцовой набережной, эрмитажного театра (1782—1785).
Внушительно здание Ассигнационного Банка (1783—1788). Но наибольшего успеха в
достижении впечатления живописности одними только архитектурными средствами
— гармонией чистых линий и благородством пропорций — Кваренги достиг в своем
Александровском Царскосельском дворце с его знаменитыми колоннадами (1792—
1796).
Продолжая работать при Павле и Александре, Кваренги применял свое искусство ко
вкусам каждого — и оставался сам собою. Для Павла он выстроил Конногвардейский
манеж и Мальтийскую церковь; для Александра — Смольный и Екатерининские
институты. Но казармы, банк или школа — классические колоннады — оставались
такими же красивыми и одинаково нехарактерными для специального назначения
зданий. Классический стиль покрывал все, как бы подчеркивая этим официальный
характер заказов.
При Александре стиль «Людовика XVI» уступает место стилю «Империи». Это есть
последний шаг в развитии классического стиля. Увлечение Римом сменяется энту-
зиастическим преклонением перед Элладой. Пантеон со-
* Публикуются фрагменты из части II 2-го тома книги «Очерки по истории русской культуры»
(М., 1994): глава III. Секуляризация искусства и его самостоятельное развитие: архитектура и жи-
вопись. С. 28-31, 53-63.
21*
644
храняет обаяние, но рядом с ним идеалом художника становятся развалины дорического
храма в Пестуме. Стремление к крайней простоте линий соединяется со страстью к
колоссальным размерам. Имена Пиранези и Леду характеризуют этот стиль и время его
возникновения во Франции. С опозданием лет на 30 он приходит и в Александровскую
Россию. В Западной Европе самая грандиозность премированных проектов помешала их
осуществлению, даже при Наполеоне. Напротив, Россия, с ее императорскими заказами —
и при том специально Петербург, — оказалась для нового направления самой подходящей
ареной.
Первое монументальное здание времени Александра, Казанский собор (1801—1811)
русского архитектора Во-ронихина, крепостного гр. Строганова, доучивавшегося в
Париже, еще не знаменует наступления новой эпохи. Явное подражание храму Св. Петра с
его Берниниевской колоннадой и зависимость Казанского собора от чертежа Пейра-

старшего, строителя Одеона, не мешают, конечно, наслаждаться красотой
Воронихинского храма. Но говорить об оригинальности и новаторстве здесь еще нельзя.
Интереснее в этом отношении дорическая колоннада Воронихинского Горного Института
(1806—1811).
Настоящим представителем нового русского стиля является эмигрант Тома де Томон,
строитель Большого Театра (1802—1805) и петербургской Биржи (заимствованной, вместе
с ростральными колоннами, из премированного проекта (1782) некоего Пьера Бернара).
Силу и монументальность дает этой постройке ее выгодное положение на носу острова,
среди открытого пространства Невы, где Биржа довершает панораму Петербурга. С
Томоном соперничает и в этом отношении, и в отношении стиля русский последователь
Леду и Шальгрена Захаров своим зданием петербургского Адмиралтейства (1806—1815).
Ансамбль постройки Захарова, к сожалению, совершенно затемнен выстроенными в
промежутке между двумя павильонами со стороны Невы частными зданиями, а со
стороны Невского — разведенным там садом. Грандиозность всей композиции видна
только на старых гравюрах. Из других русских мастеров того времени упомянем еще
Стасова
645
(казармы Павловского полка (1817—1818); императорские конюшни (1817—1823);
Триумфальные Ворота у Московской заставы (1833—1838); Преображенский (1826—
1828) и Троицкий (1827—1835) соборы).
Но истинным завершителем александровского стиля — и всего петербургского периода
архитектуры — является Карл Росси, незаконный сын итальянской танцовщицы времени
Екатерины, обучавшийся во Флоренции и выдвинувшийся по смерти трех
вышеупомянутых иностранных архитекторов (1811—1814). Пользуясь диктатурой
«Комитета для строений» над всем строительством Петербурга, Росси мог
беспрепятственно выполнить грандиозные планы Леду. Своими постройками он придал
монументальному Петербургу окончательный теперешний вид. Росси работал не только
над зданиями, но и над улицами и площадями. Такой характер имеют все четыре главные
работы Росси: Михайловский дворец с его площадью (1819— 1823), полукружие перед
Зимним дворцом со знаменитой аркой посредине (1819—1829), площадь и окружающие
улицы около Александрийского театра, наконец, два соединенных здания Сената и
Синода. Если спорят о достоинствах величественного здания, в котором поместился музей
Александра III, то здание Главного Штаба и министерств Иностранных Дел и Юстиции с
«вратами победы», разделяющими их полукруг, вызывает общее восхищение
получившимся ансамблем. Другой ансамбль, менее видный сразу, но поражающий еще
большей смелостью, создан Росси в связи с постройкой Александрийского театра. Здание
самого театра стушевывается перед окружениями из дорических колонн и аттиков,
заменивших фронтоны. Они тянутся по Театральной улице с перекрытым аркой выходом
на Чернышеву площадь, где помещались министерство Народного Просвещения с
цензурным ведомством. Впечатление целого дополнено еще перестройкой выходящего на
площадь фасада Публичной Библиотеки. Также чуть не целый квартал Росси заполнил
корпусами Сената и Синода, соединенными парадной аркой, перекинутой над Галерной
улицей. Надо прибавить, что проекты Росси были еще грандиознее, чем их выполнение.
К тому же грандиозному стилю примыкает Исаакиев-ский собор, порученный,
совершенно случайно, учившемуся
646
в той же французской школе Перье и Фонтена «рисовальщику» французу Монферрану.
Собор значительно отяжелел при выполнении, которое затянулось на целых сорок лет
(1817—1857). Петербургская копия пыталась превзойти свои образцы, храм Св. Павла в
Лондоне и Пантеон в Париже, роскошью мозаик и мраморов и колоссальностью
гранитных колонн. Materia superavit opus: громоздкий материал подавил творчество.
Также и единственная в мире по размерам монолитная Александровская колонна
Монферрана, которою Николай I хотел превзойти «наполеоновскую колонну» (Ван-

домскую), не достигла красоты своего оригинала.
Эпопеями Росси и гигантским Исаакием кончается петербургская архитектурная феерия.
При Николае не только абсолютизм перестал быть «просвещенным» и охладел к
тонкостям искусства, но и жизненные потребности населения, которые игнорировались
монументальными стилями, слишком выступили на первый план, чтобы можно было их
игнорировать. Петербург перестал быть «пустырем». «Парадное, широкое, грандиозное
строительство» перестало быть задачей архитектуры; «повысились требования
относительно удобств расположения помещений, условий света» и т. д.,
игнорировавшиеся перенесением типа классического храма с его колоннами, портиками,
гладкими стенами. Приблизительно с 1840 г. «обязательность приспособления к
требованиям практической жизни сделало то, что фасады стали носить более раз-
дробленный на этажи характер, оконные пролеты стали больше и располагались чаще;
гладкой стены было меньше, а наличников и карнизов больше, — словом, явилось общее
измельчание и неразрывное с ним усложнение деталями. Наконец, везде в Европе начало
зарождаться то национальное движение, которое скоро заставило искать мотивов для
новой архитектуры в своем родном искусстве» (Фомин).
В николаевской России эта перемена прежде всего выразилась в новом «приказе».
Появились официальные сборники «фасадов, Е. И. Величеством опробованных для част-
ных строений в городах Российской империи» или «Высочайше утвержденных для
обывательских в городах домов». Новый «социальный заказ» был не на победу над
иностран-
647
цами путем подражания им, а на создание собственного «Высочайше утвержденного»
национального стиля.
В 30-х годах XIX в. правительство формально потребовало от художников этого стиля.
Заказ был исполнен архитектором Тоном, и русская архитектура обогатилась массой
бесцветных и механических подражаний старой московской архитектуре:
квазивизантийский пятиглавый храм, победивший в XVII в. русский национальный,
сделался теперь сам образцом национального стиля.
Правда, на казенных образцах Тона дело не остановилось. Изучение образцов
старинного зодчества познакомило художников с элементами настоящего
национального стиля. И строительное искусство с середины XIX в. задалось целью
сочетать этот стиль с осуществлением новых архитектурных задач. Каменную
летопись этих усилий можно прочесть на улицах Москвы. Тут мы увидим простую ко-
пию старинных русских форм рядом с формами совсем не русскими (Исторический
музей), отражение ученой теории о происхождении русского стиля из стиля
восточного (Политехнический музей), не совсем удачную попытку приспособить
старинные русские формы к потребностям современного общественного здания
(Дума) и тут же рядом более удачное и свободное решение той же самой задачи —
создать национальный стиль, отвечающий современным требованиям изящества и
удобства (Торговые ряды).
Таким образом, русская архитектура на короткое время нашла себе путь
самостоятельного развития — в возвращении к традициям XVI в. Но эта попытка
скоро уступила место более грандиозным задачам. Уже Виоле ле Дюк предсказывал
наступление периода «железной» архитектуры. В действительности этот период
оказался, в , зависимости от материала, «железобетонным». Характер материала, как и
стиль, на этот раз был уже безусловно интернациональным. С этим стилем мы еще
встретимся. С опытом воссоздания национального стиля было, во всяком случае,
покончено. Его элементы сохранились в русском искусстве исключительно для
декоративных целей.
Новый и окончательный толчок к развитию живописи, как и архитектуры, дан был

открытием академии и приглашением новых иностранных художников. К при-
648
глашенным при Елизавете выдающимся мастерам, графу Ротари, Торелли, де Вейи, Токке,
Моро, де Лоррену, Лаг-рене, которые работали по росписи зал и писали портреты,
присоединились при Екатерине более двух дюжин преимущественно немецких
художников (более выдающиеся Кристинек и Ритт; позднее Лампи, Рослен, Эрик-сен и
госпожа Виже-Лебрен). Многие из этих художников оказали непосредственное или
косвенное влияние на русских учеников. К концу XVIII столетия мы имеем уже своих
мастеров, некоторые из которых не уступают иностранцам. К старшему поколению
принадлежат в этом ряду сын солдата Антропов, подражавший знаменитым женским
головкам Ротари; братья Аргуновы, крепостные гр. Шереметева, особенно Рокотов,
последователь де Лоррена, Ротари и Токке, едва успевший удовлетворять заказы на
портреты. Следующее поколение, учившееся уже у русских художников, выдвинуло
знаменитые имена: Левицкого, ученика Антропова, Лосенко, ученика Ивана Аргунова,
Боровиковского, учившегося у Лосенко и у Лампи. Левицкий и Боровиковский, наиболее
знаменитые, тоже создали около себя целую школу. Таким образом, установилась
известная русская традиция. В области «высшего искусства», исторического и
эмблематического, эти художники продолжали оставаться под ферулой Академии. Но в
«низшей» области портрета, а затем и пейзажа — особенно жанра, русские художники
смогли более или менее эмансипироваться от академического «гипсового» и «натурного»
классов, приблизиться к «живой натуре» и создать целый ряд замечательных
произведений. Малоросса Левицкого (1735—1822), художника кокетливых смолянок,
знатоки сопоставляют с Генсборо. Правда, англичанин более глубок сравнительно с
благодушной насмешливостью Левицкого по отношению к изображаемому им обществу.
Боровиковский (1757—1825) более однообразен в своих мечтательных, томных и бледных
женских типах, но большой мастер в искусстве сопоставления красок. Лосенко отличается
точностью рисунка. Необузданный и влюбчивый Кипренский (1783—1836), деятельность
которого относится уже к александровской эпохе, представляет струю чувствительности и
романтизма. Вообще говоря, романтизм слабо отразился в русской живописи; но уже
649
Екатерина отдала дань чувствительности, перейдя от вытянутых по линейке прямых
линий французских садов к «кривым линиям, мягким спускам, прудам» и т. д. английской
«плантомании». Под влиянием Руссо в парках высоких особ тогда же начали появляться
«Эрмитажи», павильоны «дружбы» и «уединения», деревенские фермы и домики в стиле
Трианона. Критики единодушно признают, что Кипренский погубил свой талант, проведя
последние 20 лет жизни в Риме и заразившись там академизмом, которого избежал в
Петербурге. Линию чувствительности, но без буйного романтизма Кипренского и с
уклоном к сентиментальности продолжает в Москве Тро-пинин — такой же крепостной
по происхождению. Его «Швея» и «Кружевница», при всей своей слащавости, уже
предвещает будущую победу жанра и реализма в старой столице.
Реализм проникает до некоторой степени и в пейзаж конца XVIII и начала XIX в. Михаил
Иванов, ученик Ле Пренса, баловавшегося жанром, Федор Алексеев, ученик Белотто
(прозванного Каналетто), осмеливаются выйти за пределы сухого «перспективизма». А за
ними идут «поэты Петербурга» — Галактионов, Мартынов, особенно мечтательный
Воробьев, художник петербургской луны, закатов и восходов. Впрочем, Воробьев скоро
стал искать красоты пейзажа за границей, а за ним последовал самый талантливый из
пейзажистов того времени, Сильвестр Щедрин, влюбившийся в Сорренто и там умерший.
Наибольшим отступлением от академического стиля и самой «низшей» формой живописи
был, конечно, жанр — и прорывы в этом месте поэтому особенно интересны. Писать то,
что видишь кругом, казалось совершенно диким и недостойным искусства. Все реальное,
пройдя сквозь призму академической выучки, должно было явиться облагороженным, т. е.
прикрашенным и стилизованным. И характерно, что первым представителем жанра и
карикатуры является такой чудак, бродяга и салонный импровизатор, как обрусевший

поляк А. О. Орловский, сын содержателя корчмы, попавший в высшее общество.
Орловский (1777—1832) рисовал не только кистью, но и кончиком спичек, свечной све-
тильней, обмакнутыми в чернила пальцами и даже носом. И выходили из-под этих
инструментов шаржи на присут-
650
ствующих, костюмы для маскарадов, народные сценки в юмористическом духе. В
завещание будущему он оставил множество набросков пером, пастелью, углем, каранда-
шом и т. д., частью нелепых, а частью очень живых и метких. В то время (около 1815 г.)
только что был открыт новый способ размножения рисунков при помощи литографии — и
произведения Орловского распространялись в большом количестве экземпляров. Тут
были мужики и торговцы, юнкера и генералы, калмыки и татары, четверки породистых
лошадей и обозные клячи.
Помимо этого примера яркого отступления от принятых рисовальных приличий можно
привести несколько имен художников жанра, подражавших Ле Пренсу. Был даже в
Академии открыт класс живописи «для домашних упражнений», где давались темы вроде
того, чтобы «представить мещанина, который, чувствуя небольшой припадок, готовится
принять лекарство». Но серьезно на это никто не смотрел. Картина, подписанная именем
Лосенко и датированная 1757 г., изображавшая «живописца», рисующего у себя в ателье
портрет ребенка, была до того необычна для того времени, что пришлось усомниться и в
авторе (ее автор Иван Фирсов), и в дате. Нужно было пройти полувеку после этой даты,
чтобы в Петербурге появился истинный отец жанра, москвич Алексей Венецианов
(1780—1847), увлекшийся голландцами и попытавшийся усвоить их завет — писать
картины из жизни. Выставленная в Эрмитаже в 1820 г. картина Гране помогла Венециа-
нову определить свое призвание. «Сия картина, — говорил он, — произвела сильное
движение в понятии нашем о живописи. Мы в ней увидели совершенно новую часть ее, до
того времени не являвшуюся. Увидели изображение предметов, не подобное только или
точное только, а живое; не писанье с натуры, а изобразившуюся самую натуру». Далее
Венецианов излагает свои соображения о причинах произведенного картиной эффекта.
«Говорили, что фокус освещения — причина сего очарования... что полным светом никак
невозможно произвести оживотворе-ния предметов. Я решился победить невозможность:
уехал в деревню и принялся работать. Для успеха в этом мне надобно было оставить все
правила и манеры, двена-
651
дцатилетним копированием в Эрмитаже приобретенные. И средства Гранета открылись в
самом простом виде. Дело состояло в том, чтобы ничего не изображать иначе, как только
в натуре, что является, и повиноваться ей одной, без примеси манеры какого бы то ни
было художника, то есть не писать картины a la Rembrandt, a la Rubens, но просто, как бы
сказать, а 1а натура». Задача, как видим, была поставлена с изумительной для того
времени определенностью. Венецианов опередил не только русских реалистов 60-х и 70-х
гг., но и французских пленэристов (plein air), Моне и др. Удивительна и систематичность,
с которой Венецианов осуществил свой план. Он подал в отставку (служил землемером),
купил маленькое имение, прожил там в полном уединении три года и наконец, в 1824 г.,
поднес государю свою картину «Гумно». Чтобы получить «полный свет» в темном
помещении, он вырезал всю переднюю часть гумна и таким способом осветил первый
план уходящего вглубь сарая, в котором изобразил крестьянские работы. Радикальный
способ получать «полный свет», то есть рисовать с натуры не в студии, а среди самой
природы, был употреблен, впрочем, не одним Венециановым. Крылов, его ученик, чтобы
написать зимний пейзаж в деревне, построил нарочно балаган среди поля. С легкой руки
Венецианова художники овладели также темой освещенных интерьеров, анфилад комнат,
мастерских живописцев и т. д. (Ф. Толстой, Рейтерн, Зеленко). Но и на Венецианове, и на
его учениках все же отразились условности его времени. Его фигуры не движутся, а
позируют в застывших положениях. Крестьяне напоминают «пейзан» тогдашней

театральной пьесы. Художник как бы конфузится представлять их зрителю в неумытом
и нечесаном виде; он предварительно учит их хорошим манерам и одевает по-
праздничному. И все же для своего времени реализм Венецианова поразителен.
Рановременность его появления подчеркивается и тем, что, в то время как этот скромный
художник оставался в тени, занимаясь сомнительным видом искусства, академизм
окреп и бурно праздновал свои победы в лице Брюллова и Бруни.
Самоуверенный и тщеславный Карл Брюллов, чуть не с детства готовивший себя в
великие художники, под-
652
держал кредит академии и влил в академический стиль искусственную жизнь. После
долгой подготовки в Риме и одиннадцати месяцев труда Брюллов выставил свою пре-
тендовавшую на гениальность и широко разрекламированную картину «Последний день
Помпеи». Слухи о заграничном триумфе Брюллова предшествовали появлению картины в
Петербурге; наконец она была выставлена — в Зимнем Дворце и в Академии художеств.
Чисто академическая по приемам, она явилась в глазах публики под знаком романтизма, и
впервые в России успех картины принял размеры какого-то общественного события.
«Последний день Помпеи» — это была сама жизнь после той «тихой скуки и ледяной
неподвижности», какие царили в произведениях русских подражателей Менгса и Давида.
Бегущие люди, падающие здания, при ярком зареве извержения и пожара,
расточительность красок, движений фигур, эффекты света и выражение ужаса, отчаяния
— все это привело русскую публику в такой же восторг, какой лет 15 раньше испытала
французская публика перед полотном Жерико, первого провозвестника романтизма в
живописи
1
. Русское впечатление было тем живее, что оно было первое в этом роде. Пусть
это впечатление было основано на недоразумении, но того, что оно имело место —
именно по указанным мотивам, — отрицать невозможно. Вспомним, что романтизм
именно в середине тридцатых годов был очередным увлечением русской интеллигенции.
Итак, первое сильное впечатление, произведенное живописью на русскую публику, было
вместе с тем и первой победой над условностями академического классицизма. Конечно,
этого рода победа носила временный характер. То, что сравнительно с предыдущим
застоем искусства представилось на первый взгляд жизненной правдой, само по себе
очень скоро должно было оказаться риторикой и сплошным общим местом. Действующие
лица «Последнего дня Помпеи» слишком откровенно позировали перед зрителем в ролях,
предоставленных им художником; вся эта сцена слишком напоминала театральное
представление с заранее обдуманными и заученными
1
Разумею здесь его знаменитую картину «Плот фрегата Медузы».
653
эффектами. Положение, занятое Брюлловым, скоро оказалось промежуточным и
временным в истории нашего искусства. Брюллов был Державиным русской живописи.
Подобно «Певцу Фелицы», он старался вдохнуть жизнь в отжившие классические формы;'
но, продолжая пользоваться этими самыми формами, он так же быстро устарел вместе с
ними. Его следующая большая картина, вымученная и искусственная «Осада Пскова»,
претендовавшая положить начало национальной живописи, уже не произвела и малой
доли прежнего впечатления. Репутация Брюллова сохранилась только благодаря его
замечательным портретам. Но толчок, данный художникам и публике, не пропал даром;
только интерес, возбужденный у тех и других, скоро направился совсем в другую сторону.
В самый год колоссального успеха брюлловской картины в Петербурге Иванов начал
писать свою картину в Риме. По замыслу художника, эта картина должна была произвести
тот переворот в русской живописи, которого не удалось произвести Брюллову: она
должна была сознательно покончить со старым направлением академии и внести в
русское искусство жизнь и правду. И эта попытка, однако, не удалась и сохранила для нас
только один исторический интерес. Картина Иванова слишком долго писалась, чтобы
попасть в тон современности; зато для нас ее судьба служит лучшим показателем того, как
быстро совершалось дальнейшее развитие художников и публики. Жажда правды,

стремление к местному колориту было большой новостью, когда картина была задумана
(около 1824); эти стремления оставались еще новостью и тогда, когда Иванов, 12 лет
спустя, начал, наконец писать свою картину (1836). Но когда еще через столько же вре-
мени (1848) он ее кончил, все уже переменилось кругом художника: и время и люди.
Переменился, в конце концов, и сам Иванов, утративший свой религиозный идеализм.
Слишком поздно он осознал, как сильно над ним тяготели, по его собственному
выражению, следы «татарского ига», и притом еще не одного, а нескольких: ига соци-
ального положения, ига семейных традиций, ига академического воспитания, ига
итальянской школы. Под этим гнетом Иванов истратил жизнь на то, чтобы рассудком
убедиться, что русскому обществу нужно не то, что он де-
654
лал, а что-то другое. Со свойственной ему добросовестностью, он горячо принялся искать
этого «другого»; но ему так и не удалось до самой смерти вырваться из заколдованного
круга академической пустыни, не пришлось даже и издали взглянуть на обетованную
землю национального искусства. В те несколько недель жизни, которые оставались ему
после возвращения из Италии в Россию (1858), он, конечно, не имел возможности
рассмотреть, что эта искомая и неизвестная ему основа национального искусства тут, под
руками, зреет и пробивается на свет Божий, только не в высокой форме религиозной
живописи, а в форме презренного в его глазах, хотя и практиковавшегося им самим, с его
обычным искусством и искренностью «жанра».
А между тем «жанр» — эта проза живописи, ее социальный роман и повесть — давно уже
пустил корни в России и в середине века успел дать заметные побеги. Мы видели, что
Венецианов (1780—1847) был Карамзиным русской живописи, сумевшим облечь
подлинный русский быт в те приличные, сильно подправленные и подслащенные формы,
в которых этот быт только и мог тогда стать достоянием живописи. «Добрые поселяне» и
добродетельные помещики венециановских жанров никого не могли шокировать; сама
академия соглашалась на этих условиях принять под свое покровительство «сей приятный
род живописи». Сорок восьмой год и тут сразу все испортил, внеся резкий диссонанс в
мирное сожительство двух «штилей» и навсегда поссорив их между собою. Причиной
ссоры было неблаговоспитанное поведение русского жанра. На академической выставке
1848 г. появилось знаменитое федотовское «Утро чиновника, получившего первый
орден», переименованное из предосторожности в скромное «Следствие пирушки» в
академическом каталоге. Осторожность оказалась не лишней: при воспроизведении
картины в литографии пришлось пойти еще дальше и снять орден с халата
новоиспеченного «кавалера». Смысл этих мероприятий понятен был каждому: впервые
русская живопись осмелилась задеть настоящую, неприкрашенную гоголевскую
действительность. К выставке следующего 1849 г. Федотов взял тему в духе только что
начинавшего тогда Островского: он представил другую свою знаменитую картину
«Сватов-
655
ство майора». Русская живопись могла теперь праздновать свое гражданское
совершеннолетие.
Публика пошла за Федотовым; но в мире художников до самого конца царствования
императора Николая I продолжал царить Брюллов. Попытки Федотова здесь не казались
серьезными и вызвали осуждение критики. Самому Федотову и в голову не могло прийти,
что его картины окажутся первыми предвестниками того широкого движения, которое
началось в русской живописи с воцарением императора Александра II и привело к
образованию самостоятельной русской школы.
На этот раз искусство догнало, наконец, литературу и пошло и своем развитии об руку с
нею, в теснейшей от нее зависимости. Русские художники, в своем стремлении к правде и
действительности, только примкнули к общему настроению литературы и вместе с нею
бросились в борьбу против общего врага — против остатков ненавистной старины.

Старые авторитеты в мире живописи, как и повсюду, должны были быть окончательно
низвергнуты. Тот же самый литературный критик (В. В. Стасов), который в 1852—1856-х
гг. еще верит в величие Брюллова, в 1861 г. низводит его с пьедестала и подвергает суро-
вой критике его художественные приемы. То же самое произведение, которое только что
казалось критику чуть не бессмертным созданием по богатству художественной фантазии,
теперь вызывает с его стороны одно осуждение, как произведение, оскорбительное для
человеческого достоинства
2
. Понятно, что и картина Иванова, простоявшая в мастерской
еще десять лет после того, как перестала удовлетворять самого художника, пришлась в
эти годы (1858) совсем не ко двору. Молодежь спешила разорвать все связи с прошлым, с
академией и. с высокими родами живописи.
Перелом в отношении к искусству, как и в отношении к литературе, совпал с началом
царствования Алек-
2
Речь идет о последнем эскизе Брюллова «Всесокрушающее время» Tempo Destruttore, в котором
автор хотел состязаться со «Страшным судом» Микеланджело и изобразить всех представителей
религий, науки и искусства, любви и красоты всех времен и народов низвергаемыми старцем
Временем в одни и те же волны забвения.
656
сандра П. Как там, так и здесь общий дух свободы непосредственно повлиял на
творчество. Отрицательно это выразилось в протесте против всякого рода казенщины. По-
ложительно — в усвоении искусством идеи служения народу. Начала реализма,
заложенные в искусстве предыдущей эпохи, укрепились и развились. Но, соответственно
настроению первого десятилетия царствования, реализм стал служить прикладной —
«обличительной» — задаче. В этом выразилась как вновь приобретенная им сила, так и
его временная слабость — поскольку прикладная задача стала в противоречие с
собственными задачами искусства: с реализмом художественным.
В области живописи поворот был подготовлен двумя специальными обстоятельствами. С
одной стороны, академия художеств в начале 40-х гг. упразднила «казеннокоштных»
учеников. Молодежь была выпущена на улицу из «парников» академии. Нововведение не
замедлило сказаться. Почтительная и благовоспитанная академическая молодежь,
привыкшая повиноваться начальству и работать на вкус высоких заказчиков, сменилась
художественной богемой. В эмансипированную среду гораздо легче было проникнуть
новым течениям в искусстве. В ней развилось и чувство самостоятельности, толкавшее на
художественное новаторство. Другим новым обстоятельством, ослабившим идейное
влияние академии, было создание в тех же 40-х гг. в Москве конкурирующего
учреждения: Училища живописи, ваяния и зодчества. Москва всегда претендовала на
самостоятельность; влияние петербургской академии, хотя официально и
покровительствовавшей московской школе, было далеко. В преподавании здесь царила
гораздо большая свобода и даже своеволие. В Москве и появилось в конце 50-х гг. то
молодое течение, которое мечтало преобразовать в духе свободы и самую петербургскую
академию. Надо тут же добавить, что в Москве появился и образованный меценат, С. М.
Третьяков, который своими покупками, составившими основу Третьяковской галереи, дал
молодым художникам материальную базу для их творчества.
Не далее как в 1863 г. настроение молодого поколения художников находит свое
выражение в факте, в
657
высшей степени характерном. Тринадцать талантливых учеников академии
отказываются изображать «бога Оди-на в Валгале» — очередная тема, заданная
академией на золотую медаль. Они решают, что академия им больше не нужна,
посылка за границу тоже; от подражания великим образцам они бегут, как чумы,
всему предпочитают натуру, и притом свою родную, русскую натуру, и в ней ищут
пищи для своего вдохновения. Покинув академию, молодежь составляет «артель»,
сделавшуюся потом зерном «Товарищества передвижных выставок». Обращение к
большой публике являлось естественным выходом для такого направления, которое не
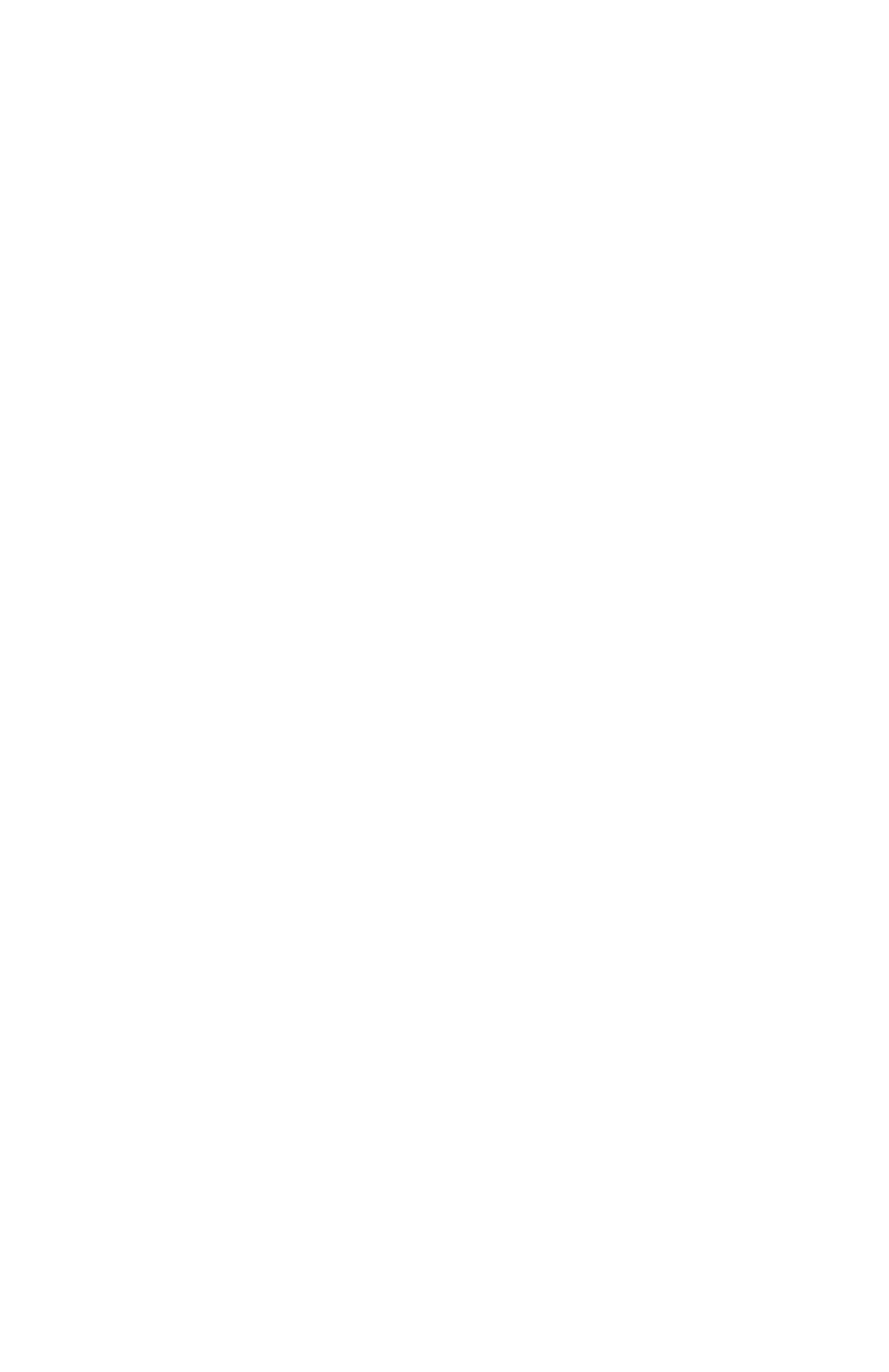
хотело больше лицемерия и учености, объявляло войну всякой условности и всем
хотело быть одинаково понятно. На академической выставке новому направлению
скоро становится тесно; с 1871 г. является «передвижная», и к ней переходят все
симпатии публики.
Последствия этого движения шестидесятых годов всем хорошо известны. Вслед за
Перовым — Некрасовым русской живописи — выступила целая фаланга талантливых
художников, перенесших на полотно все содержание русской действительности. Город
и деревня, столица и провинциальная глушь, все классы общества, крестьяне и
разночинцы, помещики, духовенство белое и черное; люди всяких профессий,
чиновники и лавочники, доктора и адвокаты, студенты и курсистки; всевозможные
положения жизни, служба и ссылка, преступление, подвиг и мирная семейная жизнь;
вся гамма душевных настроений, от легкой шутки до ужасающей трагедии, всяческая
злоба дня, банковый крах, судебный процесс — словом, все бесконечно разнообразное
содержание действительной жизни сразу сделалось содержанием того рода живописи,
который так еще недавно занимал в искусстве и на выставках второстепенное
положение «жанра». Теперь никто ничем другим не интересовался. Религиозная живо-
пись бессильна была вдохновить художника; историческая живопись удавалась редко.
Зато везде, где русские художники чувствовали под собой почву в существующей
действительности, где искусство должно было только быть правдивым, — везде новое
направление быстро до-
658
билось блестящих успехов. Подобно литературе, его обвиняли в тенденциозности, в
стремлении обличать общественное зло, в том, что его реализм часто переходил в пре-
увеличение и карикатуру. Нельзя отрицать фактов, вызвавших эти обвинения, и нет
надобности их оправдывать. Искусство только было в этом случае верным выразителем
настроения современного ему общества. Принцип реализма, во всяком случае, был шире
тех применений, которые из него делались на первых порах, и глубже коренился в
условиях развития русского творчества. Лишенное живой традиции и школы, русское
искусство должно было на первых шагах своего развития оказаться непосредственным и
свежим, враждебным всякой искусственности. Когда обличительная горячка прошла,
искусство все-таки осталось реалистическим и, перестав быть сентенциозным, оно от
этого не сделалось менее поучительным. После Перова мы получили Репина, изобразив-
шего нам, без сентиментальности и раздражения, нечто более сильное, чем все инвективы
молодого Перова. Репину нет надобности изображать сельского пастыря в момент самого
крайнего унижения, чтобы вызвать в зрителе критическое отношение к нему. Тот же
«крестный ход» он изобразит, напротив, в момент высшего торжества формальной веры
— и впечатление зрителя будет гораздо глубже и сильнее. Из толпы оборванцев
(«Бурлаки») он создаст художественный символ русского народа, веками тянущего свою
тяжелую государственную лямку среди монотонной исторической арены. И конечно, этот
«жанр» будет не менее «исторической» живописью, чем изображение такой же группы
оборванцев («Запорожцы»), не уместившихся в рамках государственности и сложившихся
в бесшабашное казацкое рыцарство. Как видим, все доступно этому реализму, не
исключая самых глубоких исторических концепций. Только в области религиозной
живописи он остается бессильным и вместо иконы дает ту же историческую картину
(«Святитель Николай»): но это потому, что расцвет религиозной живописи бывает
продуктом совсем других времен и иных общественных настроений. Получи
национальная школа живописи свое начало в исходе XVII в., она, конечно, развивалась бы
на почве ре-
659
лигиозной живописи в духе прерафаэлитизма; во второй половине XIX в. она только и
могла развиться на почве социальной борьбы и житейского реализма.
Однако же описанному периоду в истории русского искусства не суждено было остаться

окончательным. Представляя параллель к классическому периоду литературы XIX в.,
изобразительное искусство разделило и его судьбу. Эпоха «передвижников» запоздала
сравнительно с началом художественного реализма в литературе; но кончается она
приблизительно в то же время, в 80—90-х гг., и перед тем же напором нового поколения.
Новый разрыв традиций и бунт молодежи 90-х гг. повторяет бунт самих передвижников
против предшествовавшего им поколения академистов. Но то восстание взяло своим
лозунгом создание русской национальной школы. Восстание молодежи 90-х гг.
становится под знамя космополитизма. Еще явственнее, чем в литературе, оно
воспроизводит новые европейские веяния с таким же запозданием. Как там, так и здесь
новое европейское влияние уводит русское творчество от реализма — и от воздействия на
большие массы, доступные только реалистическому искусству. Изобразительные
искусства, как и литература, уходят в тесные дружеские кружки, подчиняющиеся
влиянию «урбанизма» и покровительствуемые (в Москве) молодым поколением
купечества, прошедшего через те же настроения конца века. Наконец, как там, так и здесь
победе нового направления предшествует переходный период освобождения от старой
школы, дающий на этот раз более положительные результаты.
Так как мы здесь опять вступаем в современный период истории творчества, то должны
быть готовы к преувеличенным переоценкам прошлого и настоящего: к чересчур высокой
оценке собственных достижений и к чрезмерному преуменьшению заслуг
предшественников. Историк должен быть настороже против того и другого. История еще
не произвела окончательной переоценки деятельности поколения 90-х гг., как оно
переоценило рабо*ту предыдущего. Но и его собственная деятельность, как увидим,
теперь отходит уже в прошлое, отодвигается в перспективу, благоприятную для
исторического суждения.
Надо сказать, что сами передвижники значительно облегчили тот протест против себя,
который назревал в
660
новом поколении. В середине 70-х гг. они уже не были теми задорными протестантами
и бойцами, какими явились организаторы «Артели» 60-х гг. Их пыл утих вместе с
достигнутым ими успехом. Их художественная техника усовершенствовалась — и тем
самым они приблизились к академии. Мы увидим такое же — и еще более яркое сбли-
жение в истории музыки. Первоначальный состав передвижников увеличился новыми
пришельцами, жизненный путь которых был иной, нежели протестантов 1863 г. Со
своей стороны и академия не осталась вовсе чужда новым веяниям. В конце века она
даже приняла в свою среду (при И. И. Толстом) некоторых видных передвижников —
прежде всего Репина, занявшего пост ректора академии, Куинд-жи (правда, скоро
вышедшего), Вл. Маковского, Киселева. Наконец — и это всего важнее — произошла
в этих смешавшихся рядах психологическая перемена, всегда сопутствующая зрелым
эпохам искусства, в которых полное усвоение техники совпадает с упадком
энтузиазма. В такие времена средства творчества усваиваются в совершенстве, но цели
творчества начинают становиться безразличными. При усилении интереса к технике
слабеет интерес и появляется равнодушие к содержанию. Нечто подобное произошло
и у нас в половине 70—80-х гг. Появилась группа художников — из поколения,
непосредственно следовавшего за передвижниками и из их собственной среды, —
давшая повод врагам академизма говорить о «возрождении академизма». Сюда
причислялись, как выученики академии — Флавицкий (1830—66), К. Маковский
(1839—1915), Семирадский (1842—1902), — так и некоторые передвижники, как
Владимир Маковский (1846—1920), и Независимые, как Верещагин (1842—1904) и
Поленов (1844—<1927>). Указывалось на связь их манеры с придворным искусством
Зичи, Макарта и т. д.
Со стороны нового поколения, родившегося на рубеже 60-х и 70-х гг., вся эта группа
