Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография
Подождите немного. Документ загружается.

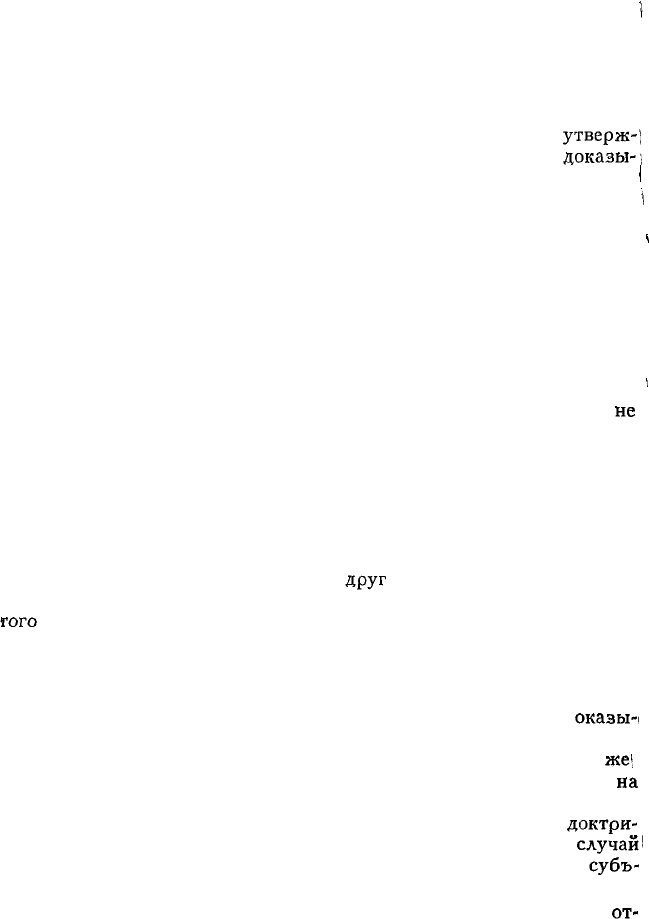
История как воспроизведение прошлого опыта 271
акта могут быть направлены на один и тот же объект. Если я
читаю Евклида и нахожу у него утверждение, что углы у основа-
ния двух равносторонних треугольников равны, и если я понимаю
содержание данной теоремы и признаю ее истинность, то истина,
признанная мною, или же положение, которое я утверждаю, ока-
зывается той же самой истиной, которую признал Евклид, и тем
же самым положением, которое он утверждал. Но мой акт
дения не тождествен его акту. Это совершенно однозначно
вается как тем, что акты связаны с разными лицами, так и тем,
что они относятся к разным временам. Мой акт понимания равен-
ства углов поэтому не есть возрождение его акта, а осуществление
другого акта того же самого рода. Осуществляя же этот акт, я по-
знаю не факт того, что Евклид установил равенство углов у осно-
вания равносторонних треугольников, но само их равенство. Для
того же, чтобы установить исторический факт познания Евклидом
равенства этих углов, я должен не копировать его акты мышле-
ния (т. е. мыслить подобно ему), но осуществлять совершенно
отличный акт мышления, акт, в котором будет мыслиться факт
того, что Евклид познал равенство углов этих треугольников.
И вопрос о том, как я пришел к этому мыслительному акту,
проясняется утверждением, что я воспроизвел акт познания Ев-
клида в моем собственном сознании. Ибо если мы отождествим
повторение его мыслительного акта с пониманием нами той же
самой истины или утверждением того же самого положения, ко-
торое познал или утвердил он, то мы сделаем неверное отождеств-
ление: евклидовское утверждение «углы у основания равносторон-
них треугольников равны» и мое утверждение «Евклид познал
равенство этих углов» отличаются
от друга. Если же под
повторением акта его мысли мы будем понимать воспроизведение
же самого акта, то это бессмыслица, так как последний не
может повториться.
С данной точки зрения, отношение между моим актом мышле-
ния о «равенстве данных углов» и моим актом мышления о том
же самом равенстве, осуществившимся пять минут назад,
вается отношением количественного различия и видового тождест-
ва. Эти два акта различны, но относятся к одному и тому
виду мыслительных актов. Следовательно, они похожи друг
друга и каждый из них похож в то же самое время на акт евкли-
довской мысли. И мы неизбежно приходим к выводу, что
на, рассматриваемая нами, представляет собою частный
теории познания, основывающийся на принципе копирования
ектом познаваемого объекта.
Но дает ли нам проведенный анализ подлинную картину
ношения между указанными двумя актами? Верно ли наше утвер-
ждение, что два человека, совершающие один и тот же акт мыс-
ли (или мы сами, совершающие его в разное время), осуществ-
ляют различные акты мысли, но одного и того же вида? Думаю,
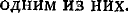
272 Идея истории. Часть V
читателю совершенно ясно, что мы не имеем в виду ничего по-
добного. И если кто-нибудь приписывает нам эту мысль, то толь-
ко потому, что он принимает за истину догму, будто всякий раз,
когда мы разграничиваем два объекта и тем не менее говорим об
их тождестве (что, как с нами согласятся все, мы делаем доволь-
но часто), мы понимаем под этим отношением отношение различ-
ных представителей одного и того же вида к этому виду, отно-
шение различных случаев одной и той же универсалии к этой
универсалии, различных членов одного и того же класса к этому
классу. Догма состоит совсем не в том, что нет такого явления,
как тождество в различии (никто этого и не отрицает), а в том,
что имеется только один вид такого тождества, а именно видовое
тождество в количественном различии. Критика данной догмы по-
этому не стремится доказать, что этого вида тождества в разли-
чии не существует, но говорит о наличии других видов этого
тождества и о том, что рассматриваемый нами случай оказывает-
ся
Наш воображаемый критик стремится доказать, что акт мысли
Евклида и мой акт не представляют собою одного акта, но яв-
ляются двумя самостоятельными актами: в количественном отно-
шении их два, в видовом — один. Он также доказывает, что акт
моей мысли о «равенстве углов равносторонних треугольников»,
осуществляющийся в настоящее время, находится в том же самом
отношении к акту моего мышления того же самого содержания,
совершившемуся пять минут назад. Столь очевидным данное по-
ложение кажется нашему критику, как я понимаю, лишь потому,
что он воспринимает акт мысли как нечто, имевшее место в потоке
сознания, нечто, бытием которого оказывается его наличие в этом
потоке. Коль скоро он совершен, поток уносит его в прошлое,
и ничто не может вернуть его оттуда. Может возникнуть другой
акт того же самого вида, но этот — никогда.
Но что, собственно, значат все эти утверждения? Предполо-
жим, что кто-нибудь продолжает в течение достаточно длительно-
го промежутка времени, скажем в течение пяти секунд, думать,
что «углы равностороннего треугольника равны». Совершает ли он
один акт мысли в течение этих пяти секунд, либо же он совер-
шает пять, десять, двадцать таких актов, различных количествен-
но, но тождественных по виду? Если верно последнее, то сколько
актов мысли совершается в течение пяти секунд? Наш гипотети-
ческий критик обязан ответить на этот вопрос, ибо суть его взгля-
дов состоит в том, что эти акты мысли количественно различны,
а потому исчислимы. Не может он уйти от ответа, сказав, что
здесь необходимы дальнейшие исследования, например, в лабора-
тории психолога. Если мы не знаем наперед, чем является плюра-
лизм актов мысли, то никакая психологическая лаборатория ни-
чем не сможет нам помочь. Но любой ответ на этот вопрос у
нашего критика будет одновременно и произвольным, и противо-
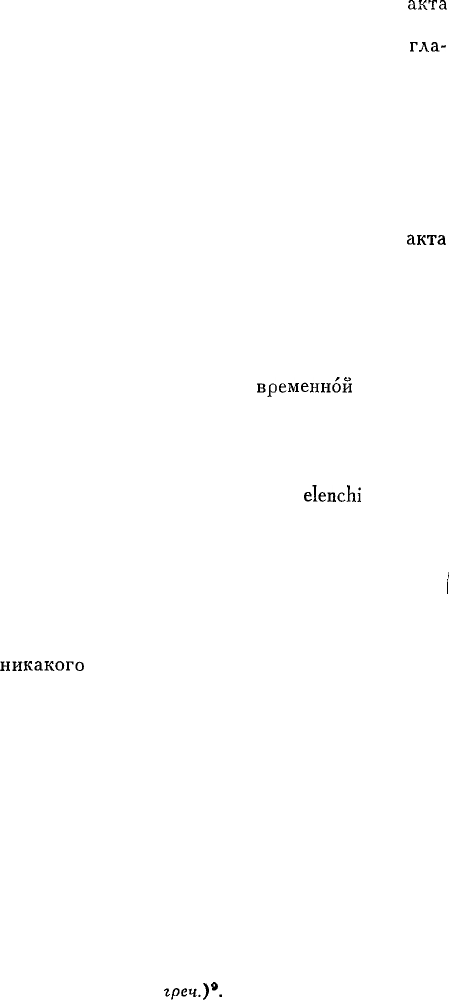
История как воспроизведение прошлого опыта
273
речивым. У нас не больше оснований связывать единство
мысли с временным интервалом, длящимся секунду или четверть;
секунды, чем с любым иным. Единственно возможный ответ
сил бы, что перед нами единый акт мысли, длившийся в тече-
ние пяти секунд, и наш критик мог бы признать это, пожелай он
того, сказав, что подобное тождество пережитого акта мысли пред-
ставляет собой «тождество некоего длящегося объекта».
Но предполагает ли здесь длящийся объект непрерывность?
Представим, что после того, как человек пять секунд думал о ра-
венстве этих углов, он переключал свое внимание на три последую-
щие секунды, а затем снова вернулся к предмету первоначаль-
ных размышлений. Имеем ли мы здесь перед собой два
мысли, а не один, поскольку между ними протекло известное вре-
мя? Конечно, нет. Перед нами один акт, но акт не непрерывный,,
а возобновленный после некоторого интервала. В последнем приме-
ре нет ничего нового по сравнению с первым. Когда какой-то акт
длится пять секунд, то деятельность в течение пятой секунды
настолько же отделена интервалом времени от деятельности в те-
чение первой секунды, как и в случае, когда
интервал
занят деятельностью иного характера или даже, если это возмож-
но, ничем не занят.
Утверждение, что акт мысли не может осуществиться дважды,
так как поток сознания уносит его с собой, поэтому представля-
ется ложным. Его ложность вытекает из ignoratio —
*. В той
мере, в какой опыт состоит из непосредственного сознания, из
чистых и простых ощущений и чувствований, приведенное утверж-
дение верно. Но акт мысли — это не простое ощущение или чувст-
вование. Это — знание, а знание нечто большее, чем непосредст-
венное сознание. Процесс познания не является поэтому простым
потоком сознания. Человек, сознание которого было бы простой
последовательностью переживаний, как бы они ни назывались, во-
обще не имел бы
знания. Он не мог бы помнить о
прошлом, ибо сама гипотеза «потока сознания» как последователь-
ности непосредственных переживаний делает невозможным позна-
ние психологических законов их связи, даже если мы допустили,
что такие законы существуют в сознании, понимаемом подобным
образом. Он не помнил бы ожога, но испытывал бы только чув-
ство страха перед огнем. Не мог бы он и воспринять мир вокруг
себя: он боялся бы чего-то, но не осознавал, что то, чего он боит-
ся, огонь, и меньше всего он либо кто-то другой сознавали бы,
что их сознание представляет собой простую последовательность
переживаний, за которую его выдают.
Если непосредственное сознание и является последователь-
ностью переживаний, то тогда мысль — деятельность, посредством
которой эта последовательность несколько приостанавливается для
* незнание средства доказательства (лат.—

27t
Идея истории. Часть
того, чтобы уловить ее общую структуру,— нечто, для чего прош-
лое не мертво и ушло, а может быть воспринято в связи с на-
стоящим и сопоставлено с ним. Сама мысль не включена в по-
ток непосредственного сознания. В определенном смысле она стоит
вне этого потока. Конечно, акты мысли происходят в строго опре-
деленные моменты. Архимед открыл понятие удельного веса, ког-
да находился в ванной. Но они не соотнесены со временем так, как
соотнесены простые ощущения или чувствования. Не только объект
мысли некоторым образом стоит вне времени, точно так же вне
времени стоит акт мысли. В этом смысле по крайней мере один
и тот же акт мысли может длиться в течение известного интер-
вала и возобновляться после того, как он был в дремлющем со-
стоянии.
Возьмем теперь третий случай, когда данный интервал охва-
тывает весь промежуток времени от Евклида до меня. Если он в
свое время думал, что «данные углы равны», а я сейчас думаю,
что «данные углы равны», то, если принять за истину, что вре-
менной интервал не является причиной отрицания тождества двух
актов мысли, может ли факт различия между Евклидом и мной
служить основанием для отрицания тождества в данном случае?
Не существует приемлемой теории личностного тождества, кото-
рая оправдала бы такую доктрину. И действительно, Евклид и
я — не две разные машинистки, которые как раз потому, что они
не тождественны, никогда не могут совершить одного и того же
акта, но осуществят всего лишь акт одного и того же вида.
знание — не машина, обладающая различными функциями, но со-
вокупность действий, и доказывать, что мыслительный акт Евкли-
да не может быть тождествен моему в силу того, что он входит
в иную совокупность действий, значит просто принимать за исти-
ну то, что еще необходимо доказать. Если мы приняли, что один
и тот же мыслительный акт может произойти дважды в различ-
ных контекстах, включенных в совокупность моих действий, то
почему бы нам не принять, что он может случиться дважды в
различных совокупностях?
Наш воображаемый критик, хотя и отрицает явно такую воз-
можность, фактически не только допускает ее, но и считает, что
она имеет место. Он утверждает, что, хотя объекты мыслительных
актов могут быть тождественными, сами акты различны. Но для
того чтобы это утверждать, необходимо знать, что «думает некто
другой». Когда мы говорим «знать», то речь идет не только о
знании, что другой думает о том же самом объекте, но и о зна-
нии акта, которым он его познает, ибо утверждение «знать, что
думает другой» претендует не только на познание моего акта мыс-
ли, но и на познание акта мысли другого, и на сравнение их.
Но почему такое сравнение оказывается возможным? Всякий че-
ловек, который может сравнивать эти акты мысли, должен быть
в состоянии в ходе своего размышления сформулировать утверж-
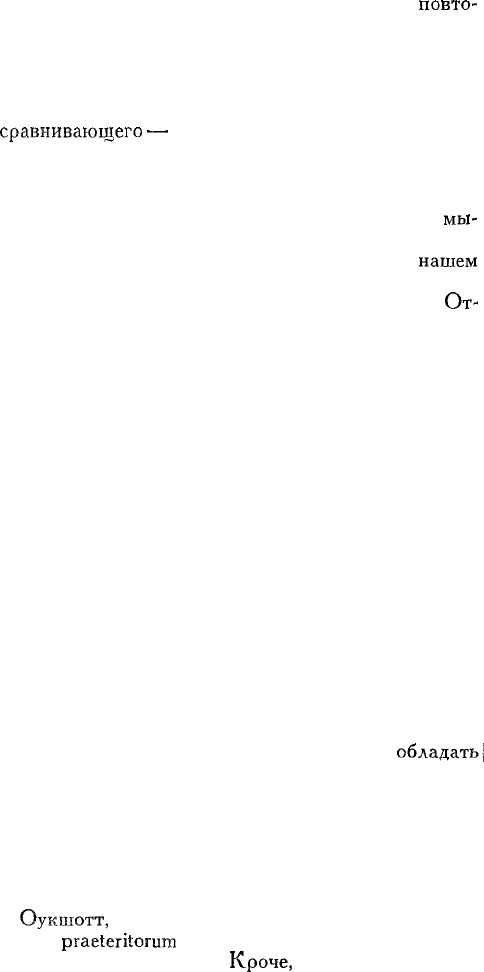
История как воспроизведение прошлого опыта
275
дение: «Мой акт познания является таковым»,— и затем
рить его. Потом он высказывает суждение: «Из его слов я могу
сделать вывод, что его акт познания является таковым»,— и за-
тем повторяет мыслительный акт другого. До тех пор пока он не
в состоянии высказать два этих утверждения, он не может сде-
лать сравнение. Но сравнение включает повторение акта мысли дру-
гого в сознании
не акта, напоминающего послед-!
ний (это было бы теорией познания, основывающейся на прин-
ципе копирования со всеми вытекающими отсюда опасными
последствиями), но именно самого акта.
Мысль никогда не может быть просто объектом. Познать
слительную деятельность другого возможно, только предположив,
что эта же самая деятельность может быть произведена в
собственном сознании. В этом смысле знать, «что думает другой»
(или же «думал»), включает продумывание его мысли самим.
вергнуть этот вывод значило бы отрицать у нас всякое право го-
ворить об актах мысли вообще за исключением тех, которые про-
исходят в нашем собственном сознании, и присоединиться к докт-
рине, провозглашающей, что единственно существующим созна-
нием является мое собственное. Я не буду спорить с человеком,
принимающим солипсизм этого рода. Я занимаюсь здесь вопросом
о том, как возможна история, как возможно знание прошлых мыс-
лей (актов мысли), и стремлюсь доказать, что это возможно лишь
при условии, что познание акта мысли другого включает ее повто-
рение в себе.
Если же человек, отрицающий наше условие, вследствие этого
впадает в солипсизм описанного нами типа, то я считаю свой тезис
доказанным.
Перейдем теперь ко второму возражению. Нам скажут: «Не
доказывают ли ваши рассуждения слишком много? Вы показали,
что акт мысли может быть не только мгновенным, но и охваты-
вать известный промежуток времени. Он может быть не только
длительным, но и возрождаться как во внутреннем мире одного и
того же сознания, так и в сознании другого (в противном случае
мы впадаем в солипсизм). Но все это не доказывает возможно-,
сти истории. Для этого мы должны были бы не только
способностью воспроизводить мысль другого, но при этом еще I
знать, что воспроизводимая мысль принадлежит ему. Но, коль
скоро мы воспроизводим ее, она делается нашей. Именно как нашу
мы воспроизводим ее и осознаем это в ходе данного воспроизве-
дения; так она становится субъективной и как раз по этой при-
чине теряет свою объективность, так она делается фактом настоя-
щего и именно поэтому перестает быть прошлым. Это, собственно,
и утверждали как
прямо говоривший, что историк упо-
рядочивает sub specie
свой опыт, в действительно-
сти относящийся к настоящему, так и
для которого вся-
кая история является современной историей».

/
276 Идея истории. Часть V
Наш воображаемый критик здесь утверждает две различные
вещи. Во-первых, он говорит, что простое воспроизведение мысли
еще не составляет исторического знания. Во-вторых, он доказы-
вает, что необходимая в данном случае добавка, а именно осозна-
ние того, что воспроизводимая нами мысль принадлежит прош-
лому, по самой природе вещей здесь невозможна, ибо эта мысль
в настоящее время является нашей, а наше знание ее ограничено
тем, что мы сейчас осознаем ее как некий элемент нашего соб-
ственного опыта.
Первое, очевидно, справедливо. То обстоятельство, что кто-то
совершает акт мысли, который до этого уже был совершен кем-то
другим, еще не делает из него историка. В данном случае мы не
можем сказать, что он фактически является историком, хотя и
не осознает этого, ибо, если человек не знает, что он мыслит
исторически, он исторически и
мыслит. Историческое мышле-
ние — это деятельность, представляющая собой функцию самосо-
знания, форма мысли, доступная только сознанию, осознающему,
что оно мыслит исторически.
Второе возражение нашего критика требует в качестве conditio
sine qua non * исторического мышления отнесения воспроизводи-
мой и переживаемой нами мысли в прошлое, причем он исходит
из абсолютной невыполнимости данного условия. Доказательство
этого положения важно, но давайте сначала присмотримся к дока-
зываемому тезису. Он сводится к следующему: хотя мы и в со-
стоянии воспроизвести в нашем собственном сознании акт мысли
другого, мы тем не менее никогда не сможем осознать, что вос-
производим его. Но здесь мы сталкиваемся с очевидным противо-
речием. Наш воображаемый критик допускает познание чего-то
случившегося и одновременно отрицает возможность такого позна-
ния. Он мог бы попытаться устранить этот парадокс, сказав:
«Я и не утверждаю, что данный акт мысли действительно имел
место. Все, что я хочу сказать, так это то, что ни одно известное
мне обстоятельство не исключает такой возможности. Я утверждаю
только то, что, если этот акт мысли и имел место, мы ничего не
можем знать о его существовании». И здесь он мог бы привести
в качестве аналогичного случая невозможность познания факта
неразличимости чувственных переживаний, испытываемых двумя
разными людьми, воспринимающими цвет одной и той же былин-
ки травы. Но данная параллель неточна. В действительности он
утверждал нечто совсем иное. Он не говорил, что если бы имела
место тождественность переживания двух актов мысли у разных
субъектов, то целый ряд обстоятельств помешал бы нам осознать
ее. Фактически он утверждал, что если бы в моем сознании воз-
никла мысль, тождественная мысли другого, то самый факт ее
возникновения у меня сделал бы невозможным признать ее чужой
* необходимое условие (лат.).
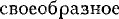
История как воспроизведение прошлого опыта
277
мыслью. А это превращает факт тождественности мыслей в весьма ι
событие.
В нашем сознании может иметь место только одно событие,
о котором мы можем сказать, что факт его возникновения делает
для нас невозможным осознание его как случившегося. Этим со-
бытием оказывается иллюзия или ошибка самого сознания. По-
этому наш критик фактически утверждает, что первым из двух
необходимых условий исторического знания является иллюзия или
ошибка как раз в отношении того вопроса, по которому требуется
это знание. Конечно, само по себе такое условие не делает исто-
рическое знание невозможным. Условие существования какой-ни-
будь вещи и она сама могут быть связаны друг с другом двоя-
ко: условие предшествует возникновению вещи и перестает суще-
ствовать после ее появления, либо условие сосуществует с нею.
Если нам доказывают, что историческое знание может возникнуть
только после устранения исторической ошибки, то подобное утвер-
ждение представляется заслуживающим внимания. Но воспроиз-
ведение мысли прошлого не представляет собою предварительного
условия исторического познания, а является его интегральной
частью. Фактически поэтому все рассуждение нашего критика де-
лает историческое знание невозможным.
Мы должны обратиться теперь к тем аргументам, на которых
основывается данное рассуждение. Здесь доказывается, что акт
мысли, становясь субъективным, теряет свою объективность и от-
сюда, становясь настоящим, перестает быть актом мысли, относя-
щимся к прошлому. Я могу осознавать его только в качестве
акта, осуществленного мною здесь и теперь, а не акта, совершен-
ного кем-то другим в иное время.
И в этом рассуждении снова нужно видеть разные моменты.
Прежде всего, по-видимому, надо остановиться на значении выра-
жения «осознавать что-то». Термин «осознание» часто использует-
ся очень двусмысленно. Говоря об осознании боли, мы часто хо-
тим дать понять, что мы просто ощущаем ее, не определяя ее
как зубную, головную или даже вообще как боль. Данное выраже-
ние обозначает просто наше непосредственное переживание нали-
чия боли. Некоторые философы назвали бы это непосредственное
переживание термином «узнавание». Но применение данного тер-
мина в нашем случае было бы в высшей степени неудачным, так
как «узнавание» — распространенное слово, обозначающее своеоб-
разный процесс, с помощью которого мы устанавливаем, что инди-
видуальные лица, места или иные другие вещи являются констант-
ными объектами в потоке нашего опыта, объектами, периодиче-
ски исчезающими и возникающими вновь, но опознаваемыми в
качестве тождественных самим себе. Узнавание выводит наше вос-
приятие далеко за пределы непосредственного опыта.
Но термин «осознание» используется также и в двух других
смыслах. Он применяется для обозначения самопознания, напри-

Идея истории. Часть V
мер, когда человек говорит о себе: «Я чувствую, что теряю вся-
кое терпение». Он хочет этим сказать, что не только испыты-
вает чувство гнева, и гнева нарастающего, но и выражает этим
также свое осознание того, что это растущее чувство гнева при-
надлежит именно ему в отличие от случая, когда он испытывает
гневное чувство, но приписывает его не себе, а, как это часто де-
лают, своим ближним. И наконец, упомянутый термин использует-
ся для осознания восприятия. Люди, например, иногда говорят,
что они осознают присутствие чего-то, в особенности когда вос-
приятие этого объекта смутно и неопределенно. Было бы полезно
устранить эту неопределенность словоупотребления, установив, как
правильно пользоваться данным словом. Нормативное его употреб-
ление в английском языке показало бы, что его правильным зна-
чением является второе, в то время как первое значение вернее
было бы выразить с помощью слов «чувствование», а
—
с помощью слова «восприятие».
Все это требует от нас пересмотра возражения нашего пред-
полагаемого критика. Означает ли оно, что я просто ощущаю
данный акт, как имеющий место, как элемент в потоке непосредст-
венного опыта, либо я признаю его в качестве моего собствен-
ного акта, занимающего определенное место в моей духовной жиз-
ни? Конечно, речь идет о втором значении, хотя оно и не исклю-
чает первого. Я осознаю мой акт не только как некоторый опыт,
но как мой опыт, и опыт определенного рода,— это акт, акт мыс-
ли, возникший определенным образом и имеющий определенный
когнитивный характер, и т. д.
Если дело обстоит таким образом, то мы не можем больше
утверждать, что данный акт в силу своей субъективности не мо-
жет быть объективным. И в самом деле, сказать такое значило
бы противоречить самому себе. Сказать, что некоторый акт мысли
не может быть объективным, равносильно утверждению его непо-
знаваемости. Но всякий, заявивший это, претендовал бы тем са-
мым и на свое знание подобных актов. Поэтому он должен был
бы как-то изменить свое утверждение и сказал бы, пожалуй, что
один акт мысли может быть объектом для другого 'акта, но не
для самого себя. Но и это утверждение в свою очередь нужда-
лось бы в определенной модификации, ибо любой объект является
объектом в подлинном смысле слова не для акта, а для субъекта
действия, сознания, совершающего данный акт. Конечно, сознание
не что иное, как его собственные действия. Но оно — полная со-
вокупность этих действий, а не одно из них, взятое в отдельно-
сти. Проблема поэтому состоит в том, может ли знать человек,
совершающий акт познания, что он совершает или совершил этот
| акт. Общепризнано, что может. В противном случае никто бы не
знал о существовании таких актов и потому не мог бы их назы-
вать субъективными. Но называть их просто субъективными, не
признавая, что одновременно они и объективные, значило бы от-
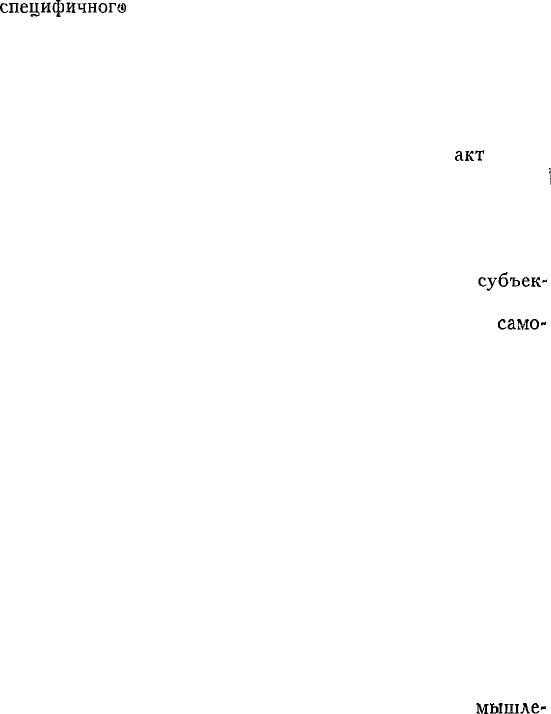
История как воспроизведение прошлого опыта 279
вергать исходное предположение, продолжая между тем принимать
его за истинное.
Акт мышления не является только субъективным, он в то же
время и объективен. Это не только процесс мышления, это и то,
о чем можно мыслить. Однако именно потому, как я уже попы-
тался доказать, что акт мышления никогда не бывает просто объ-
ективным, он требует, чтобы его можно было понять, особого
подхода,
только для него. Он не может противо-
стоять мыслящему духу как завершенный или данный объект,
открываемый этим духом как нечто, от него не зависящее и позна-
ваемое им таким, каким оно является в себе, в этой его незави-
симости. Он никогда не может изучаться «объективно» в том
смысле, в котором «объективное» исключает «субъективное». Он
должен изучаться таким, каким он существует в действительно-
сти, т. е. в качестве акта. И в силу того, что этот пред-
ставляет собой субъективность (хотя и не просто субъективность)
или опыт, он может изучаться только в его собственном субъектив-
ном бытии, т. е. мыслителем, деятельностью или опытом которого
он является. Это изучение не представляет собой простого опыта
или сознания. Это даже не простое самосознание. Здесь перед
нами самопознание. Таким образом, акт мысли, становясь
тивным, не перестает быть объективным. Он объект самосознания,
которое отличается от простого сознания тем, что является
сознанием, и отличается от простого самосознания тем, что оно
именно самопознание, т. е. критическое исследование собственного
акта мысли, а не простое осознание данного акта как своего соб-
ственного.
Здесь можно будет ответить на вопрос, который должен был
возникнуть у читателя, когда я сказал, что человек, совершающий
акт познания, может также знать при этом, что «он совершает
или совершил» данный акт. Какая из этих временных альтерна-
тив верна? Очевидно, первая, ибо акт мысли должен изучаться
таким, как он фактически существует, т. е. в качестве акта.
Но это положение не исключает и второй альтернативы. Мы уже
видели, что если простой опыт воспринимается как поток после-
довательных состояний, то мысль должна пониматься как нечто
такое, что может охватить структуру этого потока и определить
формы последовательности, им обнаруживаемые, т. е. мысль долж-
на быть в состоянии осмысливать как прошлое, так и настоящее.
Поэтому там, где мысль исследует деятельность самого мышления,
она в равной мере в состоянии исследовать прошлые акты
ния и сравнивать их с настоящим актом. Но между этими двумя
случаями имеется и некоторое различие. Если в настоящее время
я думаю о каком-то переживании, которое у меня было в прош-
лом, то, может быть, и верно то, что, мысля о нем, я вызываю
в себе некоторое эхо этого переживания в настоящем (не исклю-
чено также, что сама возможность мышления о нем обусловлена
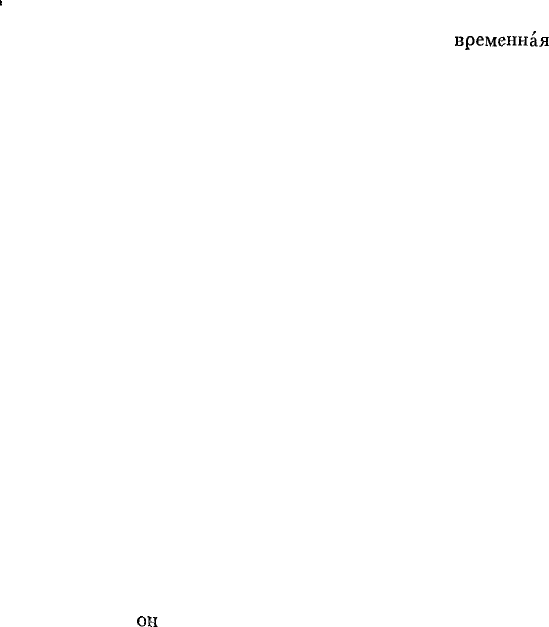
280 Идея истории. Часть V
независимым возникновением данного переживания). Так, я не мог
бы думать о гневе, испытанном мною в прошлом, не чувствуя сей-
час хотя бы слабого отзвука гнева в своем сознании. Но безотно-
сительно к тому, верно или ошибочно данное предположение, гнев,
действительно испытанный мною в прошлом, о котором я думаю
сейчас, остался в этом прошлом и прошел. Он не возобновляется.
Поток непосредственного опыта унес его навсегда. В лучшем слу-
чае в моем сознании появится лишь нечто, напоминающее его.
Пропасть во времени между моей мыслью в настоящем и ее объек-
том в прошлом заполняется не возрождением или воскрешением
объекта, а только способностью мысли преодолевать пропасти та-
кого рода. Мысль, совершающая это, есть память.
Если же, напротив, объектом моего мышления оказывается
прошедшая деятельность самой мысли (например, когда я думаю о
своих прошлых философских изысканиях), то
пропасть
между современным процессом мышления и ее прошлым объектом
заполняется с двух сторон. Для того чтобы вообще мыслить об
этой прошедшей деятельности мышления, я должен оживить ее
в своем сознании, ибо акт мышления может анализироваться толь-
ко как акт. Однако при этом я восстанавливаю не простой отзвук
прежней деятельности (нечто отличающееся, хотя и похожее на
нее); я снова обращаюсь к той же самой деятельности, опять
воспроизвожу ее, преследуя, может быть, при этом следующую
цель: воспроизводя ее под собственным критическим наблюдением,
я буду в состоянии обнаружить ложные шаги в моих рассужде-
ниях, шаги, в которых мои критики обвинили меня. Вновь проду-
мывая мою прошлую мысль таким образом, я не просто вспоми-
наю ее. Я конструирую историю определенной фазы моей жизни,
а различие между памятью и историей заключается в том, что,
если в памяти прошлое — всего лишь простое зрелище, в истории
оно воспроизводится в мысли, протекающей в настоящий момент.
В той мере, в какой эта мысль оказывается только мыслью, прош-
лое просто воспроизводится. В той же мере, в какой оно является
мыслью о мысли, прошлое мыслится в качестве воспроизводимого
бытия, а мое знание самого себя оказывается историческим
знанием.
Таким образом, история меня самого является не памятью
как таковой, но особым случаем памяти. Безусловно, сознание, ко-
торое не могло бы помнить, не обладало бы и историческим зна-
нием. Но память как таковая — всего лишь мысль, протекающая
в настоящем, объектом которой является прошлый опыт как тако-
вой, чем бы
ни был. Историческое знание — это тот особый
случай памяти, когда объектом мысли настоящего оказывается
мысль прошлого, а пропасть между настоящим и прошедшим за-
полняется не только способностью мысли настоящего думать о
прошлом, но и способностью мысли прошлого возрождаться в на-
стоящем.
