Конрад Н.И. Избранные труды. История
Подождите немного. Документ загружается.

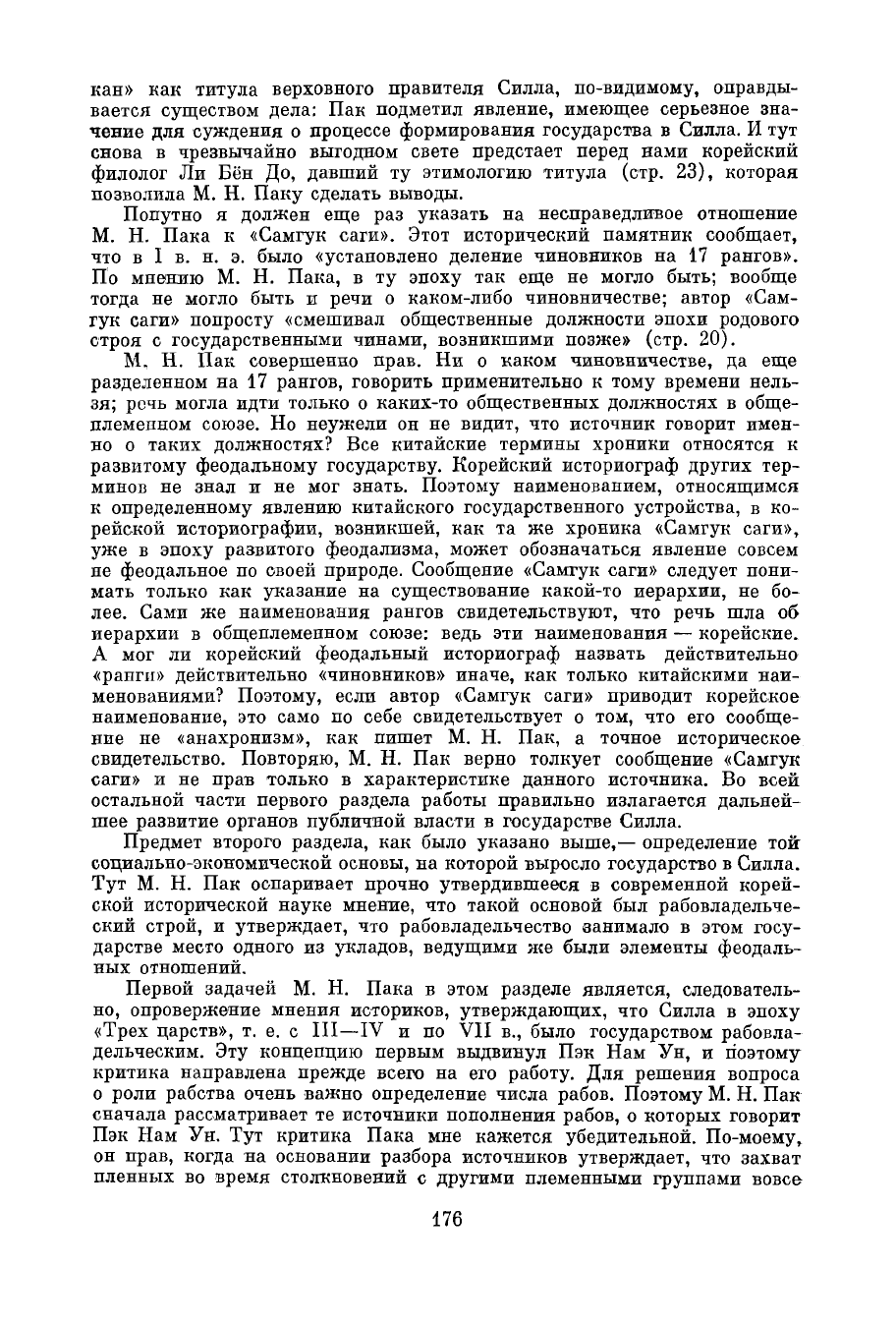
кан» как
титула
верховного правителя Силла, по-видимому, оправды-
вается существом дела: Пак подметил явление, имеющее серьезное зна-
чение для суждения о процессе формирования государства в Силла. И тут
снова в чрезвычайно выгодном свете предстает перед нами корейский
филолог Ли Бён До, давший ту этимологию
титула
(стр. 23), которая
позволила М. Н. Паку сделать выводы.
Попутно я должен еще раз указать на несправедливое отношение
М. Н. Пака к «Самгук саги». Этот исторический памятник сообщает,
что в I в. н. э. было «установлено деление чиновников на 17 рангов».
По
мнению М. Н. Пака, в ту эпоху так еще не могло быть; вообще
тогда
не могло быть и речи о каком-либо чиновничестве; автор «Сам-
гук
саги»
попросту «смешивал общественные должности эпохи родового
строя с государственными чинами, возникшими позже» (стр. 20).
М, Н. Пак совершенно прав. Ни о каком чиновничестве, да еще
разделенном на 17 рангов, говорить применительно к тому времени нель-
зя;
речь могла идти только о каких-то общественных должностях в обще-
племенном
союзе. Но неужели он не видит, что источник говорит имен-
но
о таких должностях? Все китайские термины хроники относятся к
развитому феодальному
государству.
Корейский историограф
других
тер-
минов
не знал и не мог знать. Поэтому наименованием, относящимся
к
определенному явлению китайского государственного устройства, в ко-
рейской
историографии, возникшей, как та же хроника «Самгук саги»,
уже в эпоху развитого феодализма, может обозначаться явление совсем
не
феодальное по своей природе. Сообщение «Самгук
саги»
следует
пони-
мать только как указание на существование какой-то иерархии, не бо-
лее. Сами же наименования рангов свидетельствуют, что речь шла об
иерархии в общеплеменном союзе: ведь эти наименования — корейские.
А мог ли корейский феодальный историограф назвать действительно
«ранги»
действительно «чиновников» иначе, как только китайскими наи-
менованиями?
Поэтому, если автор «Самгук
саги»
приводит корейское
наименование,
это само по себе свидетельствует о том, что его сообще-
ние
не «анахронизм», как пишет М. Н. Пак, а точное историческое
свидетельство. Повторяю, М. Н. Пак верно толкует сообщение «Самгук
саги»
и не прав только в характеристике данного источника. Во всей
остальной части первого раздела работы правильно излагается дальней-
шее развитие органов публичной власти в
государстве
Силла.
Предмет второго раздела, как было указано выше,— определение той
социально-экономической
основы, на которой выросло государство в Силла.
Тут М. Н. Пак оспаривает прочно утвердившееся в современной корей-
ской
исторической науке мнение, что такой основой был рабовладельче-
ский
строй, и
утверждает,
что рабовладельчество занимало в этом
госу-
дарстве место одного из укладов, ведущими же были элементы феодаль-
ных отношений.
Первой
задачей М. Н. Пака в этом разделе является, следователь-
но,
опровержение мнения историков, утверждающих, что Силла в эпоху
«Трех
царств», т. е. с
III—IV
и по VII в., было государством рабовла-
дельческим. Эту концепцию первым выдвинул Пэк Нам Ун, и поэтому
критика
направлена прежде всего на его работу. Для решения вопроса
о
роли рабства очень важно определение числа рабов. Поэтому М. Н. Пак
сначала рассматривает те источники пополнения рабов, о которых говорит
Пэк
Нам Ун. Тут критика Пака мне кажется убедительной. По-моему,
он
прав, когда на основании разбора источников
утверждает,
что
захват
пленных во время столкновений с другими племенными группами вовсе
176
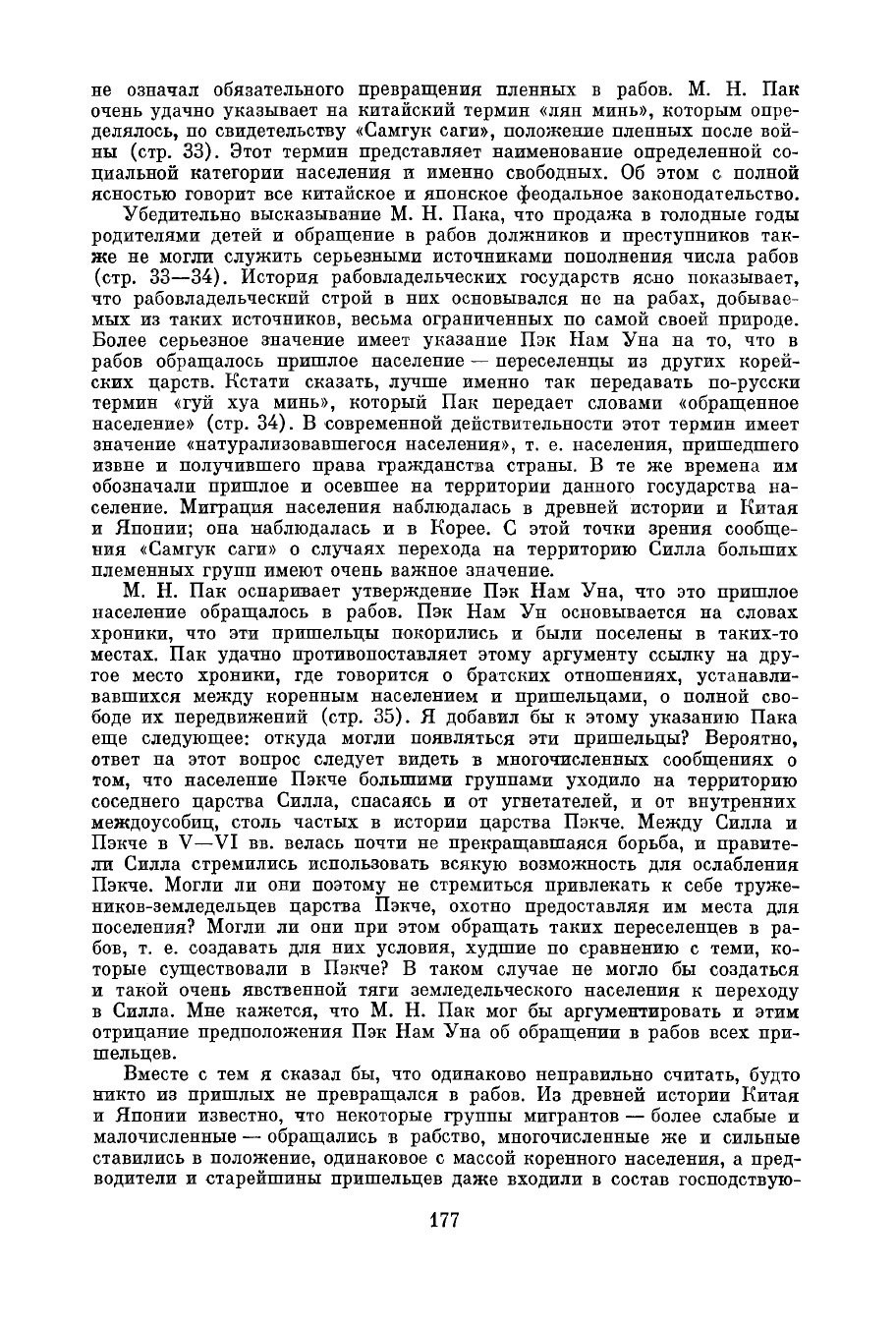
не
означал обязательного превращения пленных в рабов. М. Н. Пак
очень удачно указывает на китайский термин «лян минь», которым опре-
делялось, по свидетельству «Самгук саги», положение пленных после вой-
ны
(стр. 33). Этот термин представляет наименование определенной со-
циальной
категории населения и именно свободных. Об этом с полной
ясностью говорит все китайское и японское феодальное законодательство.
Убедительно высказывание М. Н. Пака, что продажа в голодные годы
родителями детей и обращение в рабов должников и преступников так-
же не могли служить серьезными источниками пополнения числа рабов
(стр.
33—34). История рабовладельческих государств ясно показывает,
что рабовладельческий строй в них основывался не на рабах, добывае-
мых из таких источников, весьма ограниченных по самой своей природе.
Более серьезное значение имеет указание Пэк Нам Уна на то, что в
рабов обращалось пришлое население — переселенцы из
других
корей-
ских царств. Кстати сказать, лучше именно так передавать по-русски
термин
«гуй
хуа минь», который Пак передает словами «обращенное
население» (стр. 34). В современной действительности этот термин имеет
значение
«натурализовавшегося населения», т. е. населения, пришедшего
извне
и получившего права гражданства страны. В те же времена им
обозначали пришлое и осевшее на территории данного государства на-
селение.
Миграция населения наблюдалась в древней истории и Китая
и
Японии; она наблюдалась и в Корее. С этой точки зрения сообще-
ния
«Самгук
саги»
о случаях перехода на территорию Силла больших
племенных групп имеют очень важное значение.
М. Н. Пак оспаривает утверждение Пэк Нам Уна, что это пришлое
население обращалось в рабов. Пэк Нам Ун основывается на словах
хроники,
что эти пришельцы покорились и были поселены в таких-то
местах. Пак удачно противопоставляет этому аргументу ссылку на дру-
гое место хроники, где говорится о братских отношениях, устанавли-
вавшихся
между
коренным населением и пришельцами, о полной сво-
боде их передвижений (стр. 35). Я добавил бы к этому указанию Пака
еще следующее: откуда могли появляться эти пришельцы? Вероятно,
ответ на этот вопрос
следует
видеть в многочисленных сообщениях о
том, что население Пэкче большими группами
уходило
на территорию
соседнего царства Силла, спасаясь и от угнетателей, и от внутренних
междоусобиц, столь частых в истории царства
Пэкче.
Между Силла и
Пэкче
в
V—VI
вв. велась почти не прекращавшаяся борьба, и правите-
ли
Силла стремились использовать всякую возможность для ослабления
Пэкче.
Могли ли они поэтому не стремиться привлекать к себе
труже-
ников-земледельцев царства
Пэкче,
охотно предоставляя им места для
поселения? Могли ли они при этом обращать таких переселенцев в ра-
бов,
т. е. создавать для них условия,
худшие
по сравнению с теми, ко-
торые существовали в Пэкче? В таком
случае
не могло бы создаться
и
такой очень явственной тяги земледельческого населения к
переходу
в
Силла. Мне кажется, что М. Н. Пак мог бы аргументировать и этим
отрицание
предположения Пэк Нам Уна об обращении в рабов
всех
при-
шельцев.
Вместе с тем я сказал бы, что одинаково неправильно считать,
будто
никто
из пришлых не превращался в рабов. Из древней истории Китая
и
Японии известно, что некоторые группы мигрантов — более слабые и
малочисленные — обращались в рабство, многочисленные же и сильные
ставились в положение, одинаковое с массой коренного населения, а пред-
водители и старейшины пришельцев
даже
входили в состав господствую-
177
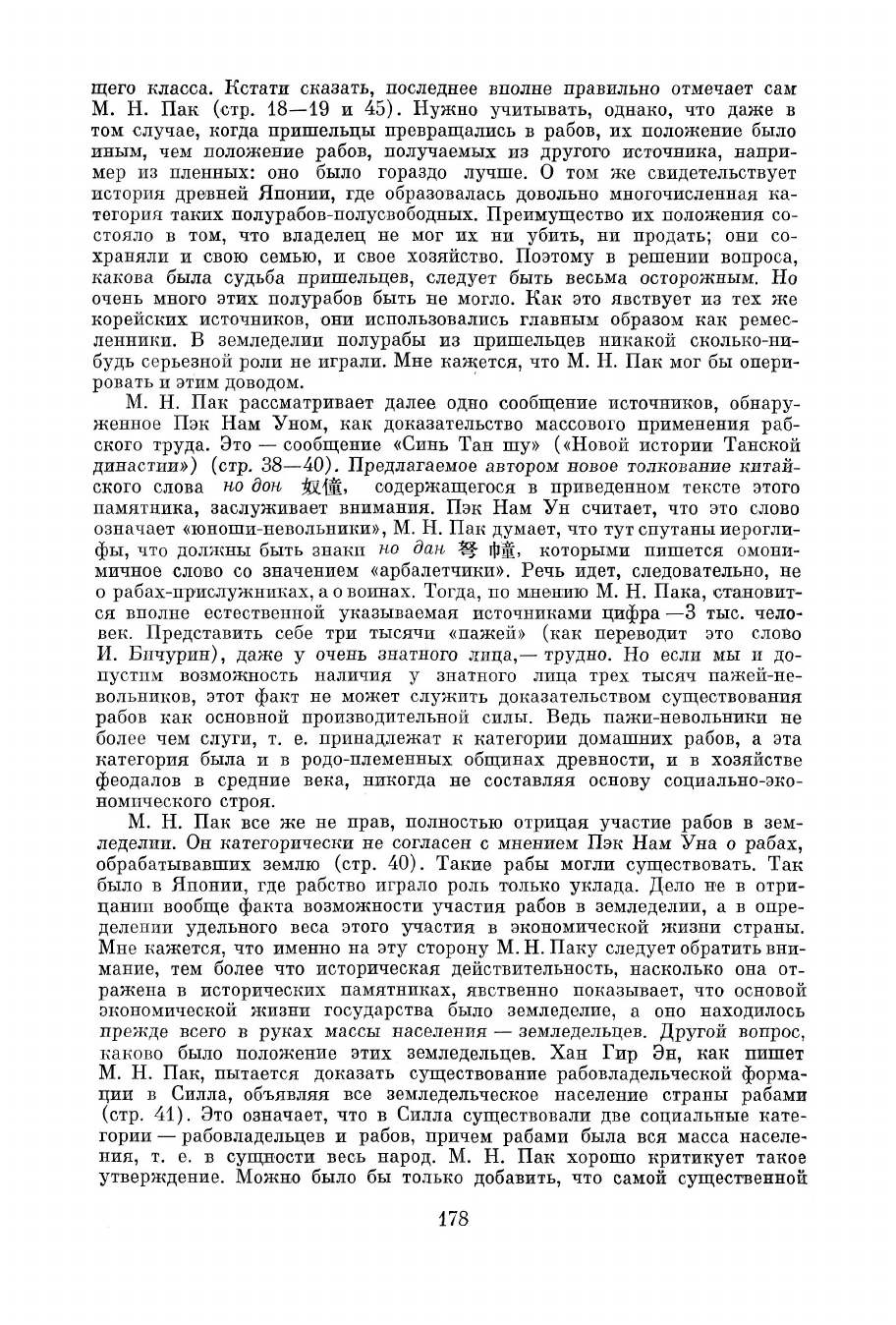
щего класса. Кстати сказать, последнее вполне правильно отмечает сам
М. Н. Пак (стр. 18—19 и 45). Нужно учитывать, однако, что
даже
в
том случае, когда пришельцы превращались в рабов, их положение было
иным,
чем положение рабов, получаемых из
другого
источника, напри-
мер из пленных: оно было гораздо лучше. О том же свидетельствует
история
древней Японии, где образовалась довольно многочисленная ка-
тегория таких полурабов-полусвободных. Преимущество их положения со-
стояло в том, что владелец не мог их ни убить, ни продать; они со-
храняли и свою семью, и свое хозяйство. Поэтому в решении вопроса,
какова
была
судьба
пришельцев,
следует
быть весьма осторожным. Но
очень много этих полурабов быть не могло. Как это явствует из тех же
корейских
источников, они использовались главным образом как ремес-
ленники.
В земледелии полурабы из пришельцев никакой сколько-ни-
будь
серьезной роли не играли. Мне кажется, что М. Н. Пак мог бы опери-
ровать и этим доводом.
М. Н. Пак рассматривает далее одно сообщение источников, обнару-
женное Пэк Нам Уном, как доказательство массового применения раб-
ского
труда.
Это — сообщение «Синь Тан шу» («Новой истории Танской
династии») (стр. 38—40). Предлагаемое автором новое толкование китай-
ского слова но дон #jciii> содержащегося в приведенном тексте этого
памятника,
заслуживает внимания. Пэк Нам Ун считает, что это слово
означает «юноши-невольники», М. Н. Пак
думает,
что тут спутаны иерогли-
фы,
что должны быть знаки но дан Щ
ijjig,
которыми пишется омони-
мичное слово со значением «арбалетчики». Речь идет, следовательно, не
о
рабах-прислужниках, а о воинах. Тогда, по мнению М. Н. Пака, становит-
ся
вполне естественной указываемая источниками цифра —3 тыс. чело-
век.
Представить себе три тысячи
«пажей»
(как переводит это слово
И.
Бичурин),
даже
у очень знатного лица,— трудно. Но если мы и до-
пустим возможность наличия у знатного лица
трех
тысяч пажей-не-
вольников,
этот факт не может служить доказательством существования
рабов как основной производительной силы.
Ведь
пажи-невольники не
более чем слуги, т. е. принадлежат к категории домашних рабов, а эта
категория была и в родо-племенных общинах древности, и в хозяйстве
феодалов в средние века, никогда не составляя основу социально-эко-
номического строя.
М. Н. Пак все же не прав, полностью отрицая участие рабов в зем-
леделии. Он категорически не согласен с мнением Пэк Нам Уна о рабах,
обрабатывавших землю (стр. 40). Такие рабы могли существовать. Так
было в Японии, где рабство играло роль только уклада. Дело не в отри-
цании
вообще факта возможности участия рабов в земледелии, а в опре-
делении удельного веса этого участия в экономической жизни страны.
Мне
кажется, что именно на эту сторону М.Н. Паку
следует
обратить вни-
мание,
тем более что историческая действительность, насколько она от-
ражена в исторических памятниках, явственно показывает, что основой
экономической
жизни государства было земледелие, а оно находилось
прежде всего в руках массы населения — земледельцев. Другой вопрос,
каково
было положение этих земледельцев. Хан Гир Эн, как пишет
М. Н. Пак, пытается доказать существование рабовладельческой форма-
ции
в Силла, объявляя все земледельческое население страны рабами
(стр.
41). Это означает, что в Силла существовали две социальные кате-
гории — рабовладельцев и рабов, причем рабами была вся масса населе-
ния,
т. е. в сущности весь народ. М. Н. Пак хорошо критикует такое
утверждение. Можно было бы только добавить, что самой существенной
178
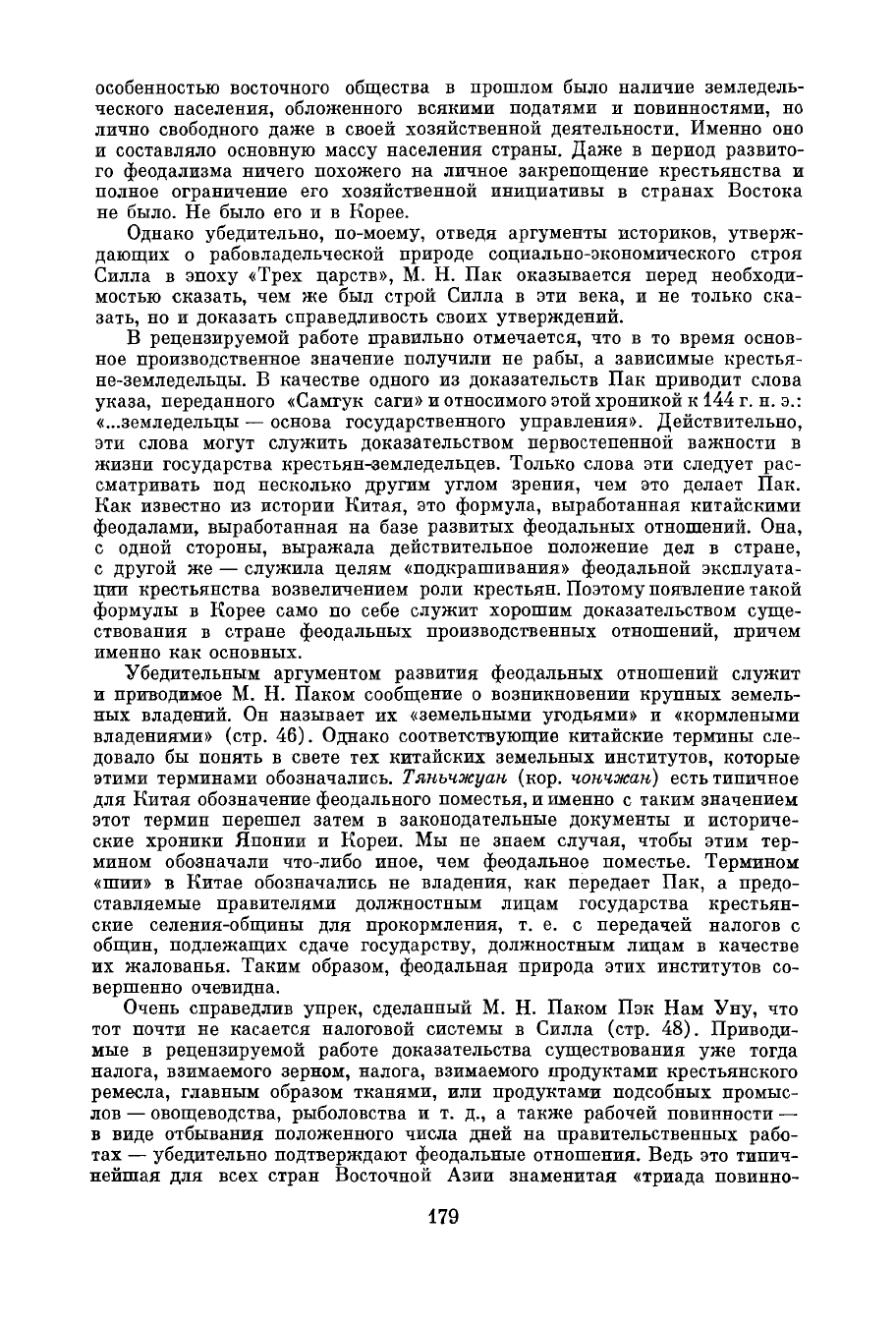
особенностью восточного общества в прошлом было наличие земледель-
ческого населения, обложенного всякими податями и повинностями, но
лично
свободного
даже
в своей хозяйственной деятельности. Именно оно
и
составляло основную массу населения страны. Даже в период развито-
го феодализма ничего похожего на личное закрепощение крестьянства и
полное
ограничение его хозяйственной инициативы в странах Востока
не
было. Не было его и в Корее.
Однако убедительно, по-моему, отведя аргументы историков,
утверж-
дающих о рабовладельческой природе социально-экономического строя
Силла в эпоху
«Трех
царств», М. Н. Пак оказывается перед необходи-
мостью сказать, чем же был строй Силла в эти века, и не только ска-
зать, но и доказать справедливость своих утверждений.
В рецензируемой работе правильно отмечается, что в то время основ-
ное
производственное значение получили не рабы, а зависимые крестья-
не-земледельцы. В качестве одного из доказательств Пак приводит слова
указа, переданного «Самгук
саги»
и относимого этой хроникой к 144 г. н. э.:
«...земледельцы — основа государственного управления». Действительно,
эти
слова
могут
служить доказательством первостепенной важности в
жизни
государства крестьян-земледельцев. Только слова эти
следует
рас-
сматривать под несколько другим
углом
зрения, чем это
делает
Пак.
Как
известно из истории Китая, это формула, выработанная китайскими
феодалами, выработанная на базе развитых феодальных отношений. Она,
с одной стороны, выражала действительное положение дел в стране,
с
другой
же — служила целям «подкрашивания» феодальной эксплуата-
ции
крестьянства возвеличением роли крестьян. Поэтому появление такой
формулы в Корее само по себе служит хорошим доказательством суще-
ствования в стране феодальных производственных отношений, причем
именно
как основных.
Убедительным аргументом развития феодальных отношений служит
и
приводимое М. Н. Паком сообщение о возникновении крупных земель-
ных владений. Он называет их «земельными
угодьями»
и «кормлеными
владениями» (стр. 46). Однако соответствующие китайские термины сле-
довало бы понять в свете тех китайских земельных институтов, которые
этими
терминами обозначались.
Тянъчжуан
(кор.
чончжан)
есть типичное
для Китая обозначение феодального поместья, и именно с таким значением
этот термин перешел затем в законодательные документы и историче-
ские
хроники Японии и Кореи. Мы не знаем случая, чтобы этим тер-
мином
обозначали что-либо иное, чем феодальное поместье. Термином
«шии»
в Китае обозначались не владения, как передает Пак, а предо-
ставляемые правителями должностным лицам государства крестьян-
ские
селения-общины для прокормления, т. е. с передачей налогов с
общин,
подлежащих сдаче
государству,
должностным лицам в качестве
их жалованья. Таким образом, феодальная природа этих институтов со-
вершенно
очевидна.
Очень справедлив упрек, сделанный М. Н. Паком Пэк Нам Уну, что
тот почти не касается налоговой системы в Силла (стр. 48). Приводи-
мые в рецензируемой работе доказательства существования уже
тогда
налога, взимаемого зерном, налога, взимаемого продуктами крестьянского
ремесла, главным образом тканями, или продуктами подсобных промыс-
лов — овощеводства, рыболовства и т. д., а также рабочей повинности —
в
виде отбывания положенного числа дней на правительственных рабо-
тах — убедительно подтверждают феодальные отношения.
Ведь
это типич-
нейшая
для
всех
стран Восточной Азии знаменитая
«триада
повинно-
179
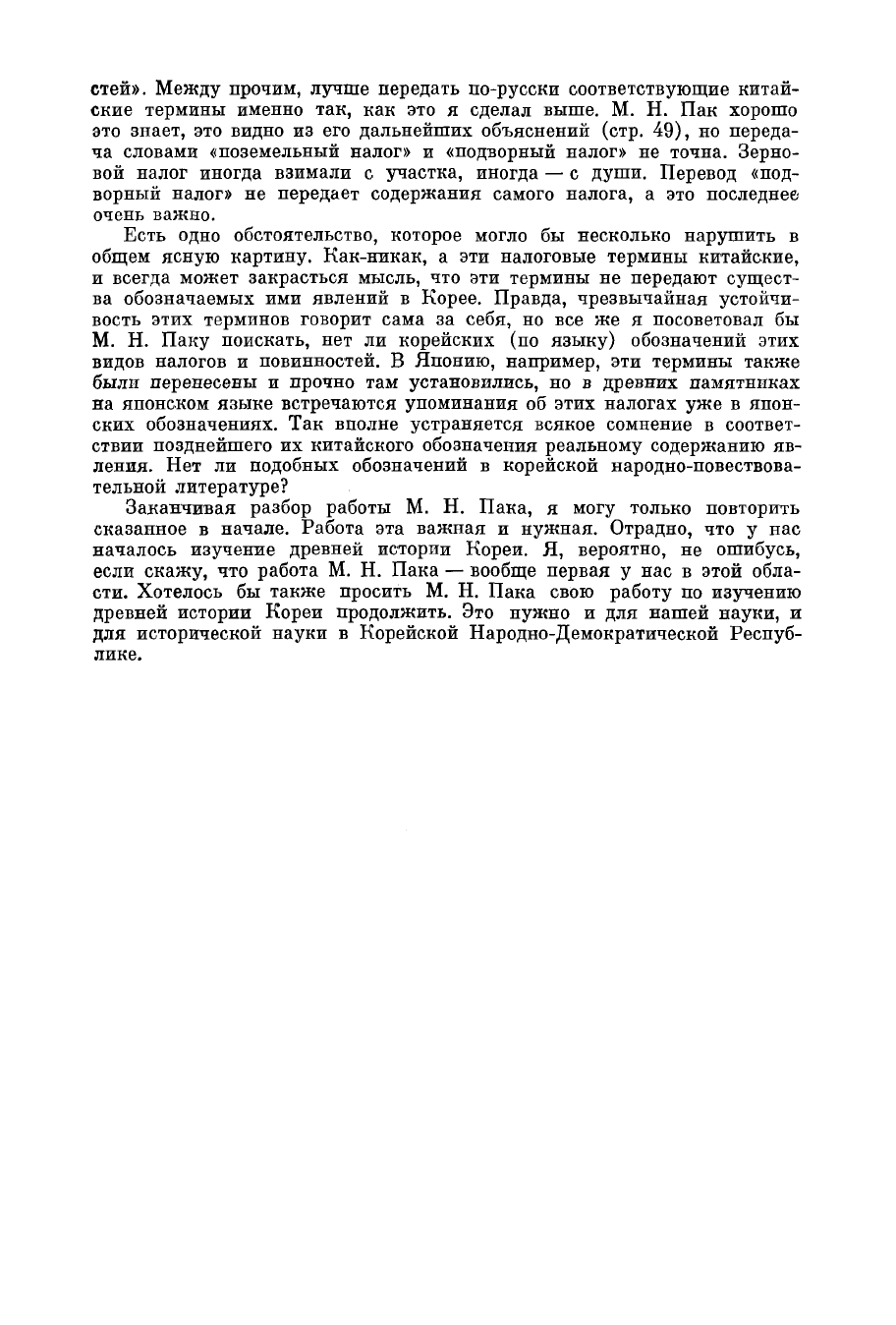
стей». Между прочим, лучше передать по-русски соответствующие китай-
ские
термины именно так, как это я сделал выше. М. Н. Пак хорошо
это
знает, это видно из его дальнейших объяснений (стр. 49), но переда-
ча словами «поземельный
налог»
и «подворный
налог»
не точна. Зерно-
вой
налог иногда взимали с участка, иногда — с души. Перевод
«под-
ворный
налог»
не передает содержания самого налога, а это последнее
очень важно.
Есть одно обстоятельство, которое могло бы несколько нарушить в
общем ясную картину.
Как-никак,
а эти налоговые термины китайские,
и
всегда может закрасться мысль, что эти термины не передают сущест-
ва обозначаемых ими явлений в Корее. Правда, чрезвычайная устойчи-
вость этих терминов говорит сама за себя, но все же я посоветовал бы
М. Н. Паку поискать, нет ли корейских (по языку) обозначений этих
видов налогов и повинностей. В Японию, например, эти термины также
были перенесены и прочно там установились, но в древних памятниках
на
японском языке встречаются упоминания об этих налогах уже в
япон-
ских обозначениях. Так вполне устраняется всякое сомнение в соответ-
ствии позднейшего их китайского обозначения реальному содержанию яв-
ления.
Нет ли подобных обозначений в корейской народно-повествова-
тельной литературе?
Заканчивая
разбор работы М. Н. Пака, я могу только повторить
сказанное
в начале. Работа эта важная и нужная. Отрадно, что у нас
началось изучение древней истории Кореи. Я, вероятно, не ошибусь,
если скажу, что работа М. Н. Пака — вообще первая у нас в этой обла-
сти.
Хотелось бы также просить М. Н. Пака свою работу по изучению
древней истории Кореи продолжить. Это нужно и для нашей науки, и
для исторической науки в Корейской Народно-Демократической Респуб-
лике.
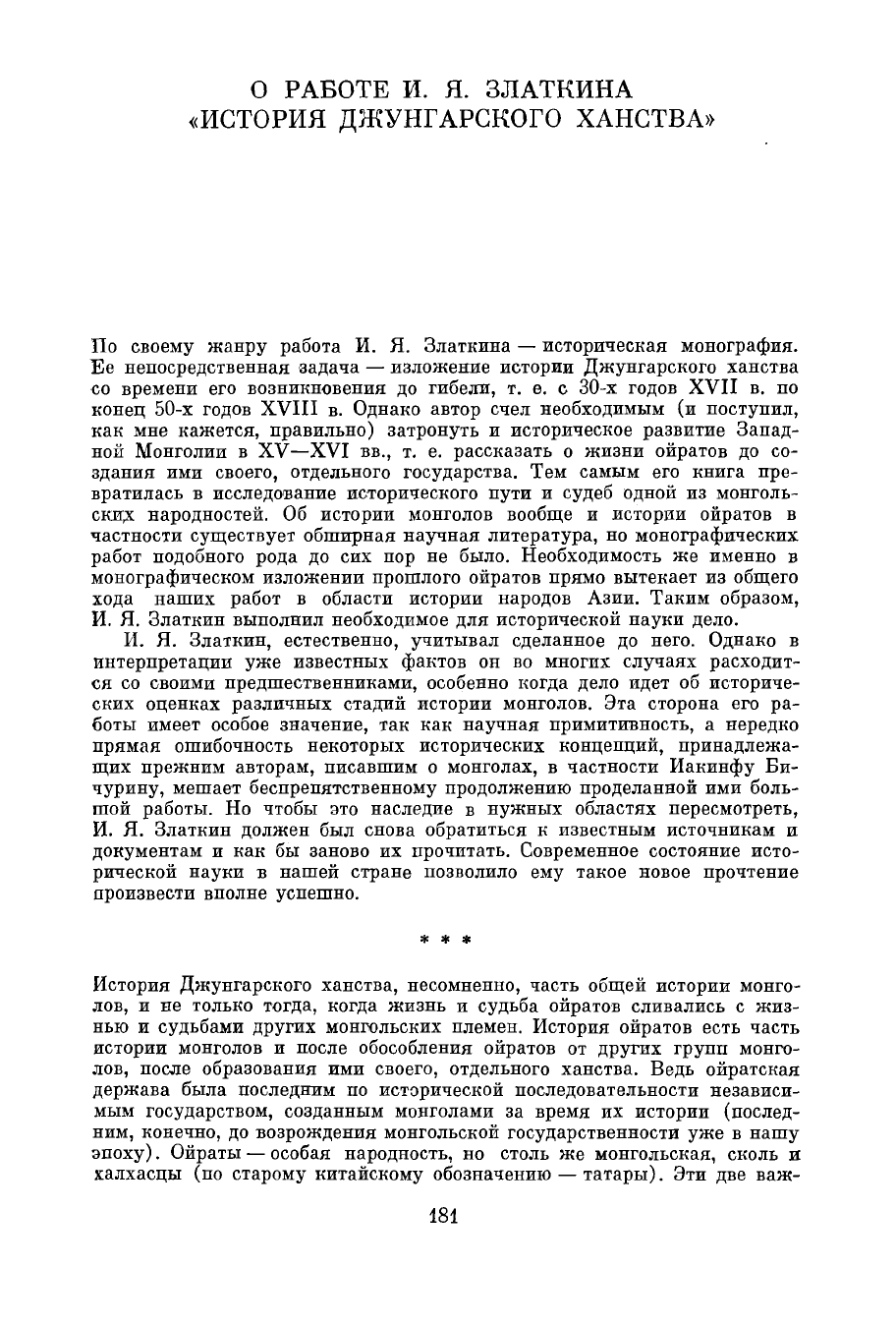
О РАБОТЕ И. Я. ЗЛАТКИНА
«ИСТОРИЯ
ДЖУНГАРСКОГО
ХАНСТВА»
По
своему жанру работа И. Я. Златкина — историческая монография.
Ее непосредственная задача — изложение истории Джунгарского ханства
со времени его возникновения до гибели, т. е. с 30-х годов
XVII
в. по
конец
50-х годов
XVIII
в. Однако автор счел необходимым (и поступил,
как
мне кажется, правильно) затронуть и историческое развитие Запад-
ной
Монголии в
XV—XVI
вв., т. е. рассказать о жизни ойратов до со-
здания
ими своего, отдельного государства. Тем самым его книга пре-
вратилась в исследование исторического пути и
судеб
одной из монголь-
ских народностей. Об истории монголов вообще и истории ойратов в
частности
существует
обширная научная литература, но монографических
работ подобного рода до сих пор не было. Необходимость же именно в
монографическом изложении прошлого ойратов прямо вытекает из общего
хода
наших работ в области истории народов Азии. Таким образом,
И.
Я. Златкин выполнил необходимое для исторической науки дело.
И.
Я. Златкин, естественно, учитывал сделанное до него. Однако в
интерпретации уже известных фактов он во многих случаях расходит-
ся
со своими предшественниками, особенно когда дело идет об историче-
ских оценках различных стадий истории монголов. Эта сторона его ра-
боты имеет особое значение, так как научная примитивность, а нередко
прямая
ошибочность некоторых исторических концепций, принадлежа-
щих прежним авторам, писавшим о монголах, в частности Иакинфу Би-
чурину, мешает беспрепятственному продолжению проделанной ими боль-
шой
работы. Но чтобы это наследие в нужных областях пересмотреть,
И.
Я. Златкин должен был снова обратиться к известным источникам и
документам и как бы заново их прочитать. Современное состояние исто-
рической
науки в нашей стране позволило ему такое новое прочтение
произвести вполне успешно.
* *
История
Джунгарского ханства, несомненно, часть общей истории монго-
лов,
и не только
тогда,
когда жизнь и
судьба
ойратов сливались с жиз-
нью и судьбами
других
монгольских племен. История ойратов есть часть
истории
монголов и после обособления ойратов от
других
групп монго-
лов,
после образования ими своего, отдельного ханства.
Ведь
ойратская
держава была последним по исторической последовательности независи-
мым государством, созданным монголами за время их истории (послед-
ним,
конечно, до возрождения монгольской государственности уже в нашу
эпоху). Ойраты — особая народность, но столь же монгольская, сколь и
халхасцы (по старому китайскому обозначению — татары). Эти две важ-
181
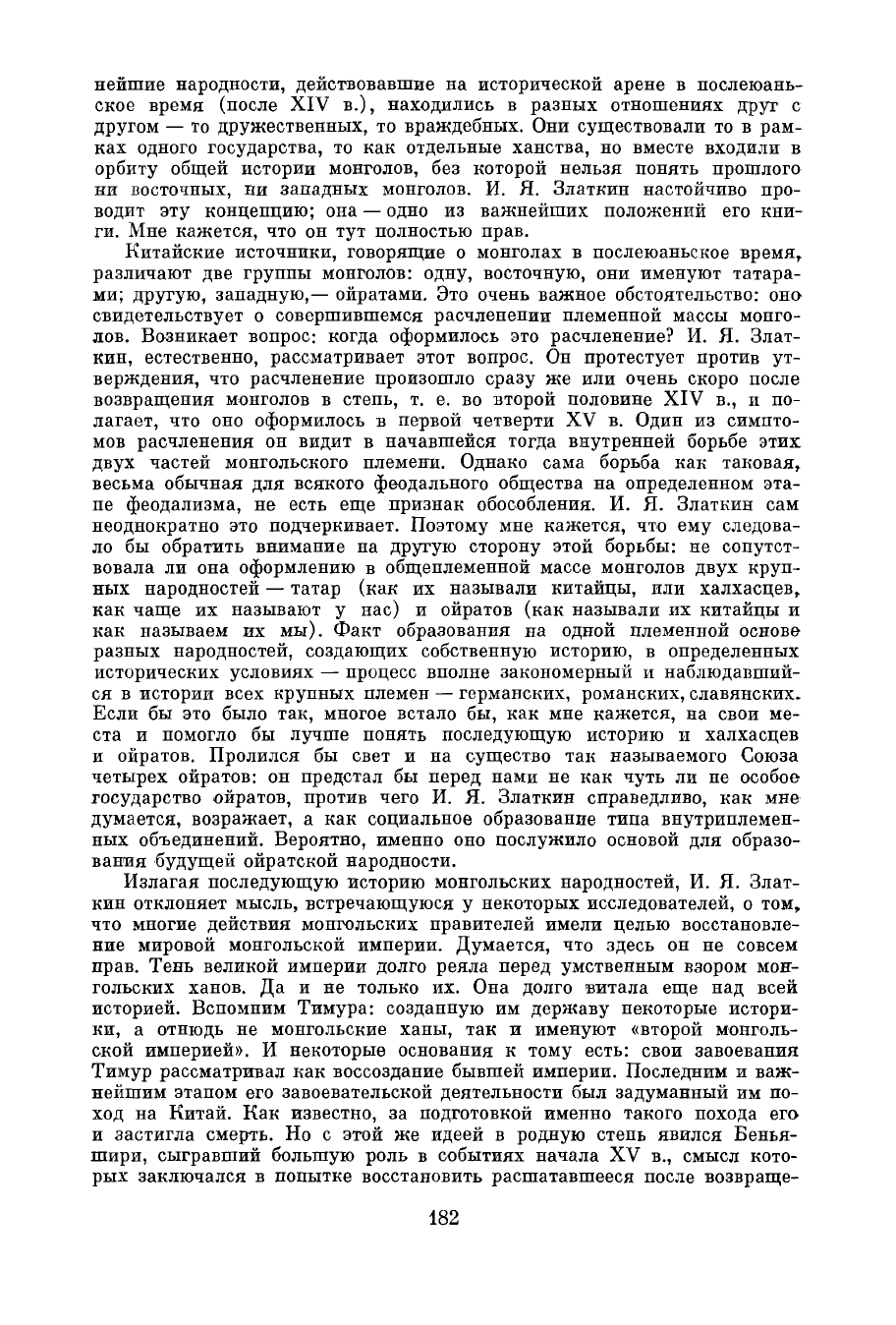
нейшие
народности, действовавшие на исторической арене в послеюань-
ское время (после XIV в.), находились в разных отношениях
друг
с
другом
— то дружественных, то враждебных. Они существовали то в рам-
ках одного государства, то как отдельные ханства, но вместе входили в
орбиту общей истории монголов, без которой нельзя понять прошлого
ни
восточных, ни западных монголов. И. Я. Златкин настойчиво про-
водит эту концепцию; она — одно из важнейших положений его кни-
ги.
Мне кажется, что он тут полностью прав.
Китайские
источники, говорящие о монголах в послеюаньское время,,
различают две группы монголов: одну, восточную, они именуют татара-
ми;
другую,
западную,— ойратами. Это очень важное обстоятельство: оно
свидетельствует о совершившемся расчленении племенной массы монго-
лов.
Возникает вопрос: когда оформилось это расчленение? И. Я. Злат-
кин,
естественно, рассматривает этот вопрос. Он протестует против ут-
верждения, что расчленение произошло сразу же или очень скоро после
возвращения
монголов в степь, т. е. во второй половине XIV в., и по-
лагает, что оно оформилось в первой четверти XV в. Один из симпто-
мов расчленения он видит в начавшейся
тогда
внутренней борьбе этих
двух
частей монгольского племени. Однако сама борьба как таковая,
весьма обычная для всякого феодального общества на определенном эта-
пе феодализма, не есть еще признак обособления. И. Я. Златкин сам
неоднократно
это подчеркивает. Поэтому мне кажется, что ему следова-
ло бы обратить внимание на
другую
сторону этой борьбы: не сопутст-
вовала ли она оформлению в общеплеменной массе монголов
двух
круп-
ных народностей — татар (как их называли китайцы, или халхасцев,
как
чаще их называют у нас) и ойратов (как называли их китайцы и
как
называем их мы). Факт образования на одной племенной основе
разных народностей, создающих собственную историю, в определенных
исторических условиях — процесс вполне закономерный и наблюдавший-
ся
в истории
всех
крупных племен — германских, романских, славянских.
Если
бы это было так, многое встало бы, как мне кажется, на свои ме-
ста и помогло бы лучше понять последующую историю и халхасцев
и
ойратов. Пролился бы свет и на существо так называемого Союза
четырех ойратов: он предстал бы перед нами не как
чуть
ли не особое
государство ойратов, против чего И. Я. Златкин справедливо, как мне
думается, возражает, а как социальное образование типа внутриплемен-
ных объединений. Вероятно, именно оно послужило основой для образо-
вания
будущей
ойратекой народности.
Излагая
последующую историю монгольских народностей, И. Я. Злат-
кин
отклоняет мысль, встречающуюся у некоторых исследователей, о том,
что многие действия монгольских правителей имели целью восстановле-
ние
мировой монгольской империи. Думается, что здесь он не совсем
прав.
Тень великой империи долго реяла перед умственным взором мон-
гольских ханов. Да и не только их. Она долго витала еще над всей
историей.
Вспомним Тимура: созданную им
державу
некоторые истори-
ки,
а отнюдь не монгольские ханы, так и именуют «второй монголь-
ской
империей». И некоторые основания к тому есть: свои завоевания
Тимур рассматривал как воссоздание бывшей империи. Последним и важ-
нейшим
этапом его завоевательской деятельности был задуманный им по-
ход на Китай. Как известно, за подготовкой именно такого похода его
и
застигла смерть. Но с этой же идеей в родную степь явился
Бенья-
шири,
сыгравший большую роль в событиях начала XV в., смысл кото-
рых заключался в попытке восстановить расшатавшееся после возвраще-
182
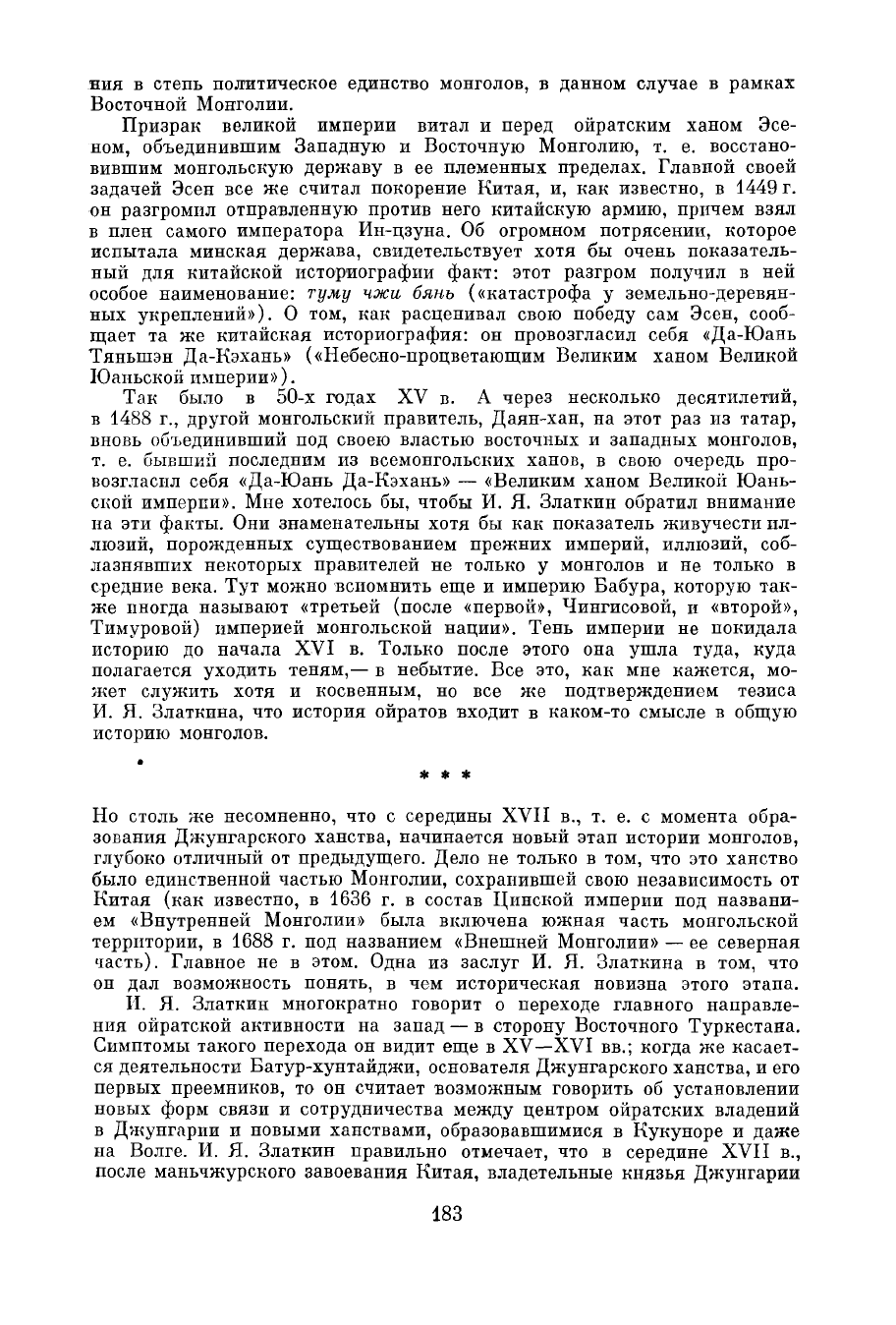
ния
в степь политическое единство монголов, в данном
случае
в рамках
Восточной Монголии.
Призрак
великой империи витал и перед ойратским ханом Эсе-
ном,
объединившим Западную и Восточную Монголию, т. е. восстано-
вившим
монгольскую
державу
в ее племенных пределах. Главной своей
задачей Эсен все же считал покорение Китая, и, как известно, в 1449 г.
он
разгромил отправленную против него китайскую армию, причем взял
в
плен самого императора Ин-цзуна. Об огромном потрясении, которое
испытала минская держава, свидетельствует хотя бы очень показатель-
ный
для китайской историографии факт: этот разгром получил в ней
особое наименование:
туму
чжи
бянъ
(«катастрофа у земельно-деревян-
ных укреплений»). О том, как расценивал свою победу сам Эсен, сооб-
щает та же китайская историография: он провозгласил себя «Да-Юань
Тяныпэн
Да-Кэхань» («Небесно-процветающим Великим ханом Великой
Юаньской
империи»).
Так
было в 50-х
годах
XV в. А через несколько десятилетий,
в
1488 г.,
другой
монгольский правитель, Даян-хан, на этот раз из татар,
вновь
объединивший под своею властью восточных и западных монголов,
т. е. бывший последним из всемонгольских ханов, в свою очередь про-
возгласил себя «Да-Юань Да-Кэхань» — «Великим ханом Великой Юань-
ской
империи». Мне хотелось бы, чтобы И. Я. Златкин обратил внимание
на
эти факты. Они знаменательны хотя бы как показатель живучести ил-
люзий,
порожденных существованием прежних империй, иллюзий, соб-
лазнявших некоторых правителей не только у монголов и не только в
средние века. Тут можно вспомнить еще и империю Бабура, которую так-
же иногда называют
«третьей
(после «первой», Чингисовой, и
«второй»,
Тимуровой) империей монгольской нации». Тень империи не покидала
историю до начала XVI в. Только после этого она ушла
туда,
куда
полагается
уходить
теням,— в небытие. Все это, как мне кажется, мо-
жет служить хотя и косвенным, но все же подтверждением тезиса
И.
Я. Златкина, что история ойратов
входит
в каком-то смысле в общую
историю монголов.
* * *
Но
столь же несомненно, что с середины
XVII
в., т. е. с момента обра-
зования
Джунгарского ханства, начинается новый этап истории монголов,
глубоко отличный от предыдущего. Дело не только в том, что это ханство
было единственной частью Монголии, сохранившей свою независимость от
Китая
(как известно, в 1636 г. в состав Цинской империи под названи-
ем «Внутренней Монголии» была включена южная часть монгольской
территории, в 1688 г. под названием «Внешней Монголии» — ее северная
часть). Главное не в этом. Одна из
заслуг
И. Я. Златкина в том, что
он
дал возможность понять, в чем историческая новизна этого этапа.
И.
Я. Златкин многократно говорит о переходе главного направле-
ния
ойратской активности на запад — в сторону Восточного Туркестана.
Симптомы
такого перехода он видит еще в
XV—XVI
вв.; когда же касает-
ся
деятельности Батур-хунтайджи, основателя Джунгарского ханства, и его
первых преемников, то он считает возможным говорить об установлении
новых форм связи и сотрудничества
между
центром ойратских владений
в
Джунгарии и новыми ханствами, образовавшимися в Кукуноре и
даже
на
Волге. И. Я. Златкин правильно отмечает, что в середине
XVII
в.,
после маньчжурского завоевания Китая, владетельные князья Джунгарии
183
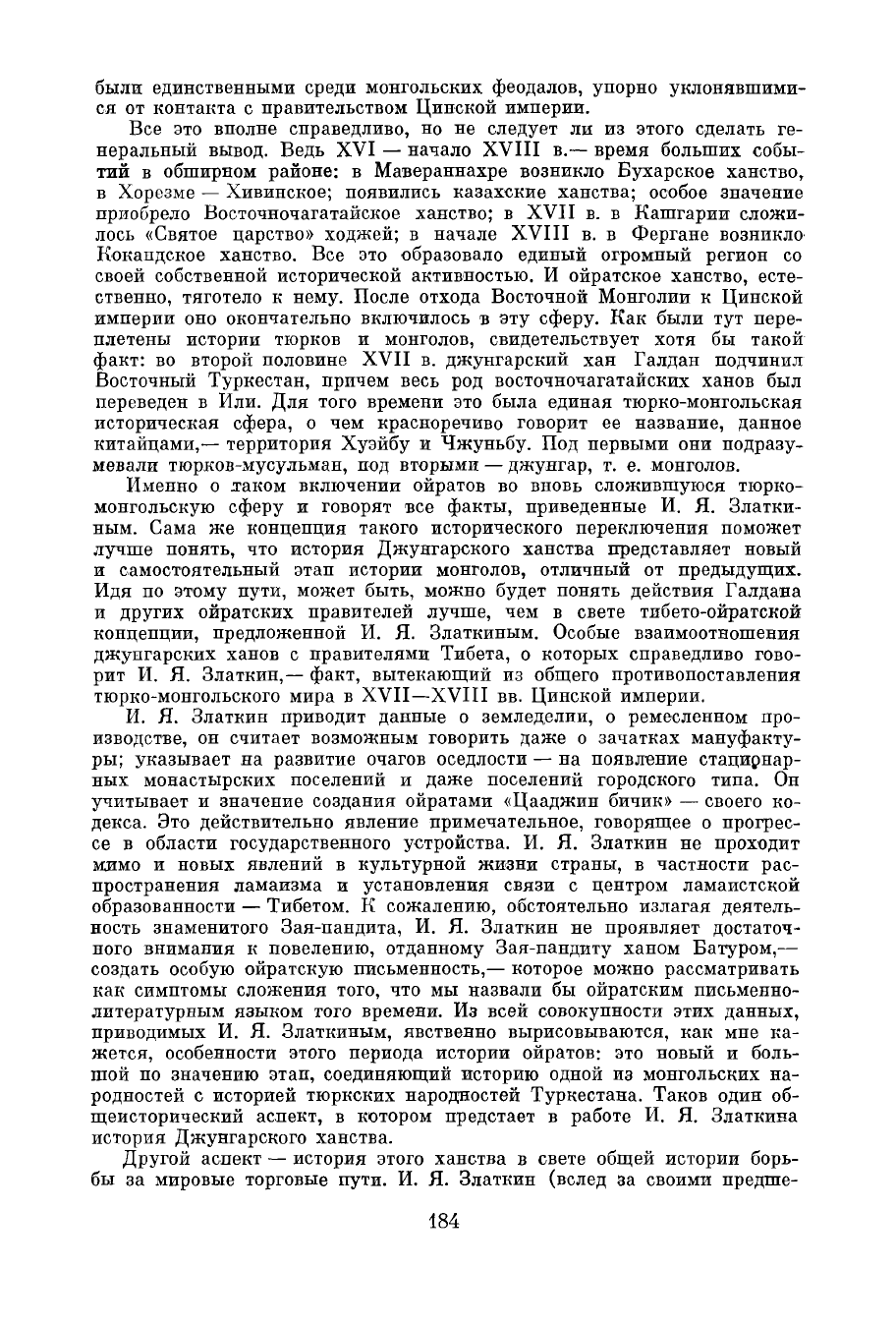
были единственными среди монгольских феодалов, упорно уклонявшими-
ся
от контакта с правительством Цинской империи.
Все это вполне справедливо, но не
следует
ли из этого сделать ге-
неральный
вывод.
Ведь
XVI — начало
XVIII
в.— время больших собы-
тий
в обширном районе: в Мавераннахре возникло Бухарское ханство,
в
Хорезме — Хивинское; появились казахские ханства; особое значение
приобрело Восточночагатайское ханство; в
XVII
в. в Кашгарии сложи-
лось «Святое царство» ходжей; в начале
XVIII
в. в Фергане возникло
Кокапдское
ханство. Все это образовало единый огромный регион со
своей собственной исторической активностью. И ойратское ханство, есте-
ственно,
тяготело к нему. После
отхода
Восточной Монголии к Цинской
империи
оно окончательно включилось в эту сферу. Как были тут пере-
плетены истории тюрков и монголов, свидетельствует хотя бы такой
факт:
во второй половине
XVII
в. джунгарский хан Галдан подчинил
Восточный Туркестан, причем весь род восточночагатайских ханов был
переведен в Или. Для того времени это была единая тюрко-монгольская
историческая сфера, о чем красноречиво говорит ее название, данное
китайцами,—
территория
Хуэйбу
и Чжуньбу. Под первыми они подразу-
мевали тюрков-мусульман, под вторыми — джунгар, т. е. монголов.
Именно
о таком включении ойратов во вновь сложившуюся тюрко-
монгольскую сферу и говорят все факты, приведенные И. Я. Златки-
ным.
Сама же концепция такого исторического переключения поможет
лучше понять, что история Джунгарского ханства представляет новый
и
самостоятельный этап истории монголов, отличный от предыдущих.
Идя
по этому пути, может быть, можно
будет
понять действия Галдана
и
других
ойратских правителей лучше, чем в свете тибето-ойратской
концепции,
предложенной И. Я. Златкиным. Особые взаимоотношения
джунгарских ханов с правителями Тибета, о которых справедливо гово-
рит И. Я. Златкин,— факт, вытекающий из общего противопоставления
тюрко-монгольского мира в
XVII—XVIII
вв. Цинской империи.
И.
Я. Златкин приводит данные о земледелии, о ремесленном про-
изводстве, он считает возможным говорить
даже
о зачатках мануфакту-
ры;
указывает на развитие очагов оседлости — на появление стационар-
ных монастырских поселений и
даже
поселений городского типа. Он
учитывает и значение создания ойратами «Цааджин бичик» — своего ко-
декса. Это действительно явление примечательное, говорящее о прогрес-
се в области государственного устройства. И. Я. Златкин не проходит
мимо
и новых явлений в культурной жизни страны, в частности рас-
пространения
ламаизма и установления связи с центром ламаистской
образованности — Тибетом. К сожалению, обстоятельно излагая деятель-
ность знаменитого Зая-пандита, И. Я. Златкин не проявляет достаточ-
ного внимания к повелению, отданному Зая-пандиту ханом Батуром,—
создать особую ойратскую письменность,— которое можно рассматривать
как
симптомы сложения того, что мы назвали бы ойратским письменно-
литературным языком того времени. Из всей совокупности этих данных,
приводимых И. Я. Златкиным, явственно вырисовываются, как мне ка-
жется, особенности этого периода истории ойратов: это новый и боль-
шой
по значению этап, соединяющий историю одной из монгольских на-
родностей с историей тюркских народностей Туркестана. Таков один об-
щеисторический аспект, в котором предстает в работе И. Я. Златкина
история
Джунгарского ханства.
Другой аспект — история этого ханства в свете общей истории борь-
бы за мировые торговые пути. И. Я. Златкин (вслед за своими предше-
184
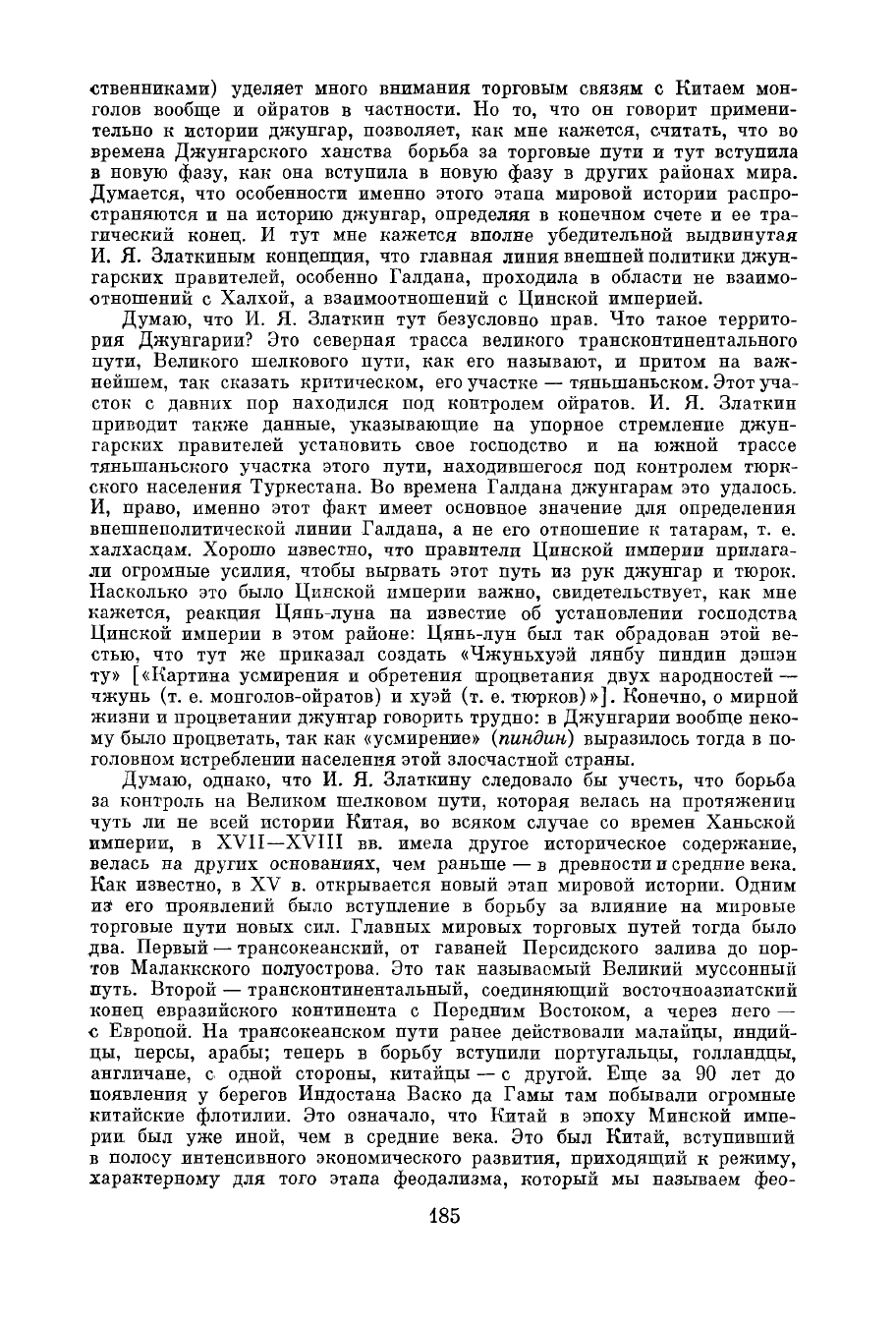
ственниками)
уделяет
много внимания торговым связям с Китаем мон-
голов вообще и ойратов в частности. Но то, что он говорит примени-
тельно к истории джунгар, позволяет, как мне кажется, считать, что во
времена Джунгарского ханства борьба за торговые пути и тут вступила
в новую фазу, как она вступила в новую фазу в
других
районах мира.
Думается, что особенности именно этого этапа мировой истории распро-
страняются и на историю джунгар, определяя в конечном счете и ее тра-
гический конец. И тут мне кажется вполне убедительной выдвинутая
И.
Я. Златкиным концепция, что главная линия внешней политики джун-
гарских правителей, особенно Галдана, проходила в области не взаимо-
отношений с Халхой, а взаимоотношений с Цинской империей.
Думаю, что И. Я. Златкин тут безусловно прав. Что такое террито-
рия
Джунгарии? Это северная трасса великого трансконтинентального
пути, Великого шелкового пути, как его называют, и притом на важ-
нейшем, так сказать критическом, его участке — тяныпаньском. Этот уча-
сток с давних пор находился под контролем ойратов. И. Я. Златкин
приводит также данные, указывающие на упорное стремление джун-
гарских правителей установить свое господство и на южной трассе
тяныпаньского участка этого пути, находившегося под контролем тюрк-
ского населения Туркестана. Во времена Галдана джунгарам это удалось.
И,
право, именно этот факт имеет основное значение для определения
внешнеполитической линии Галдана, а не его отношение к татарам, т. е.
халхасцам. Хорошо известно, что правители Цинской империи прилага-
ли огромные усилия, чтобы вырвать этот путь из рук джунгар и тюрок.
Насколько это было Цинской империи важно, свидетельствует, как мне
кажется, реакция Цянь-луна на известие об установлении господства
Цинской
империи в этом районе: Цянь-лун был так обрадован этой ве-
стью, что тут же приказал создать
«Чжуньхуэй
лянбу пиндин дэшэн
ту» [«Картина усмирения и обретения процветания
двух
народностей —
чжунь (т. е. монголов-ойратов) и
хуэй
(т. е. тюрков)»]. Конечно, о мирной
жизни
и процветании джунгар говорить трудно: в Джунгарии вообще
неко-
му было процветать, так как «усмирение» (пиндин) выразилось
тогда
в по-
головном истреблении населения этой злосчастной страны.
Думаю, однако, что И. Я. Златкину следовало бы учесть, что борьба
за контроль на Великом шелковом пути, которая велась на протяжении
чуть
ли не всей истории Китая, во всяком
случае
со времен Ханьской
империи,
в
XVII—XVIII
вв. имела
другое
историческое содержание,
велась на
других
основаниях, чем раньше — в древности и средние века.
Как
известно, в XV в. открывается новый этап мировой истории. Одним
ий
его проявлений было вступление в борьбу за влияние на мировые
торговые пути новых сил. Главных мировых торговых путей
тогда
было
два. Первый — трансокеанский, от гаваней Персидского залива до пор-
тов Малаккского полуострова. Это так называемый Великий муссонный
путь. Второй — трансконтинентальный, соединяющий восточноазиатский
конец
евразийского континента с Передним Востоком, а через него —
с Европой. На трансокеанском пути ранее действовали малайцы, индий-
цы,
персы, арабы; теперь в борьбу вступили португальцы, голландцы,
англичане, с одной стороны, китайцы — с другой. Еще за 90 лет до
появления
у берегов Индостана Васко да Гамы там побывали огромные
китайские флотилии. Это означало, что Китай в эпоху Минской импе-
рии
был уже
иной,
чем в средние века. Это был Китай, вступивший
в полосу интенсивного экономического развития, приходящий к режиму,
характерному для того этапа феодализма, который мы называем фео-
185
