Корниенко А.А. История и философия науки
Подождите немного. Документ загружается.


проблематики. Преодолеть такое положение можно, расширив основу
познавательной деятельности. Поэтому, как полагает С.Б. Крымский,
и возникла задача дополнить анализ сциентиских аспектов познания.
Подобный подход должен предполагать процесс познания не только
процессом открытия объективных истин, независимых ни от человека,
ни от человечества, но и «человекоразмерным» событием,
ценностным актом утверждения человеческой подлинности. Первую
форму познавательного процесса С.Б. Крымский характеризует как
«вертикальную модель», чья суть сводится к движению от
чувственно-эмпирической ступени к ступени теоретического
осмысления действительности. Ее специфика заключается в
односторонности, поскольку в основе вертикальной модели заложен
принцип формализации получаемой информации, сведение ее от
индивидуально-субъективных форм обозначения к формам
универсальным и общепринятым.
Однако такой модели в настоящий момент не достаточно, ибо она
не дает адекватных результатов при познании мира. Необходима
дополнительная модель, которую С.Б. Крымский характеризует как
«фронтальную модель»: «Чувственно-эмпирическое и теоретическое с
двух сторон (как бы «двумя руками») охватывает исследуемый
объект, а в центре этого фронта «познания» находится творческая
активность интуиции, воображения, символических представлений,
категориальных матриц синтеза эмпирического и теоретического,
способность наглядного и языкового моделирования. При этом
крайние компоненты «фронтальной модели» - чувственно-
эмпирическое и теоретическое – рассматриваются в обобщенном
понимании как формы, которые вбирают в себя, с одной стороны, все
проявления предметной жизнедеятельности, а с другой стороны,
идеализирующие функции, возвышающие над этой предметностью»
5
.
Итогом, окончательным результатом вертикальной познавательной
схемы будет являться практическое использование научного знания.
Итогом же фронтальной модели является сопряженность практики и
духа, сочетание практического результата с нравственной и
культурной особенностями эпохи. Получается, что «фронтальная
модель» дополняет вертикальную, наделяя последнюю
соответствующим экзистенциальным содержанием. Наличие
подобных двух пластов познавательной деятельности демонстрирует,
что познание нельзя свести ни к «холодному царству» истин,
безразличных к человеческим ценностям, ни к экзистенциальным
идеологемам, ориентирующимся на внутренний мир человека.
5
См.: Крымский С.Б. Культурно-экзистенциальные измерения познавательного
процесса. // Вопросы философии. 1998. 4. С. 41.

Познание должно само определять меру вписываемости собственных
результатов в объективный и субъективный миры, меру адекватности
научного знания действительности и гуманистическим императивам.
По С.Б. Крымскому, эпистемология как система человеческого
мировосприятия должна строиться не через предпочтение какой-либо
одной из моделей (объективной или субъективной), а в целостной,
обобщенной модели, которая давала бы возможность достаточно
просто ставить вопрос об адекватности знания внешнему бытию и
внутреннему бытию. Точкой такого соприкосновения является тайна.
В таком измерении любой познающий субъект, в том числе и наука
как система познавательной деятельности, приходит к сложной
ситуации. Поскольку познание неоднозначно, оно не может заранее
обозначить, предусмотреть, к каким результатам придет
познавательный процесс. Более того, при всей своей неоднозначности
сложность ситуации усугубляется еще и тем, что человек сам
выбирает критерий, на основе которого он будет считать: какое
знание адекватно, а какое нет. И здесь наиболее остро встает
проблема нравственной оценки. Поскольку наука даже при всех своих
прогностических способностях, не может однозначно предусмотреть,
к чему приведет познание, то важнейшую роль в деятельности
ученого, человека, осуществляющего познание, начинают играть
нравственные начала. Там, где нет ничего, где человек идет впервые,
он может опираться только на те принципы, которые, по его мнению,
являются выражением наиболее адекватного проявления собственной
доброжелательности и порядочности. А что это такое, как не попытка
нравственной оценки осуществляемой деятельности?! Особенно ярко
такое отношение в качестве лейтмотива познавательной деятельности
проявилось на Востоке. Как считал М. Мамардашвили, символ
пустоты, фиксирующий содержательную наполненность сознания
(чреватую чудесными возможностями Иного), тесно связан с идеей
недеяния как следствия элиминации субъекта с его желаниями,
страстями, образом «Я», то есть субъекта, определившегося (идея
чистого сознания возможна лишь на границе между
объективированным миром и «выпавшим в осадок» субъектом)
6
.
Недеяние, в таком смысле, включает в себя мудрое доверие к форме,
антитезу любому рациональному действию в виде абстракции,
обозначающей условие полноты знания для необходимости действия.
Познание в данном свете должно опираться, в первую очередь, на
форму отношения, учитывающего неполноту наличного знания науки,
6
См.: Шевченко А.К. Проблема сознания в работах М. Мамардашвили (от
марксизма к христианской философии). // Философская и социологическая мысль.
1991. 8. С. 14 – 40.

в основе чего лежит предположение, что существуют успешные пути
обретения адекватного знания. Тем самым нравственная оценка
научной деятельности выступает в понимании современной
философии науки в качестве спасательного действия, которое
направит познавательный процесс в адекватное русло. Отсюда в науке
должно действовать требование: не вмешивайся, если не знаешь
прецедентом чего окажется реализация какого-то несомненного
содержания – придерживайся формы (нравственной ориентации
своего сознания и поведения). Приведем пример, который использует
А. Тойнби. В истории человечества он вычленял более 20
цивилизаций, однако до современности дожили лишь четыре из них.
Это были именно те цивилизации, которые оказались способными к
выработке общечеловеческих этических ценностей, выраженных в
мировых религиях. А это значит, что не только наука, но и вообще
жизнь существует в рамках нравственных границ. Поэтому
нравственностью должны проверяться не только отношения между
людьми, но и отношения между человеком и Универсумом и т.д.
Обозначенная позиция, из которой исходит в своей
познавательной деятельности наука, заставляет пересмотреть взгляд
на природу как на механическую систему, конгломерат качественно
специфических объектов. Ее сменяет точка зрения, что природа – это
целостный живой организм, чье преобразование человеком должно
происходить лишь в определенных границах. Нарушение же этих
границ может привести к изменению системы, ее переходу в
качественно иное состояние, которое способно вызвать необратимое
ограничение человеческой деятельности в познавательной сфере.
Подобные ограничения в процессе познания не могут быть грубым
запретом, «угрозой» и т.д. Иначе чем тогда такое предложение
отличается от обычного (классического) варианта познания?
Существование такой границы человек должен сам осознать и
принять в качестве собственного решения. По мнению В.С. Степина,
ограничивающей силой должна стать «этика в экологическом смысле
(биосферная этика), ограничивающая свободу человека в его борьбе
за существование»
7
. Данная этика должна регулировать
взаимоотношения человека с Землей, с животными и растениями,
формируя убеждение в индивидуальной ответственности за состояние
окружающего мира. Актуальность этического аспекта в последние
десятилетия лишь возросла. Ведь еще научная революция XVII в.
обособила научную истину от нравственности, отчего мир начал
сильно страдать (и как ни парадоксально, начал страдать и сам
7
Степин В.С. Российская философия сегодня: проблемы настоящего и оценки
прошлого. // Вопросы философии. 1997. 5. С. 8.
человек). Даже современное научное течение – синергетика – при всех
своих акцентах на самоорганизацию, открытость, холистичность,
«жизненность» систем признает, что такое понимание этих объектов,
тем не менее, не принесет нам стопроцентную предсказуемость
результата познания. Одно из основных понятий синергетики – точки
бифуркации – тому свидетельство. Точки бифуркации демонстрируют
принципиальную невозможность точно просчитать будущие
траектории эволюции системы. А это всегда ведет к проблеме выбора
для субъекта. Поэтому исследователь, не отказываясь от объективного
исследования систем, характеризующихся синергетическими
параметрами, должен применять особые стратегии, учитывающие
специфику объекта. К тому же, подобный результат деятельности
приводит к основной утрате для человека. Утрачивается уверенность в
том, что у человека и человечества есть убежище. И это убежище –
вера в непогрешимость науки и в ее безусловную объективность.
Теперь же наука видит мир по-другому, через множество разноликих
образов, доступных нашему сознанию, через множество оснований,
имеющих равнозначный статус и т.д. И все это потому, что следует
признать, будто наука давно не приносит знание, а ориентируется на
расширяющееся незнание, понимаемое как особый вид знания. Его
особенность заключается в не опровергаемости, внекритериальности,
специфика незнания в том, что оно всегда только расширяется.
Отсюда познавательная программа ученого обретает особую логику.
Во-первых, приходится отказываться от той идеи, что в мире
действует закон (мир по своей природе спонтанен). Во-вторых, надо
отбросить также мысль, что в мире в качестве соответствующих
смыслов существует истина (смыслы возникают в процессе
деятельности). В-третьих, нельзя исследовать мир исключительно
абстрактно, выделяя какие-либо его специфические стороны в
качестве самостоятельных объектов (мир состоит из живых,
целостных систем, в которых нельзя специально обозначить
абстрактным образом ни одной из составляющих). Такие принципы
познавательной деятельности могут быть сведены к смелым вопросам,
на которые не могут быть даны ответы. Наличие безответных будет
расширять наше «незнание», будет углублять тайну мира. Только по
такой схеме возможно становление познавательного процесса.
Именно по этой причине нравственные основы осмысления научной
деятельности являются ключевыми в развитии науки. Наука обретает
плюралистичность позиций, еще большую открытость, нежели те ее
модели, которые предшествовали данному историческому этапу. В
таком сложном «водовороте» развития необходимы ориентиры. Но,
как было показано ранее, прежние ориентиры и критерии утратили
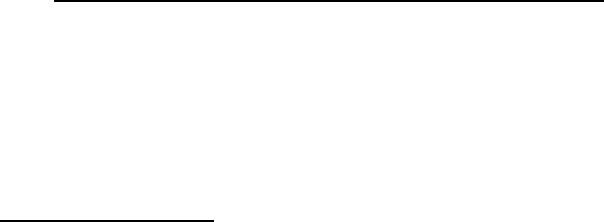
былое значение. Современный мир демонстрирует, что в этой жизни
нет ничего однозначного и постоянного. Сама жизнь, сам универсум
так подвержены переменам, что это проявляется во всем (в том числе,
и в знании о мире). Поэтому остается единственный источник
подобного рода ориентиров и критериев – это внутренний мир
человека (его ценности и нормы). Правда, в познавательной
деятельности не должно быть слишком однобокого уклона во
внутренний мир, необходимо адекватное соотношение внутренних
факторов нравственного характера и объективных внешних аспектов
действительности. Именно нравственные начала содержат тот заряд
прочности, который позволяет человеку в ситуации «расширяющегося
незнания» сохранить определенные параметры стабильной
познавательной деятельности.
Конечно же, когда речь идет о специфике научного познания в
современное время, нельзя не обозначить сугубо научный аспект
гносеологии: если не существует критериев и ориентаций,
придерживаясь которых можно получить достоверное знание, то
зачем нужна наука, зачем нужно такое знание? Еще раз подчеркнем,
что незнание – это вовсе не факт отсутствия знания, а факт особого
характера знания. Подобный характер лучше всего объясняется
понятием «вероятностный». Как пишут Е.П. Князева, С.П. Курдюмов:
«… вероятностное описание не есть показатель нашего незнания, так
сказать, нашего невежества»
8
. Это свидетельство того, что человек со
своей разумностью и экспериментальной наклонностью еще не успел
сделать ничего плохого для природы. Поэтому научное знание даже в
современном качестве является в определенной степени достоверным
для понимания развития процессов в природе. Но даже и в
вероятностном плане научное знание должно быть подвергнуто
нравственной оценке, поскольку нравственные критерии приблизят к
жизни результат научного знания. Более того, именно признание
значимости науки для человечества, даст ей основу и поле для
дальнейшего развития, несмотря ни на какие существующие
проблемы ее функционирования,
Нравственная оценка: ее суть и проблемы. То, что наука на
современном этапе своего существования нуждается в нравственных
ориентациях, мы уже показали. Другое дело, что очень сложно
продемонстрировать, каким образом функционирует нравственная
природа человека, как она может быть использована, какие следствия
она несет для науки? Именно понимание того, как выносится
нравственная оценка по отношению к деятельности субъекта или
8
Князева Е.П., Курдюмов С.П. Эволюции и самоорганизации сложных систем.
М., 1994. С. 32.
какой-либо системы информации, является ключевым моментом
экспертизы, основанной на нравственных принципах. И данное
умение – это тоже проблема.
Основной вопрос нравственной оценки заключается в
определении нормальной цели для любого вида человеческой
деятельности (особенно, практической), то есть такой цели, которая
желательна сама по себе и к которой все остальные моменты
относятся как средства. Нравственность ориентирована на поиск
такого верховного принципа деятельности, который будет сообразен
со всеми аспектами, приводящими к состоянию общего блага. Однако
очень часто отсутствует понимание того, из чего исходит
нравственность в своем функционировании. Чаще всего
«замешательство» связано с тем, что люди путают принципы с
основаниями.
К принципам нравственности относятся самые краткие и сжатые
обозначения, выражающие тот или иной образ действий, который
декларируется данной системой нравственности. Наиболее
распространенная форма принципа проявляется в наставлении.
Основание же - это форма объяснения, интерпретации, почему
человеку рекомендуется вести себя так, а не иначе. Основание – это
поиск истока необходимости наличия избранной модели поведения и
осознания. Развести принципы и основания при вынесении
нравственной оценки важно по той причине, что это дает понимание
границ нормы, в чьих пределах и предлагается реализовывать
заложенный образец поведения. Если же в поведении
ориентироваться на основания нравственных положений, то данный
процесс приведет скорее всего к смене нормативной базы.
Жизнь многообразна, поэтому регулятивы человеческой
деятельности (в том числе и научной) должны быть предельно
четкими. Иначе человек подвергается той амбивалентности, в которой
находится ситуация его деятельности. Ведь человек внутренне
свободен, с одной стороны, а с другой стороны, понимает, что его
свобода не может целиком исходить от условий его независимости.
Человек осознает, что сам определяется чем-то другим, чем-то
внешним. Данная «внеположенность» человека по отношению к
условиям его существования означает потребность в определенных
принципах и руководстве, на чьем основании он будет способен
каким-то образом соотноситься с независимой для него внешней
действительностью. Поэтому представления о мире формируются
посредством нормирования, то есть попытки схематизировать
протекание процесса. Нормирование, как правило, реализуется через
специальный диагноз измерений: от того, каково реальное положение,
и до того, каким оно должно быть. Если нравственная оценка исходит
из точки «реального положения», то речь идет о нравственности
практического плана. Ее суть заключается в умении принимать то, что
есть. Таким образом, нравственный образец включает в себя реальное
положение дел, все остальное – это уже отклонение от нормы в
худшую или лучшую сторону. Наоборот, если же речь идет о точке
отсчета, где в основе лежит «то, каким должен быть объект», - речь
идет уже о метафизических основах нравственной оценки (или о
формальных началах нравственности). Суть данного подхода состоит
в том, что нравственность должна проявляться вне зависимости от
эмпирической природы и определяться она должна какой-то
естественной склонностью субъекта. Нравственное заключение
потому и будет считаться нравственным, что нормальность его
позиций определяется исключительно внутренними обязательствами
человека.
Нравственная позиция должны исходить из содержащейся в ней
абсолютной необходимости. Это значит, что она является всеобщей и
универсальной для всех разумных существ (или, по крайней мере,
должна стремиться к этому). Выражаясь языком И. Канта,
нравственные положения должны носить априорный характер. Если
же нравственные оценки имеют другие основания, то тогда они
утрачивают характер нравственного закона (канона). Именно этим и
отличаются нравственные системы эмпирического и формального
планов. Первые ориентированы на индивидуальные особенности
опыта, а значит, особенности нравственных следствий при оценке
данного опыта. Поэтому если опыт у разных людей различен, то
нельзя предложить им единый нравственный принцип (хотя находятся
исключения). И, наоборот, формальные нравственные положения
универсальны, практически независимы от индивидуальности опыта.
Они могут применяться по отношению к любым обстоятельствам. Но
здесь возникает ситуация отчужденности самого нравственного
принципа от реальных условий конкретной человеческой жизни
(поскольку даже типические ситуации люди переживают по-разному).
Отсюда вытекает предпочтение эмпирических и формальных систем
нравственности. Выбор между ними в пользу одной из систем не
может являться адекватным выбором, решением.
Приведем следующий пример: в литературе, где рассматриваются
проблемы нравственных решений, подобное противостояние
эмпирической системы и формальной системы нравственности
обозначается антитезой: «нравственность для человека» - «человек
для нравственности». Рассмотрим каждую из этих систем по
отдельности.
Положение «человек для нравственности» ближе по своему
смыслу формальной системе нравственных начал. Суть его
заключается в том, что существуют какие-то высшие силы, принципы,
которые господствуют над человеком, и он должен им подчиняться.
Основанием для построения таких нравственных оценок является
сама природа нравственности. Нравственность не является сферой
абсолютного и универсального долженствования, представляя собой
«ножницы» между эмпирическим настоящим и абсолютными
духовными ценностями. Именно подобная разница позволяет
формализовать, теоретически выстроить модель образцового
сознательного и поведенческого отношения. Отсюда и возникает
направленность на долженствование в плане стремления соблюсти
обозначенный идеал. Такой идеал, естественно, будет
рассматриваться как универсальный, поскольку формализация и
теоретизация могут делать его доступным каждому. В данном приеме
нет ничего такого, что мешало бы реализации нравственных
положений. Другое дело то, как подобная система проявляется на
практике.
Оторванность нравственных положений от реальной жизни
приводит к тому, что принципы морали начинают возводиться в ранг
обязательного абсолюта. Такое проявление называется
морализаторством. Его суть в том, что здесь начинает использоваться
внутренняя особенность нравственности. Нравственность, как уже
говорилось, представляет собой некодифицируемый абсолютный
идеал, ориентирующий человека на бесконечное совершенствование.
Совершенствование реализуется в кодифицируемой сфере реальной
нормативности, которая регулирует не только мотивы поведения, но и
непосредственно сами действия человека. В связи с этим нередко
случается перемещение кодифицируемой части нравственных
положений в сферу трансцендентного идеала, когда отдельным
нормам придается характер абсолютности и ценностной
независимости. В результате нормативность теряет свое
специфическое нравственное качество, обретая правовую или, если
быть точнее, судебно-карательную структуру. Нравственные
положения дополняются «паразитарным» по отношению к себе
содержанием. Цель такой трансформации нравственной системы
заключается в том, чтобы подчинить индивида, превратить его в
«слепого» исполнителя (приверженца) абстрактных идей. Такое
духовно обедняющее человека «порабощение», скрывающее от него
многообразие мира, проявляется в виде нравоучительства.
Нравоучительство – это ситуация, когда «рассуждение о морали»
всегда вторично по отношению к «моральному рассуждению».

Система «человек для нравственности» формирует модель, в которой
человек не способен воспринимать нравственность как «внешний
предмет», а его проект связан с тем, чтобы предъявляемые
нормативные программы и нравственные оценки вызывали не только
пассивное понимание, но и деятельный отклик общества. Подобного
рода нравственная система озабочена тем, чтобы ее нормативность,
где представлен ее идеал, реально воспринималась другими в
перспективе всеобщего долженствования.
Справедливости ради необходимо отметить, что
«морализаторство», «нравоучительство» не есть обязательное
следствие системы «человек для нравственности». Просто именно в
данной системе нередко именно подобное проявление нравственных
принципов. Как пишет А.В. Прокофьев, «основной «грех»
морализаторства оказывается связан с тем, что, принимая роль
учителя и судьи, человек совершенно игнорирует тот факт, что всякий
акт понимания, в том числе нравственного, является не только
обязывающим, но также индивидуальным и частичным. Он
ситуативен в том смысле, что связан с уникальной жизненной
ситуацией понимающего. Но при этом он не является релятивным,
ибо происходит не в бессмысленной и «безопорной» пустоте
индивидуального произвола, а в пространстве, ограниченном общим
представлением о том, какая цель действия была бы должной»
9
.
Механизм нравоучительства связан не с всевластием нравственных
принципов над всеми иными актами сознания и поведения, а с
двойной процедурой «материализации», которой подвергаются, с
одной стороны, трансцендентные нравственные ценности
(нравственный принцип заменяется жестко предписанным
алгоритмом действия), с другой стороны, - свободный творческий
поиск в личной и социально-исторической сфере (когда
познавательный процесс, использование традиций и законов
подменяются подчинением практики нравственному
мифологизированному образу, реализация которого преподносится
как непреложный закон природного или юридического типа).
Таким образом, предпочтение формальной нравственной системы
оценок деятельности человека (в том числе и научного познания) не
может гарантировать человеку абсолютной непогрешимости его
позиции. Использование этой системы имеет как плюсы, связанные с
универсальным принципом реализации ее положений, так и минусы,
когда универсальность и теоретичность положений приводит к
9
Прокофьев А.В. Об этическом смысле антитезы: «мораль для человека» или
«человек для морали». // Вопросы философии. 1998. 6. С. 35.
«нравоучительству», «морализаторству», подменяя желательность
нравственных положений их обязательностью.
Система «нравственность для человека» близка системе
эмпирических нравственных положений, то есть это нравственная
система, ориентирующаяся на индивидуальные особенности
человеческой жизни, а следовательно, приближенная к конкретному
человеку. Более того, на первый взгляд кажется, что нравственная
целеобусловленность только подобным образом. и может строиться
Однако и система «нравственность для человека» также имеет свои
негативные стороны.
Их суть заключается в том, что нравственный компонент
становится вторичным по отношению ко всем остальным факторам
человеческого существования. А ведь мы не раз утверждали, что
нравственная оценка научной деятельности – это неизбежный и
ключевой аспект содержания самой научной деятельности, что
нравственность не может быть вторичным аспектом,
характеризующим смысл и ход развития общества (науки). То, что
нравственность первична для человека, демонстрирует и сам процесс
ее анализа.
Попробуем порассуждать. Если нравственность вторична, значит,
она должна быть охарактеризована определенными границами, за
рамками которых она не может функционировать. Но разве мы можем
обозначить такие сферы, которые не обусловлены или не могут быть
обусловлены нравственными позициями? В свое время наука выпала,
как казалось, из сферы нравственности, и к чему это привело? К
кризисному состоянию последней. Поэтому нравственность в плане
использования универсальна.
Можно анализировать также ограниченность нравственных
положений в плане их отнесенности к человеку как к эмпирическому
индивиду. Первое обозначение человека предполагает увидеть
ограничение нравственных законов в зависимости исторических эпох,
второе обозначение увязывается с определенной конечностью
человека как отдельной, суверенной единицы.
Первый случай наиболее полно исследовал Гегель, выстроив
концепцию имморализма. Ее суть заключается в том, что тот, кто
обретает в себе проявления всемирно-исторического духа, ради столь
великой цели может использовать любые средства. Значит,
нравственные положения можно использовать так, как это будет
угодно носителю всемирно-исторического духа. Поэтому в данной
системе нравственность вторична. По Гегелю, полностью
оправдывается вседозволенность для тех, кто творит всемирно-
исторические деяния. Великие исторические личности и их свершения
