Лотман Ю.М. Сборник работ (Ю.М. Лотман и тартусско-московская семиотическая школа)
Подождите немного. Документ загружается.

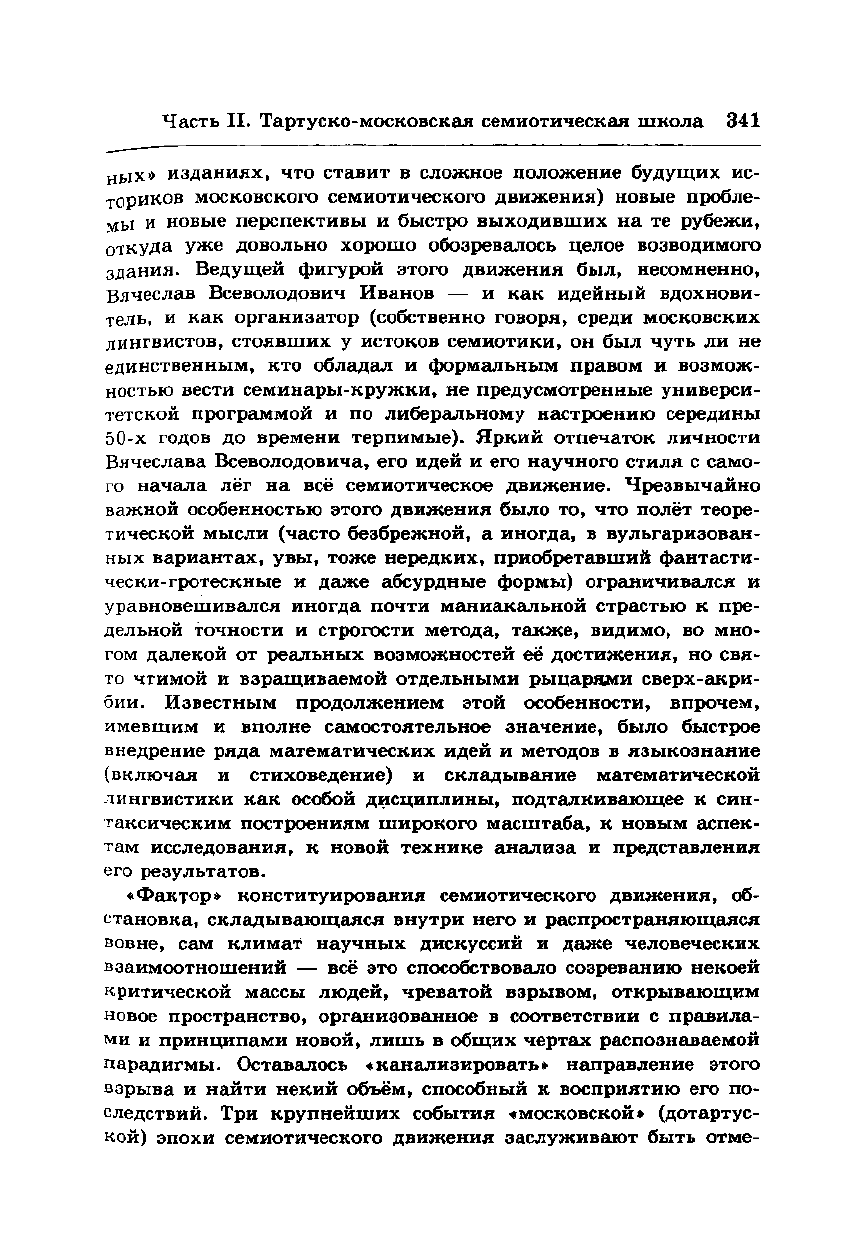
Часть II. Тартуско-московская семиотическая школа 341
нЫ
х» изданиях, что ставит в сложное положение будущих ис-
ториков московского семиотического движения) новые пробле-
мы и новые перспективы и быстро выходивших на те рубежи,
откуда уже довольно хорошо обозревалось целое возводимого
здания. Ведущей фигурой этого движения был, несомненно,
Вячеслав Всеволодович Иванов — и как идейный вдохнови-
тель,
и как организатор (собственно говоря, среди московских
лингвистов, стоявших у истоков семиотики, он был чуть ли не
единственным, кто обладал и формальным правом и возмож-
ностью вести семинары-кружки, не предусмотренные универси-
тетской программой и по либеральному настроению середины
50-х годов до времени терпимые). Яркий отпечаток личности
Вячеслава Всеволодовича, его идей и его научного стиля с само-
го начала лёг на всё семиотическое движение. Чрезвычайно
важной особенностью этого движения было то, что полёт теоре-
тической мысли (часто безбрежной, а иногда, в вульгаризован-
ных вариантах, увы, тоже нередких, приобретавший фантасти-
чески-гротескные и даже абсурдные формы) ограничивался и
уравновешивался иногда почти маниакальной страстью к пре-
дельной точности и строгости метода, также, видимо, во мно-
гом далекой от реальных возможностей её достижения, но свя-
то чтимой и взращиваемой отдельными рыцарями сверх-акри-
бии. Известным продолжением этой особенности, впрочем,
имевшим и вполне самостоятельное значение, было быстрое
внедрение ряда математических идей и методов в языкознание
(включая и стиховедение) и складывание математической
лингвистики как особой дисциплины, подталкивающее к син-
таксическим построениям широкого масштаба, к новым аспек-
там исследования, к новой технике анализа и представления
его результатов.
«Фактор» конституирования семиотического движения, об-
становка, складывающаяся внутри него и распространяющаяся
вовне, сам климат научных дискуссий и даже человеческих
взаимоотношений — всё это способствовало созреванию некоей
критической массы людей, чреватой взрывом, открывающим
новое пространство, организованное в соответствии с правила-
ми и принципами новой, лишь в общих чертах распознаваемой
парадигмы. Оставалось «канализировать» направление этого
взрыва и найти некий объём, способный к восприятию его по-
следствий. Три крупнейших события «московской» (дотартус-
кой) эпохи семиотического движения заслуживают быть отме-
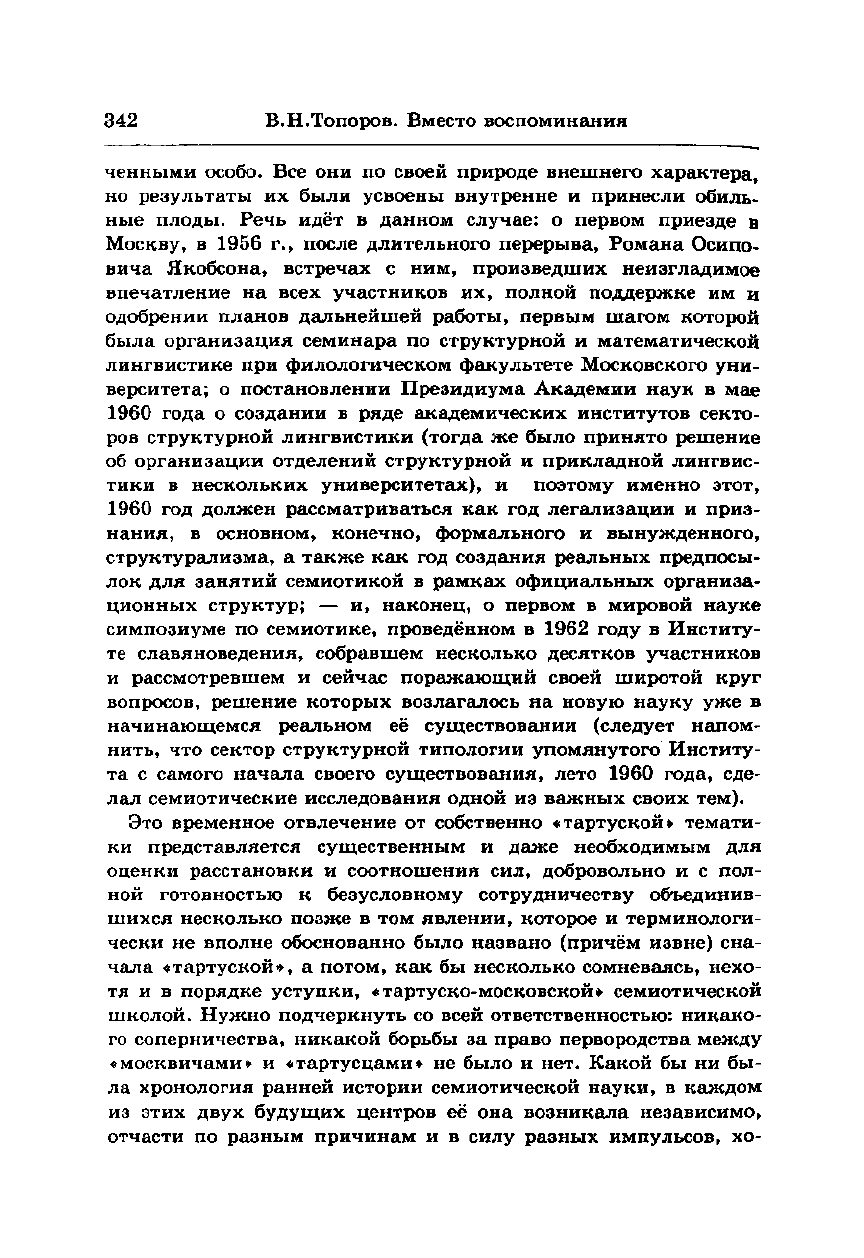
342
В.Н.Топоров. Вместо воспоминания
ченными особо. Все они по своей природе внешнего характера,
но результаты их были усвоены внутренне и принесли обиль-
ные плоды. Речь идёт в данном случае: о первом приезде в
Москву, в 1956 г., после длительного перерыва, Романа Осипо-
вича Якобсона, встречах с ним, произведших неизгладимое
впечатление на всех участников их, полной поддержке им и
одобрении планов дальнейшей работы, первым шагом которой
была организация семинара по структурной и математической
лингвистике при филологическом факультете Московского уни-
верситета; о постановлении Президиума Академии наук в мае
1960 года о создании в ряде академических институтов секто-
ров структурной лингвистики (тогда же было принято решение
об организации отделений структурной и прикладной лингвис-
тики в нескольких университетах), и поэтому именно этот,
1960 год должен рассматриваться как год легализации и приз-
нания, в основном, конечно, формального и вынужденного,
структурализма, а также как год создания реальных предпосы-
лок для занятий семиотикой в рамках официальных организа-
ционных структур; — и, наконец, о первом в мировой науке
симпозиуме по семиотике, проведённом в 1962 году в Институ-
те славяноведения, собравшем несколько десятков участников
и рассмотревшем и сейчас поражающий своей широтой круг
вопросов, решение которых возлагалось на новую науку уже в
начинающемся реальном её существовании (следует напом-
нить,
что сектор структурной типологии упомянутого Институ-
та с самого начала своего существования, лето 1960 года, сде-
лал семиотические исследования одной из важных своих тем).
Это временное отвлечение от собственно «тартуской» темати-
ки представляется существенным и даже необходимым для
оценки расстановки и соотношения сил, добровольно и с пол-
ной готовностью к безусловному сотрудничеству объединив-
шихся несколько позже в том явлении, которое и терминологи-
чески не вполне обоснованно было названо (причём извне) сна-
чала «тартуской», а потом, как бы несколько сомневаясь, нехо-
тя и в порядке уступки, «тартуско-московской» семиотической
школой. Нужно подчеркнуть со всей ответственностью: никако-
го соперничества, никакой борьбы за право первородства между
«москвичами» и «тартусцами» не было и нет. Какой бы ни бы-
ла хронология ранней истории семиотической науки, в каждом
из этих двух будущих центров её она возникала независимо,
отчасти по разным причинам и в силу разных импульсов, хо-
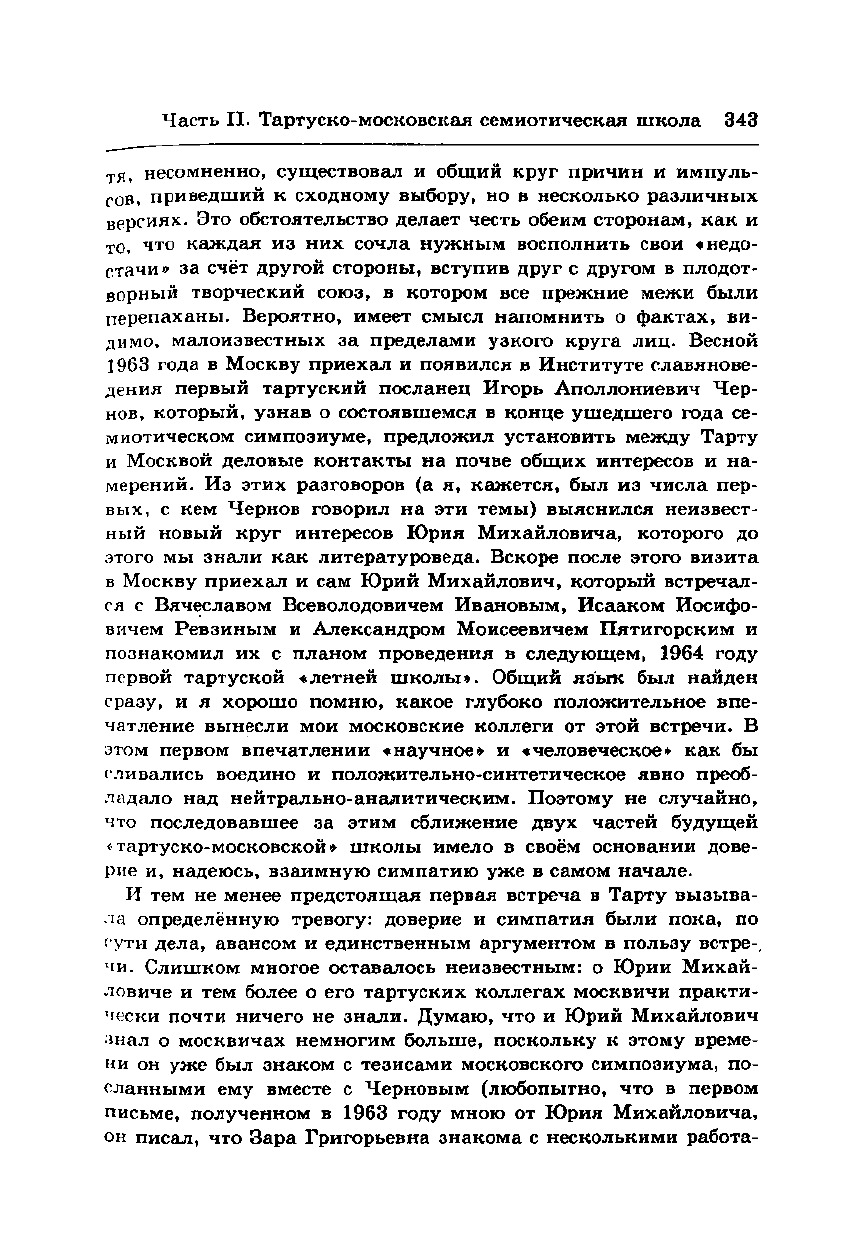
Часть II. Тартуско-московская семиотическая школа 343
т
я,
несомненно, существовал и общий круг причин и импуль-
сов,
приведший к сходному выбору, но в несколько различных
версиях. Это обстоятельство делает честь обеим сторонам, как и
т0
, что каждая из них сочла нужным восполнить свои «недо-
стачи» за счёт другой стороны, вступив друг с другом в плодот-
ворный творческий союз, в котором все прежние межи были
перепаханы. Вероятно, имеет смысл напомнить о фактах, ви-
димо,
малоизвестных за пределами узкого круга лиц. Весной
1963 года в Москву приехал и появился в Институте славянове-
дения первый тартуский посланец Игорь Аполлониевич Чер-
нов,
который, узнав о состоявшемся в конце ушедшего года се-
миотическом симпозиуме, предложил установить между Тарту
и Москвой деловые контакты на почве общих интересов и на-
мерений. Из этих разговоров (а я, кажется, был из числа пер-
вых, с кем Чернов говорил на эти темы) выяснился неизвест-
ный новый круг интересов Юрия Михайловича, которого до
этого мы знали как литературоведа. Вскоре после этого визита
в Москву приехал и сам Юрий Михайлович, который встречал-
ся с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым, Исааком Иосифо-
вичем Ревзиным и Александром Моисеевичем Пятигорским и
познакомил их с планом проведения в следующем, 1964 году
первой тартуской «летней школы». Общий язык был найден
сразу, и я хорошо помню, какое глубоко положительное впе-
чатление вынесли мои московские коллеги от этой встречи. В
этом первом впечатлении «научное» и «человеческое» как бы
сливались воедино и положительно-синтетическое явно преоб-
ладало над нейтрально-аналитическим. Поэтому не случайно,
что последовавшее за этим сближение двух частей будущей
«тартуско-московской» школы имело в своём основании дове-
рие и, надеюсь, взаимную симпатию уже в самом начале.
И тем не менее предстоящая первая встреча в Тарту вызыва-
ла определённую тревогу: доверие и симпатия были пока, по
сути дела, авансом и единственным аргументом в пользу ветре-.
чи.
Слишком многое оставалось неизвестным: о Юрии Михай-
ловиче и тем более о его тартуских коллегах москвичи практи-
чески почти ничего не знали. Думаю, что и Юрий Михайлович
знал о москвичах немногим больше, поскольку к этому време-
ни он уже был знаком с тезисами московского симпозиума, по-
сланными ему вместе с Черновым (любопытно, что в первом
письме, полученном в 1963 году мною от Юрия Михайловича,
он писал, что Зара Григорьевна знакома с несколькими работа-
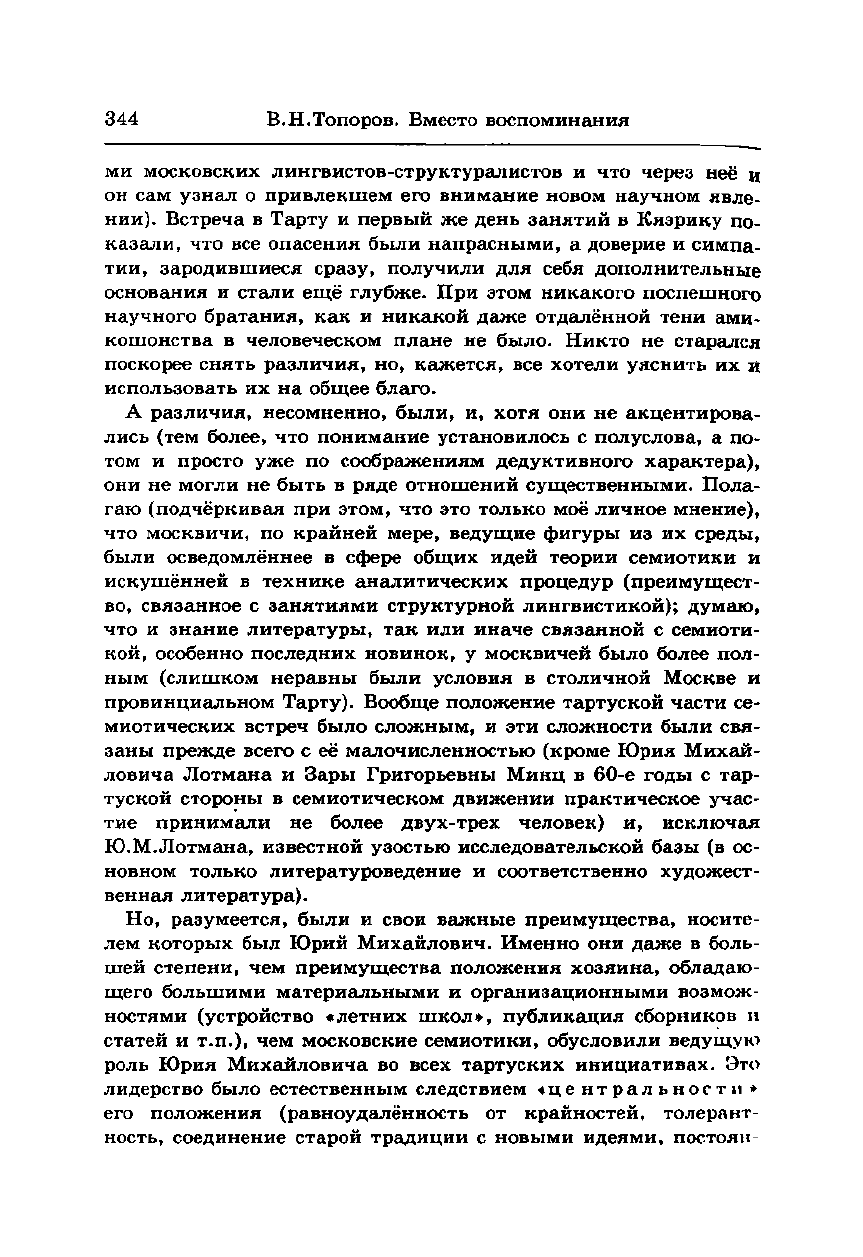
344
В.Н.Топоров. Вместо воспоминания
ми московских лингвистов-структуралистов и что через неё и
он сам узнал о привлекшем его внимание новом научном явле-
нии).
Встреча в Тарту и первый же день занятий в Кяэрику по-
казали, что все опасения были напрасными, а доверие и симпа-
тии, зародившиеся сразу, получили для себя дополнительные
основания и стали ещё глубже. При этом никакого поспешного
научного братания, как и никакой даже отдалённой тени ами-
кошонства в человеческом плане не было. Никто не старался
поскорее снять различия, но, кажется, все хотели уяснить их и
использовать их на общее благо.
А различия, несомненно, были, и, хотя они не акцентирова-
лись (тем более, что понимание установилось с полуслова, а по-
том и просто уже по соображениям дедуктивного характера),
они не могли не быть в ряде отношений существенными. Пола-
гаю (подчёркивая при этом, что это только моё личное мнение),
что москвичи, по крайней мере, ведущие фигуры из их среды,
были осведомлённее в сфере общих идей теории семиотики и
искушённей в технике аналитических процедур (преимущест-
во,
связанное с занятиями структурной лингвистикой); думаю,
что и знание литературы, так или иначе связанной с семиоти-
кой, особенно последних новинок, у москвичей было более пол-
ным (слишком неравны были условия в столичной Москве и
провинциальном Тарту). Вообще положение тартуской части се-
миотических встреч было сложным, и эти сложности были свя-
заны прежде всего с её малочисленностью (кроме Юрия Михай-
ловича Лотмана и Зары Григорьевны Минц в 60-е годы с тар-
туской стороны в семиотическом движении практическое учас-
тие принимали не более двух-трех человек) и, исключая
Ю.М.Лотмана, известной узостью исследовательской базы (в ос-
новном только литературоведение и соответственно художест-
венная литература).
Но,
разумеется, были и свои важные преимущества, носите-
лем которых был Юрий Михайлович. Именно они даже в боль-
шей степени, чем преимущества положения хозяина, обладаю-
щего большими материальными и организационными возмож-
ностями (устройство «летних школ», публикация сборников и
статей и т.п.), чем московские семиотики, обусловили ведущую
роль Юрия Михайловича во всех тартуских инициативах. Это
лидерство было естественным следствием «центральности *
его положения (равноудалённость от крайностей, толерант-
ность, соединение старой традиции с новыми идеями, постоян-
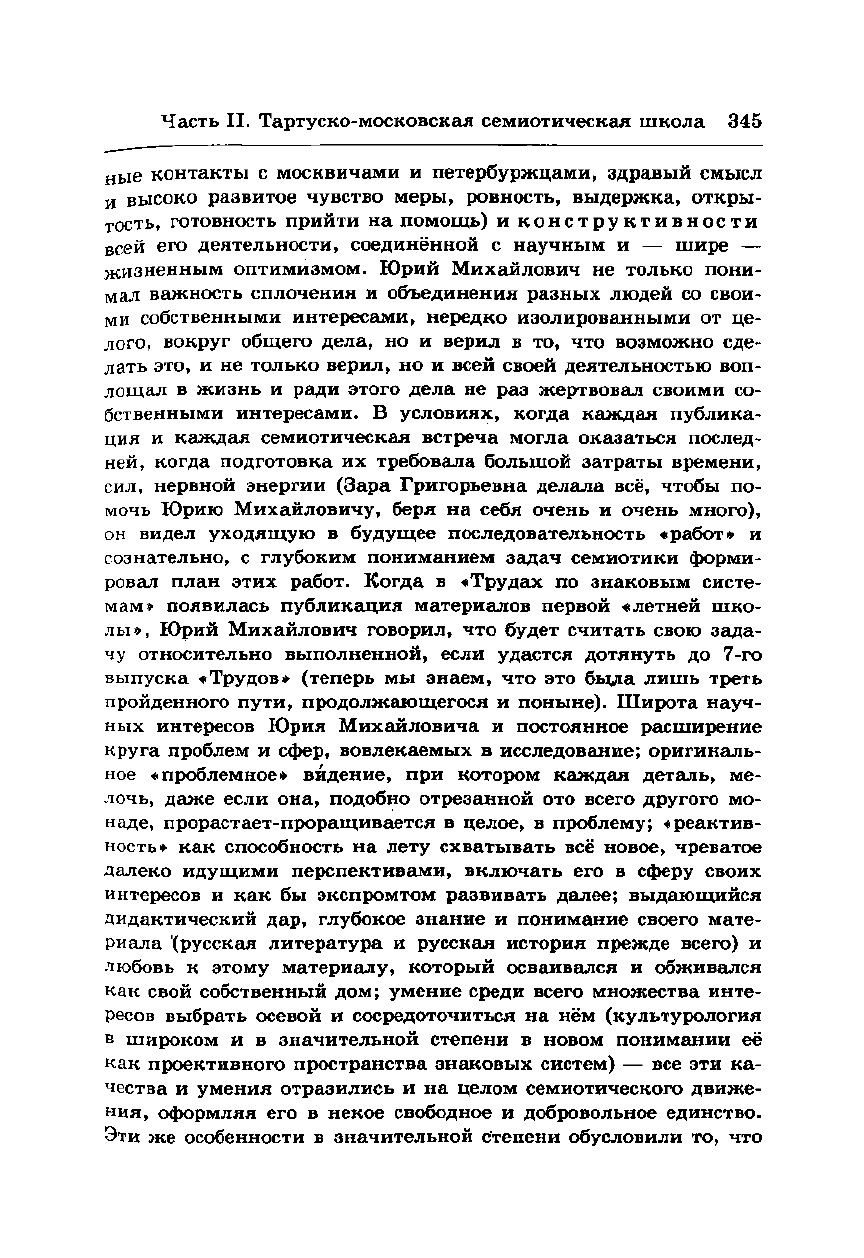
Часть II. Тартуско-московская семиотическая школа 345
ные контакты с москвичами и петербуржцами, здравый смысл
й
высоко развитое чувство меры, ровность, выдержка, откры-
тость, готовность прийти на помощь) и конструктивности
всей его деятельности, соединённой с научным и — шире —
жизненным оптимизмом. Юрий Михайлович не только пони-
мал важность сплочения и объединения разных людей со свои-
ми собственными интересами, нередко изолированными от це-
лого,
вокруг общего дела, но и верил в то, что возможно сде-
лать это, и не только верил, но и всей своей деятельностью воп-
лощал в жизнь и ради этого дела не раз жертвовал своими со-
бственными интересами. В условиях, когда каждая публика-
ция и каждая семиотическая встреча могла оказаться послед-
ней, когда подготовка их требовала большой затраты времени,
сил, нервной энергии (Зара Григорьевна делала всё, чтобы по-
мочь Юрию Михайловичу, беря на себя очень и очень много),
он видел уходящую в будущее последовательность «работ» и
сознательно, с глубоким пониманием задач семиотики форми-
ровал план этих работ. Когда в «Трудах по знаковым систе-
мам» появилась публикация материалов первой «летней шко-
лы»,
Юрий Михайлович говорил, что будет считать свою зада-
чу относительно выполненной, если удастся дотянуть до 7-го
выпуска «Трудов» (теперь мы знаем, что это была лишь треть
пройденного пути, продолжающегося и поныне). Широта науч-
ных интересов Юрия Михайловича и постоянное расширение
круга проблем и сфер, вовлекаемых в исследование; оригиналь-
ное «проблемное» видение, при котором каждая деталь, ме-
лочь,
даже если она, подобно отрезанной ото всего другого мо-
наде,
прорастает-проращивается в целое, в проблему; «реактив-
ность» как способность на лету схватывать всё новое, чреватое
далеко идущими перспективами, включать его в сферу своих
интересов и как бы экспромтом развивать далее; выдающийся
дидактический дар, глубокое знание и понимание своего мате-
риала (русская литература и русская история прежде всего) и
любовь к этому материалу, который осваивался и обживался
как свой собственный дом; умение среди всего множества инте-
ресов выбрать осевой и сосредоточиться на нём (культурология
в широком и в значительной степени в новом понимании её
как проективного пространства знаковых систем) — все эти ка-
чества и умения отразились и на целом семиотического движе-
ния, оформляя его в некое свободное и добровольное единство.
Эти же особенности в значительной степени обусловили то, что
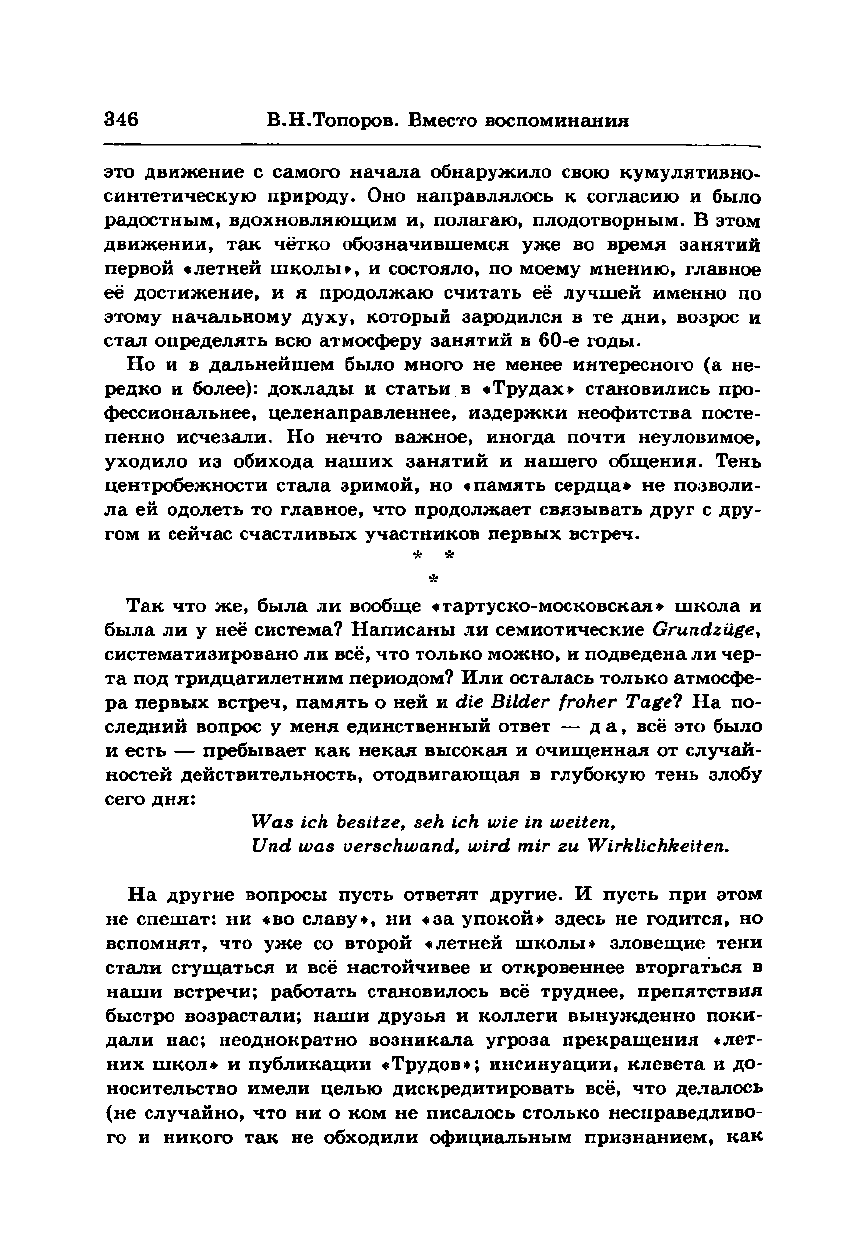
346
В.Н.Топоров. Вместо воспоминания
это движение с самого начала обнаружило свою кумулятивно-
синтетическую природу. Оно направлялось к согласию и было
радостным, вдохновляющим и, полагаю, плодотворным. В этом
движении, так чётко обозначившемся уже во время занятий
первой «летней школы», и состояло, по моему мнению, главное
её достижение, и я продолжаю считать её лучшей именно по
этому начальному духу, который зародился в те дни, возрос и
стал определять всю атмосферу занятий в 60-е годы.
Но и в дальнейшем было много не менее интересного (а не-
редко и более): доклады и статьи в «Трудах» становились про-
фессиональнее, целенаправленнее, издержки неофитства посте-
пенно исчезали. Но нечто важное, иногда почти неуловимое,
уходило из обихода наших занятий и нашего общения. Тень
центробежности стала зримой, но «память сердца» не позволи-
ла ей одолеть то главное, что продолжает связывать друг с дру-
гом и сейчас счастливых участников первых встреч.
Так что же, была ли вообще «тартуско-московская» школа и
была ли у неё система? Написаны ли семиотические Grundziige,
систематизировано ли всё, что только можно, и подведена ли чер-
та под тридцатилетним периодом? Или осталась только атмосфе-
ра первых встреч, память о ней и die Bilder froher Tagel На по-
следний вопрос у меня единственный ответ — да, всё это было
и есть — пребывает как некая высокая и очищенная от случай-
ностей действительность, отодвигающая в глубокую тень злобу
сего дня:
Was ich besitze, seh ich wie in weiten,
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.
На другие вопросы пусть ответят другие. И пусть при этом
не спешат: ни «во славу», ни «за упокой» здесь не годится, но
вспомнят, что уже со второй «летней школы» зловещие тени
стали сгущаться и всё настойчивее и откровеннее вторгаться в
наши встречи; работать становилось всё труднее, препятствия
быстро возрастали; наши друзья и коллеги вынужденно поки-
дали нас; неоднократно возникала угроза прекращения «лет-
них школ» и публикации «Трудов»; инсинуации, клевета и до-
носительство имели целью дискредитировать всё, что делалось
(не случайно, что ни о ком не писалось столько несправедливо-
го и никого так не обходили официальным признанием, как
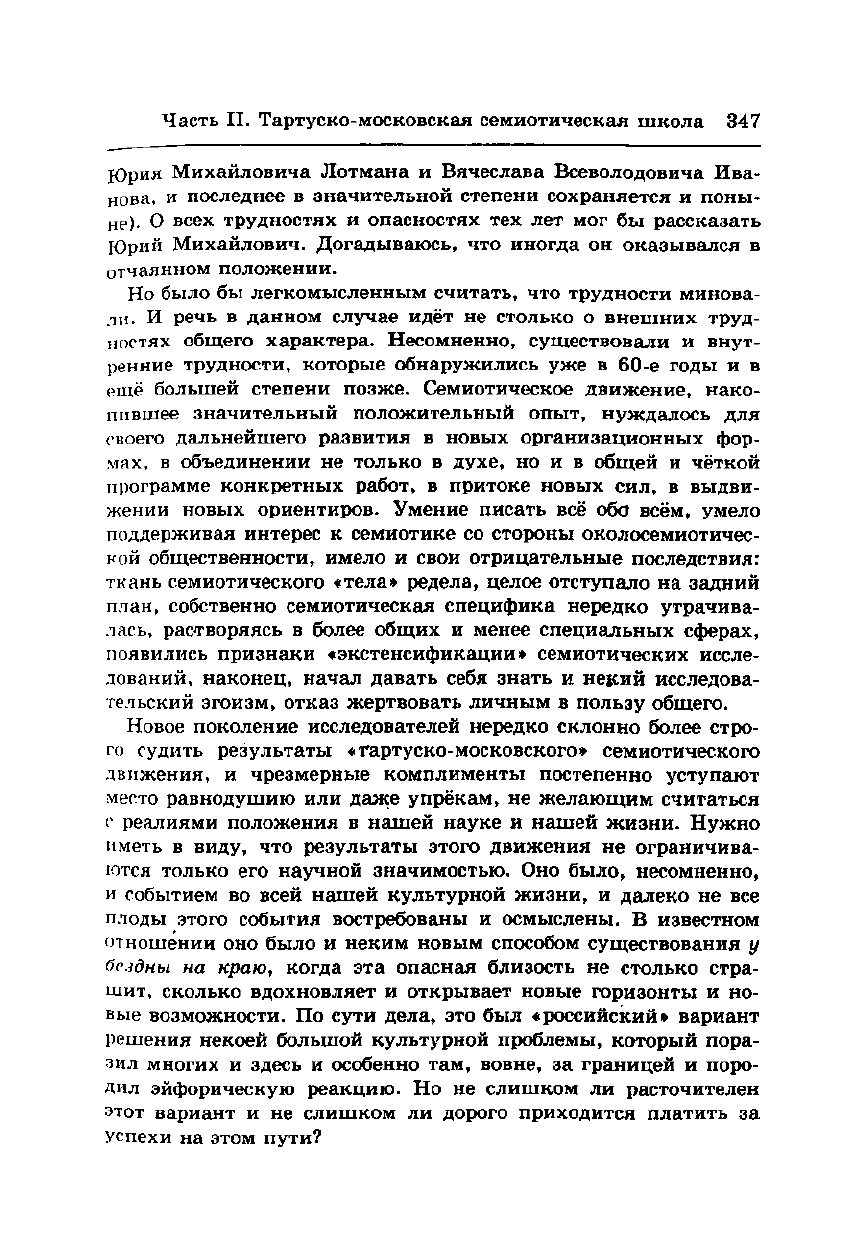
Часть II. Тартуско-московская семиотическая школа 347
Юрия Михайловича Лотмана и Вячеслава Всеволодовича Ива-
нова, и последнее в значительной степени сохраняется и поны-
не).
О всех трудностях и опасностях тех лет мог бы рассказать
Юрий Михайлович. Догадываюсь, что иногда он оказывался в
отчаянном положении.
Но было бы легкомысленным считать, что трудности минова-
ли.
И речь в данном случае идёт не столько о внешних труд-
ностях общего характера. Несомненно, существовали и внут-
ренние трудности, которые обнаружились уже в 60-е годы и в
ещё большей степени позже. Семиотическое движение, нако-
пившее значительный положительный опыт, нуждалось для
своего дальнейшего развития в новых организационных фор-
мах, в объединении не только в духе, но и в общей и чёткой
программе конкретных работ, в притоке новых сил, в выдви-
жении новых ориентиров. Умение писать всё оба всём, умело
поддерживая интерес к семиотике со стороны околосемиотичес-
кой общественности, имело и свои отрицательные последствия:
ткань семиотического «тела» редела, целое отступало на задний
план, собственно семиотическая специфика нередко утрачива-
лась,
растворяясь в более общих и менее специальных сферах,
появились признаки «экстенсификации» семиотических иссле-
дований, наконец, начал давать себя знать и некий исследова-
тельский эгоизм, отказ жертвовать личным в пользу общего.
Новое поколение исследователей нередко склонно более стро-
го судить результаты «тартуско-московского» семиотического
движения, и чрезмерные комплименты постепенно уступают
место равнодушию или даже упрёкам, не желающим считаться
с реалиями положения в нашей науке и нашей жизни. Нужно
иметь в виду, что результаты этого движения не ограничива-
ются только его научной значимостью. Оно было, несомненно,
и событием во всей нашей культурной жизни, и далеко не все
плоды этого события востребованы и осмыслены. В известном
отношении оно было и неким новым способом существования у
бездны на краю, когда эта опасная близость не столько стра-
шит, сколько вдохновляет и открывает новые горизонты и но-
вые возможности. По сути дела, это был «российский» вариант
решения некоей большой культурной проблемы, который пора-
зил многих и здесь и особенно там, вовне, за границей и поро-
дил эйфорическую реакцию. Но не слишком ли расточителен
этот вариант и не слишком ли дорого приходится платить за
успехи на этом пути?
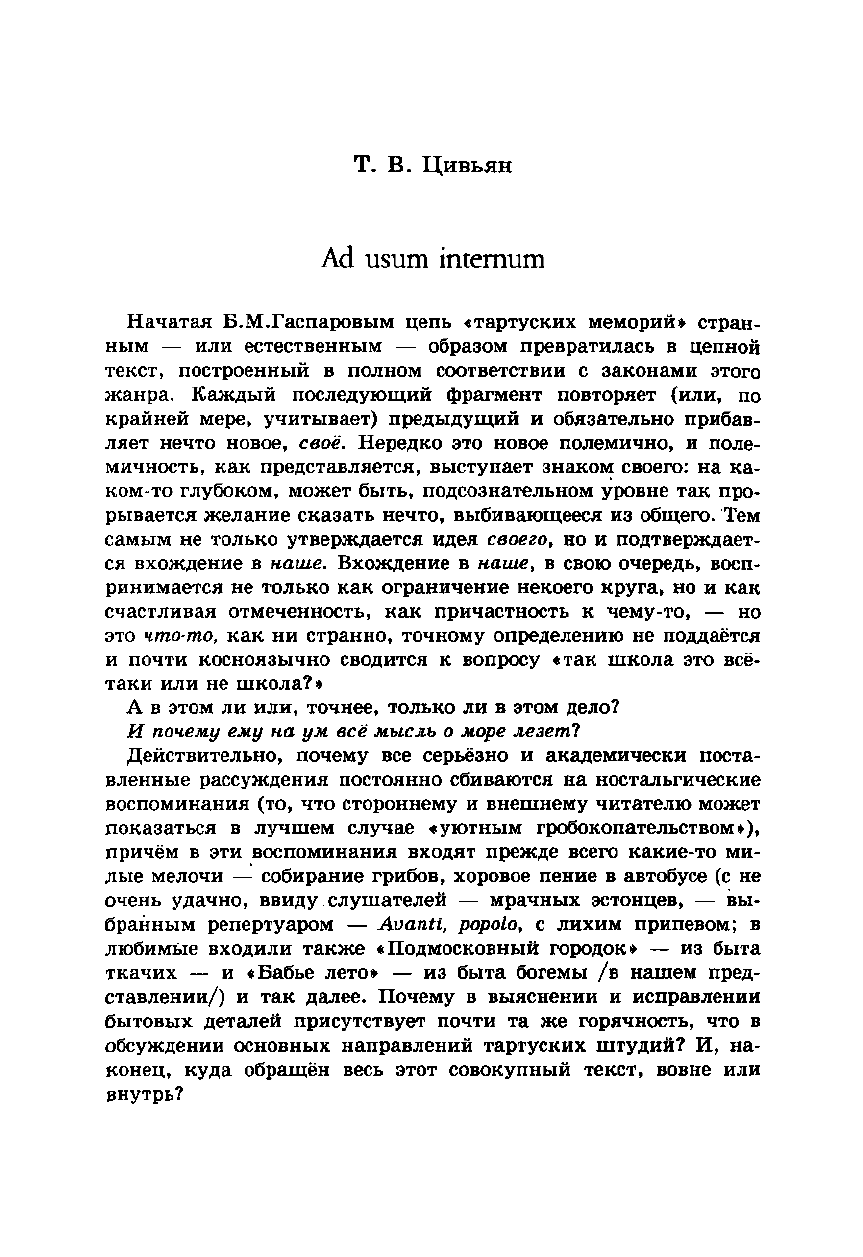
Т. В. Цивьян
Ad usum internum
Начатая Б.М.Гаспаровым цепь «тартуских меморий» стран-
ным — или естественным — образом превратилась в цепной
текст, построенный в полном соответствии с законами этого
жанра. Каждый последующий фрагмент повторяет (или, по
крайней мере, учитывает) предыдущий и обязательно прибав-
ляет нечто новое, своё. Нередко это новое полемично, и поле-
мичность, как представляется, выступает знаком своего: на ка-
ком-то глубоком, может быть, подсознательном уровне так про-
рывается желание сказать нечто, выбивающееся из общего. Тем
самым не только утверждается идея своего^ но и подтверждает-
ся вхождение в наше. Вхождение в наше
у
в свою очередь, восп-
ринимается не только как ограничение некоего круга» но и как
счастливая отмеченность, как причастность к чему-то, — но
это что-то, как ни странно, точному определению не поддаётся
и почти косноязычно сводится к вопросу «так школа это всё-
таки или не школа?»
А в этом ли или, точнее, только ли в этом дело?
И почему ему на ум всё мысль о море лезет!
Действительно, почему все серьёзно и академически поста-
вленные рассуждения постоянно сбиваются на ностальгические
воспоминания (то, что стороннему и внешнему читателю может
показаться в лучшем случае «уютным гробокопательством»),
причём в эти воспоминания входят прежде всего какие-то ми-
лые мелочи — собирание грибов, хоровое пение в автобусе (с не
очень удачно, ввиду слушателей — мрачных эстонцев, — вы-
бранным репертуаром — Avanti, popolo, с лихим припевом; в
любимые входили также «Подмосковный городок» — из быта
ткачих — и «Бабье лето» — из быта богемы /в нашем пред-
ставлении/) и так далее. Почему в выяснении и исправлении
бытовых деталей присутствует почти та же горячность, что в
обсуждении основных направлений тартуских штудий? И, на-
конец, куда обращен весь этот совокупный текст, вовне или
внутрь?
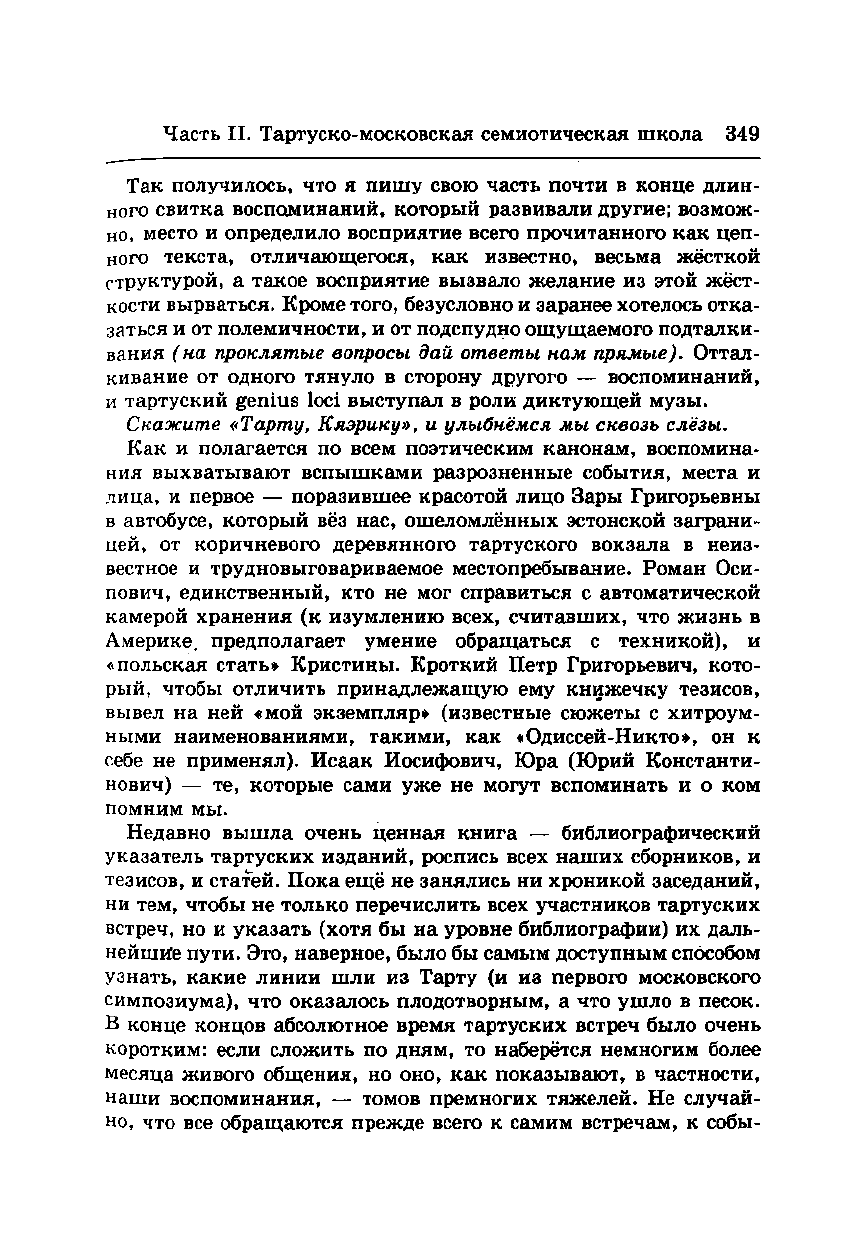
Часть II. Тартуско-московская семиотическая школа 349
Так получилось, что я пишу свою часть почти в конце длин-
ного свитка воспоминаний, который развивали другие; возмож-
но,
место и определило восприятие всего прочитанного как цеп-
ного текста, отличающегося, как известно, весьма жёсткой
структурой, а такое восприятие вызвало желание из этой жёст-
кости вырваться. Кроме того, безусловно и заранее хотелось отка-
заться и от полемичности, и от подспудно ощущаемого подталки-
вания (на проклятые вопросы дай ответы нам прямые). Оттал-
кивание от одного тянуло в сторону другого — воспоминаний,
и тартуский genius loci выступал в роли диктующей музы.
Скажите «Тарту, Кяэрику», и улыбнёмся мы сквозь слёзы.
Как и полагается по всем поэтическим канонам, воспомина-
ния выхватывают вспышками разрозненные события, места и
лица, и первое — поразившее красотой лицо Зары Григорьевны
в автобусе, который вёз нас, ошеломлённых эстонской заграни-
цей, от коричневого деревянного тартуского вокзала в неиз-
вестное и трудновыговариваемое местопребывание. Роман Оси-
пович, единственный, кто не мог справиться с автоматической
камерой хранения (к изумлению всех, считавших, что жизнь в
Америке, предполагает умение обращаться с техникой), и
«польская стать» Кристины. Кроткий Петр Григорьевич, кото-
рый, чтобы отличить принадлежащую ему книжечку тезисов,
вывел на ней «мой экземпляр» (известные сюжеты с хитроум-
ными наименованиями, такими, как «Одиссей-Никто», он к
себе не применял). Исаак Иосифович, Юра (Юрий Константи-
нович) — те, которые сами уже не могут вспоминать и о ком
помним мы.
Недавно вышла очень ценная книга — библиографический
указатель тартуских изданий, роспись всех наших сборников, и
тезисов, и статей. Пока ещё не занялись ни хроникой заседаний,
ни тем, чтобы не только перечислить всех участников тартуских
встреч, но и указать (хотя бы на уровне библиографии) их даль-
нейшие пути. Это, наверное, было бы самым доступным способом
узнать, какие линии шли из Тарту (и из первого московского
симпозиума), что оказалось плодотворным, а что ушло в песок.
В конце концов абсолютное время тартуских встреч было очень
коротким: если сложить по дням, то наберётся немногим более
месяца живого общения, но оно, как показывают, в частности,
наши воспоминания, — томов премногих тяжелей. Не случай-
но,
что все обращаются прежде всего к самим встречам, к собы-
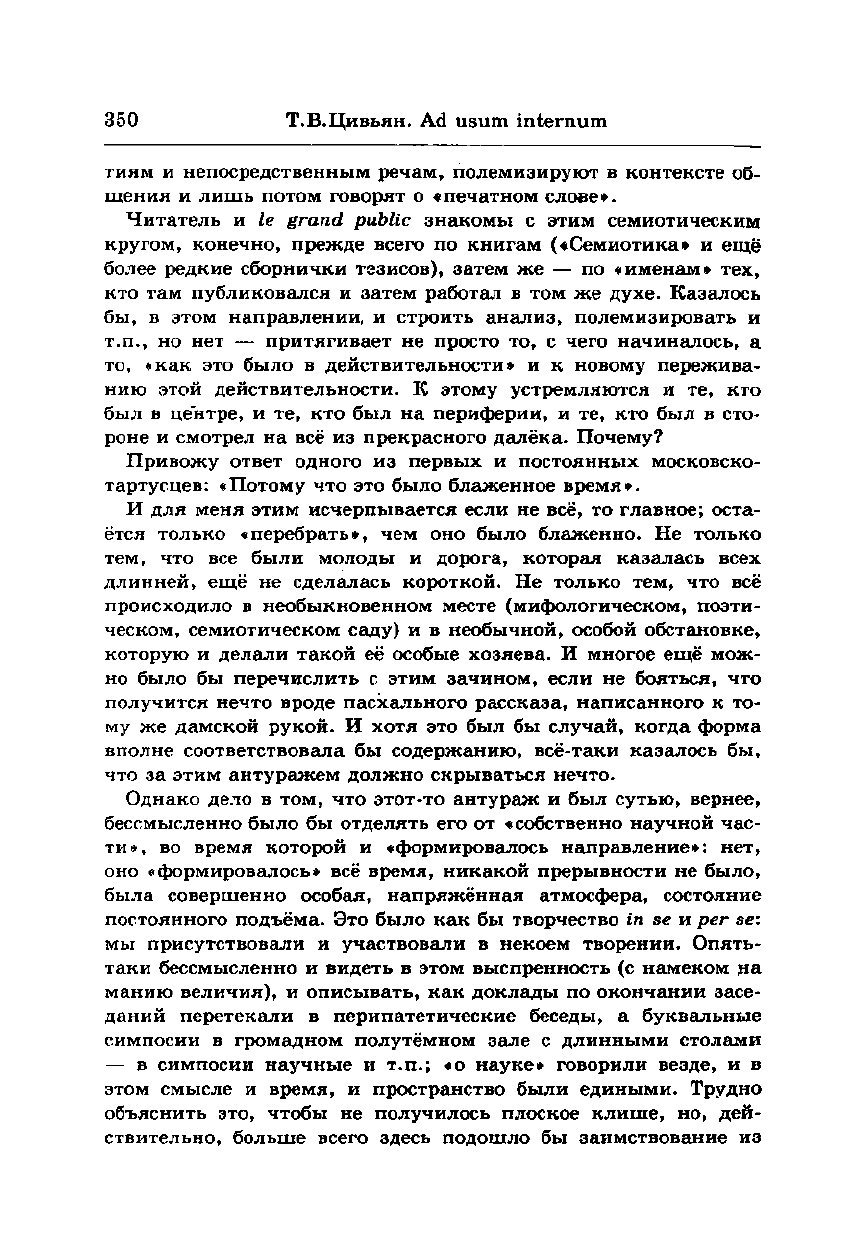
350
Т.В.Цивьян. Ad usum internum
тиям и непосредственным речам, полемизируют в контексте об-
щения и лишь потом говорят о «печатном слове».
Читатель и le grand public знакомы с этим семиотическим
кругом, конечно, прежде всего по книгам («Семиотика» и ещё
более редкие сборнички тезисов), затем же — по «именам» тех,
кто там публиковался и затем работал в том же духе. Казалось
бы,
в этом направлении, и строить анализ, полемизировать и
т.п.,
но нет — притягивает не просто то, с чего начиналось, а
то,
«как это было в действительности» и к новому пережива-
нию этой действительности. К этому устремляются и те, кто
был в центре, и те, кто был на периферии, и те, кто был в сто-
роне и смотрел на всё из прекрасного далека. Почему?
Привожу ответ одного из первых и постоянных московско-
тартусцев: «Потому что это было блаженное время».
И для меня этим исчерпывается если не всё, то главное; оста-
ётся только «перебрать», чем оно было блаженно. Не только
тем, что все были молоды и дорога, которая казалась всех
длинней, ещё не сделалась короткой. Не только тем, что всё
происходило в необыкновенном месте (мифологическом, поэти-
ческом, семиотическом саду) и в необычной, особой обстановке,
которую и делали такой её особые хозяева. И многое ещё мож-
но было бы перечислить с этим зачином, если не бояться, что
получится нечто вроде пасхального рассказа, написанного к то-
му же дамской рукой. И хотя это был бы случай, когда форма
вполне соответствовала бы содержанию, всё-таки казалось бы,
что за этим антуражем должно скрываться нечто.
Однако дело в том, что этот-то антураж и был сутью, вернее,
бессмысленно было бы отделять его от «собственно научной час-
ти»,
во время которой и «формировалось направление»: нет,
оно «формировалось» всё время, никакой прерывности не было,
была совершенно особая, напряжённая атмосфера, состояние
постоянного подъёма. Это было как бы творчество in se и per se:
мы присутствовали и участвовали в некоем творении. Опять-
таки бессмысленно и видеть в этом выспренность (с намеком на
манию величия), и описывать, как доклады по окончании засе-
даний перетекали в перипатетические беседы, а буквальные
симпосии в громадном полутёмном зале с длинными столами
— в симпосии научные и т.п.; «о науке» говорили везде, и в
этом смысле и время, и пространство были едиными. Трудно
объяснить это, чтобы не получилось плоское клише, но, дей-
ствительно, больше всего здесь подошло бы заимствование из
