Лотман Ю.М. Сборник работ (Ю.М. Лотман и тартусско-московская семиотическая школа)
Подождите немного. Документ загружается.

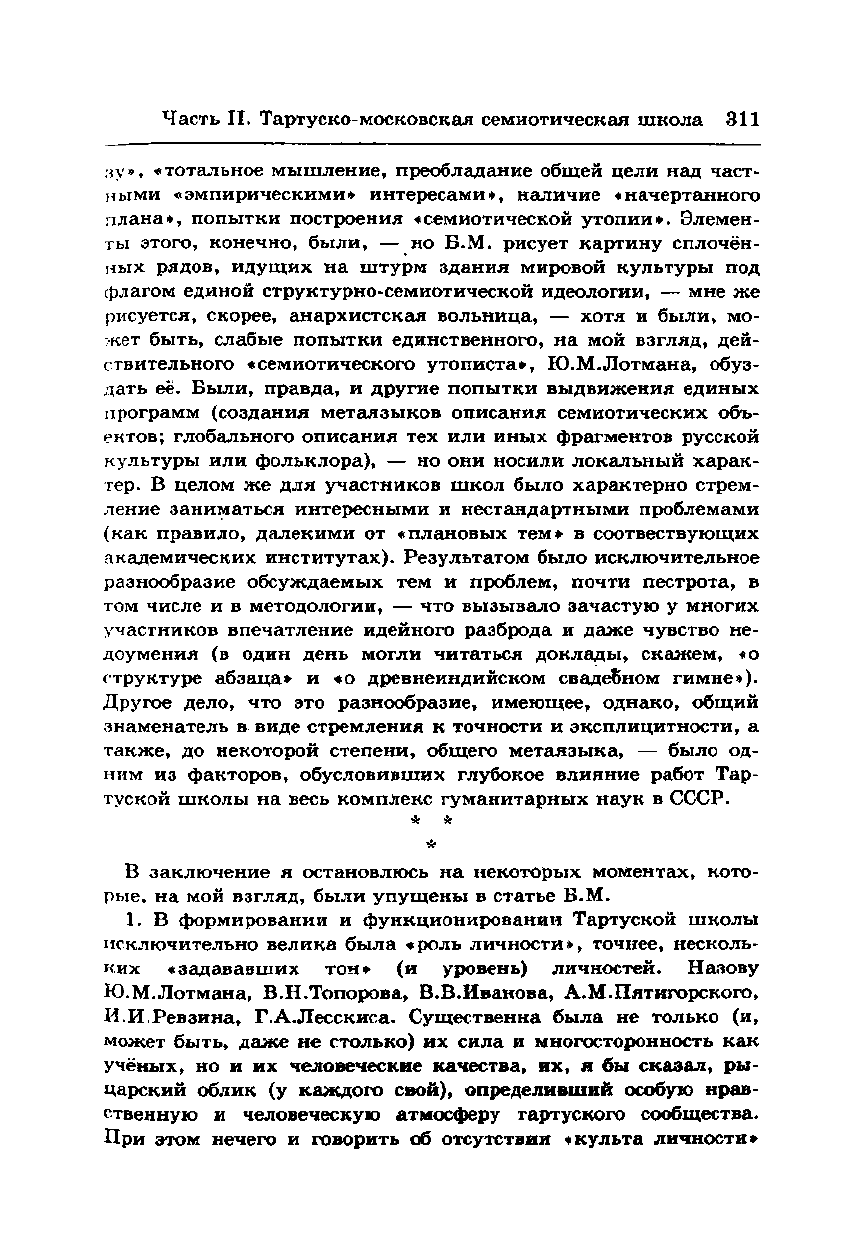
Часть II. Тартуско-московская семиотическая школа 311
зу»,
«тотальное мышление, преобладание общей цели над част-
ными «эмпирическими» интересами», наличие «начертанного
плана», попытки построения «семиотической утопии». Элемен-
ты этого, конечно, были, — но Б.М. рисует картину сплочён-
ных рядов, идущих на штурм здания мировой культуры под
флагом единой структурно-семиотической идеологии, — мне же
рисуется, скорее, анархистская вольница, — хотя и были, мо-
жет быть, слабые попытки единственного, на мой взгляд, дей-
ствительного «семиотического утописта», Ю.М.Лотмана, обуз-
дать её. Были, правда, и другие попытки выдвижения единых
программ (создания метаязыков описания семиотических объ-
ектов; глобального описания тех или иных фрагментов русской
культуры или фольклора), — но они носили локальный харак-
тер.
В целом же для участников школ было характерно стрем-
ление заниматься интересными и нестандартными проблемами
(как правило, далекими от «плановых тем» в соотвествующих
академических институтах). Результатом было исключительное
разнообразие обсуждаемых тем и проблем, почти пестрота, в
том числе и в методологии, — что вызывало зачастую у многих
участников впечатление идейного разброда и даже чувство не-
доумения (в один день могли читаться доклады, скажем, «о
структуре абзаца» и «о древнеиндийском свадебном гимне»).
Другое дело, что это разнообразие, имеющее, однако, общий
знаменатель в виде стремления к точности и эксплицитности, а
также, до некоторой степени, общего метаязыка, — было од-
ним из факторов, обусловивших глубокое влияние работ Тар-
туской школы на весь комплекс гуманитарных наук в СССР.
В заключение я остановлюсь на некоторых моментах, кото-
рые,
на мой взгляд, были упущены в статье Б.М.
1.
В формировании и функционировании Тартуской школы
исключительно велика была «роль личности», точнее, несколь-
ких «задававших тон» (и уровень) личностей. Назову
Ю.М.Лотмана, В.Н.Топорова, В.В.Иванова, A.M.Пятигорского,
И.И.Ревзина, Г.А.Лесскиса. Существенна была не только (и,
может быть, далее не столько) их сила и многосторонность как
учёных, но и их человеческие качества, их, я бы сказал, ры-
царский облик (у каждого свой), определивший особую нрав-
ственную и человеческую атмосферу тартуского сообщества.
При этом нечего и говорить об отсутствии «культа личности»
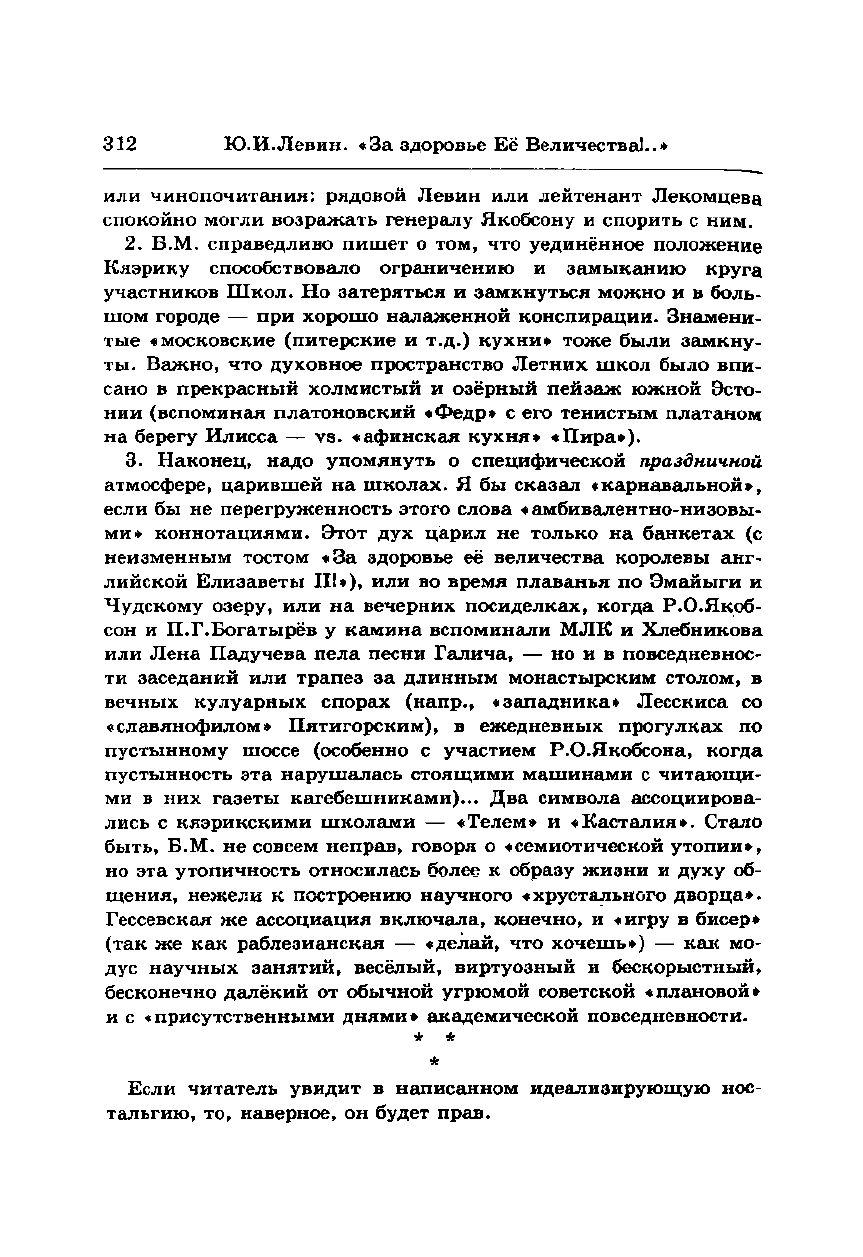
312 Ю.И.Левин. «За здоровье Её Величества!..»
или чинопочитания: рядовой Левин или лейтенант Лекомцева
спокойно могли возражать генералу Якобсону и спорить с ним.
2.
Б.М. справедливо пишет о том, что уединённое положение
Кяэрику способствовало ограничению и замыканию круга
участников Школ. Но затеряться и замкнуться можно и в боль-
шом городе — при хорошо налаженной конспирации. Знамени-
тые «московские (питерские и т.д.) кухни» тоже были замкну-
ты.
Валено, что духовное пространство Летних школ было впи-
сано в прекрасный холмистый и озёрный пейзаж южной Эсто-
нии (вспоминая платоновский «Федр» с его тенистым платаном
на берегу Илисса — vs. «афинская кухня» «Пира»).
3.
Наконец, надо упомянуть о специфической праздничной
атмосфере, царившей на школах. Я бы сказал «карнавальной»,
если бы не перегруженность этого слова «амбивалентно-низовы-
ми» коннотациями. Этот дух царил не только на банкетах (с
неизменным тостом «За здоровье её величества королевы анг-
лийской Елизаветы III»), или во время плаванья по Эмайыги и
Чудскому озеру, или на вечерних посиделках, когда Р.О.Якоб-
сон и П.Г.Богатырёв у камина вспоминали МЛК и Хлебникова
или Лена Падучева пела песни Галича, — но и в повседневнос-
ти заседаний или трапез за длинным монастырским столом, в
вечных кулуарных спорах (напр., «западника» Лесскиса со
«славянофилом» Пятигорским), в ежедневных прогулках по
пустынному шоссе (особенно с участием Р.О.Якобсона, когда
пустынность эта нарушалась стоящими машинами с читающи-
ми в них газеты кагебешниками)... Два символа ассоциирова-
лись с кяэрикскими школами — «Телем» и «Касталия». Стало
быть, Б.М. не совсем неправ, говоря о «семиотической утопии»,
но эта утопичность относилась более к образу жизни и духу об-
щения, нежели к построению научного «хрустального дворца».
Гессевская же ассоциация включала, конечно, и «игру в бисер»
(так же как раблезианская — «делай, что хочешь») — как мо-
дус научных занятий, весёлый, виртуозный и бескорыстный,
бесконечно далёкий от обычной угрюмой советской «плановой»
и с «присутственными днями» академической повседневности.
Если читатель увидит в написанном идеализирующую нос-
тальгию, то, наверное, он будет прав.
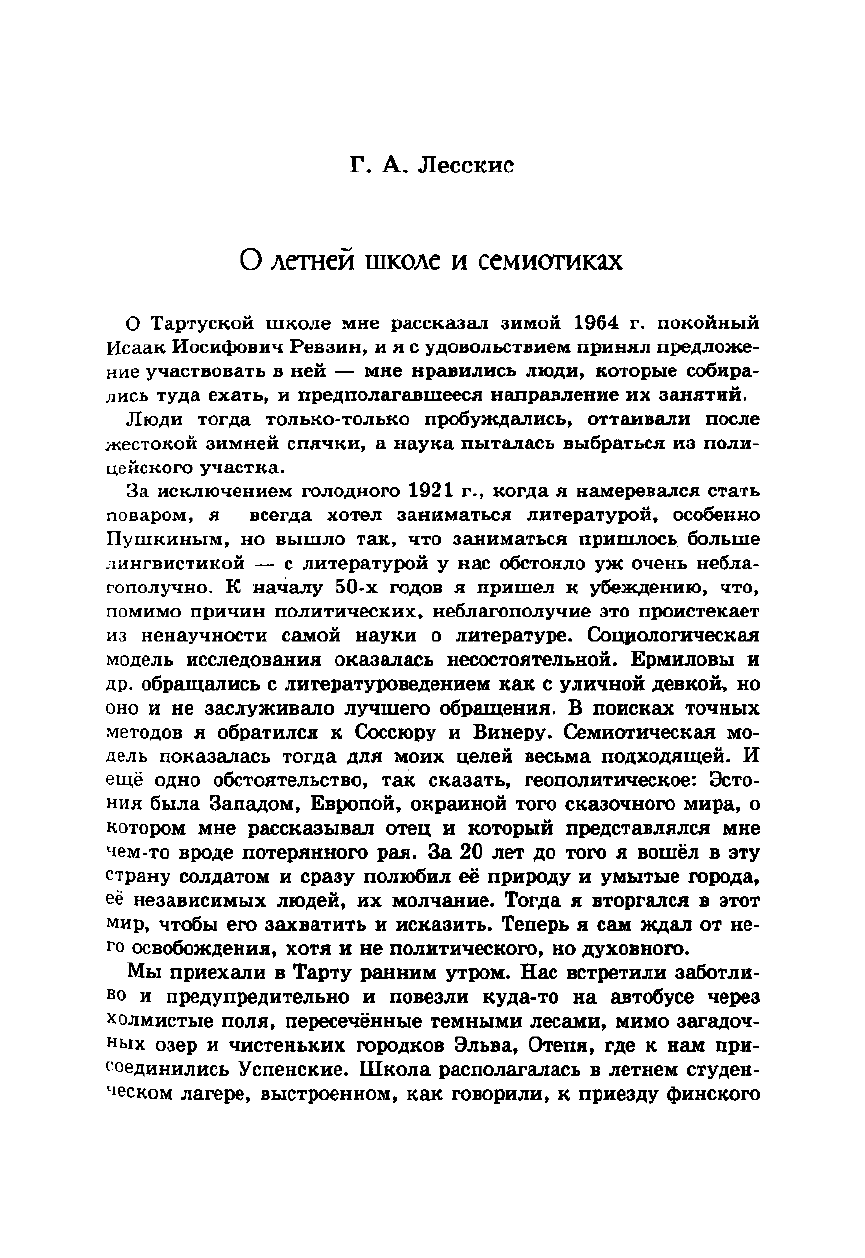
Г. А, Лесскис
О летней школе и семиотиках
О Тартуской школе мне рассказал зимой 1964 г. покойный
Исаак Иосифович Ревзин, и я с удовольствием принял предложе-
ние участвовать в ней — мне нравились люди, которые собира-
лись туда ехать, и предполагавшееся направление их занятий.
Люди тогда только-только пробуждались, оттаивали после
жестокой зимней спячки, а наука пыталась выбраться из поли-
цейского участка.
За исключением голодного 1921 г., когда я намеревался стать
поваром, я всегда хотел заниматься литературой, особенно
Пушкиным, но вышло так, что заниматься пришлось больше
лингвистикой — с литературой у нас обстояло уж очень небла-
гополучно. К началу 50-х годов я пришел к убеждению, что,
помимо причин политических, неблагополучие это проистекает
из ненаучности самой науки о литературе. Социологическая
модель исследования оказалась несостоятельной. Ермиловы и
др.
обращались с литературоведением как с уличной девкой-, но
оно и не заслуживало лучшего обращения. В поисках точных
методов я обратился к Соссюру и Винеру. Семиотическая мо-
дель показалась тогда для моих целей весьма подходящей. И
ещё одно обстоятельство, так сказать, геополитическое: Эсто-
ния была Западом, Европой, окраиной того сказочного мира, о
котором мне рассказывал отец и который представлялся мне
чем-то вроде потерянного рая. За 20 лет до того я вошёл в эту
страну солдатом и сразу полюбил её природу и умытые города,
её независимых людей, их молчание. Тогда я вторгался в этот
мир,
чтобы его захватить и исказить. Теперь я сам ждал от не-
го освобождения, хотя и не политического, но духовного.
Мы приехали в Тарту ранним утром. Нас встретили заботли-
во и предупредительно и повезли куда-то на автобусе через
холмистые поля, пересечённые темными лесами, мимо загадоч-
ных озер и чистеньких городков Эльва, Отепя, где к нам при-
соединились Успенские. Школа располагалась в летнем студен-
ческом лагере, выстроенном, как говорили, к приезду финского
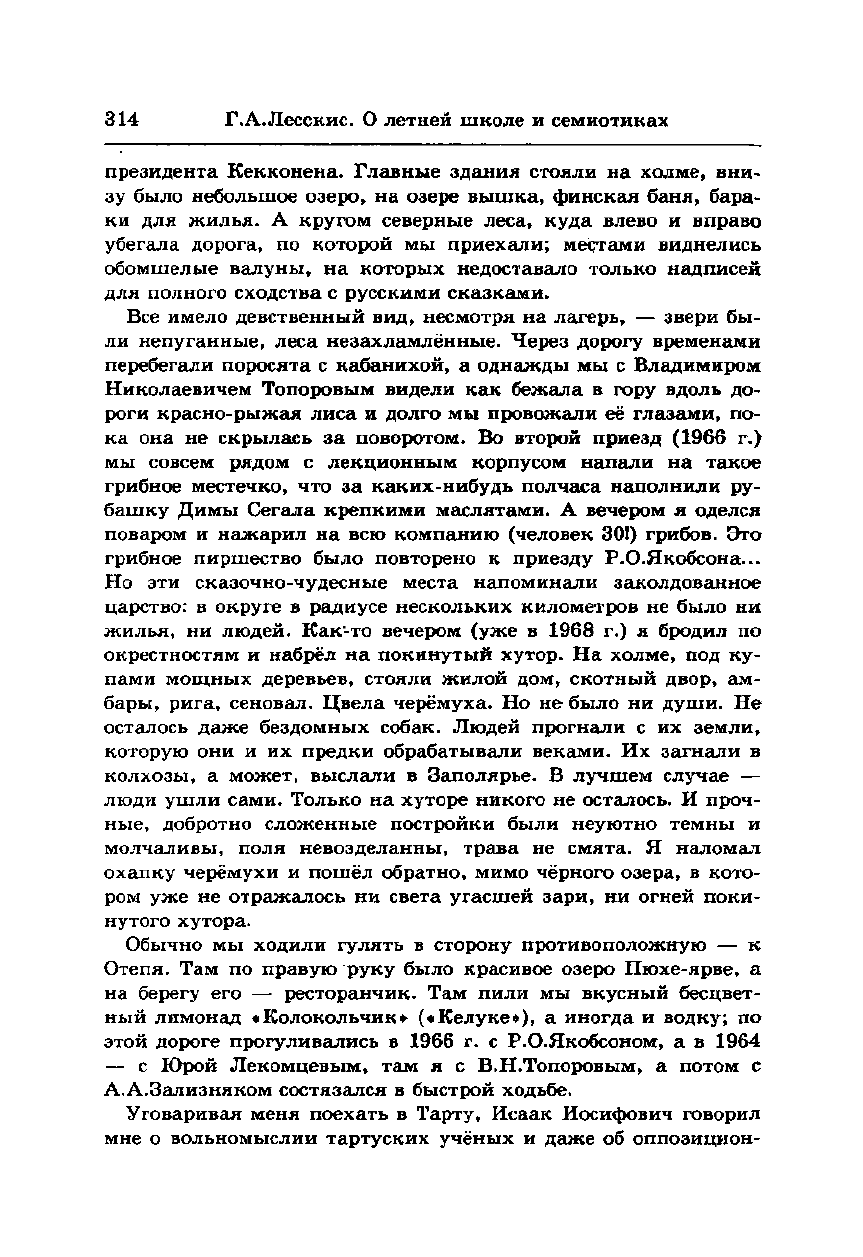
314 Г.А.Лесскис. О летней школе и семиотиках
президента Кекконена. Главные здания стояли на холме, вни-
зу было небольшое озеро, на озере вышка, финская баня, бара-
ки для жилья. А кругом северные леса, куда влево и вправо
убегала дорога, по которой мы приехали; местами виднелись
обомшелые валуны, на которых недоставало только надписей
для полного сходства с русскими сказками.
Все имело девственный вид, несмотря на лагерь, — звери бы-
ли непуганные, леса незахламлённые. Через дорогу временами
перебегали поросята с кабанихой, а однажды мы с Владимиром
Николаевичем Топоровым видели как бежала в гору вдоль до-
роги красно-рыжая лиса и долго мы провожали её глазами, по-
ка она не скрылась за поворотом. Во второй приезд (1966 г.)
мы совсем рядом с лекционным корпусом напали на такое
грибное местечко, что за каких-нибудь полчаса наполнили ру-
башку Димы Сегала крепкими маслятами. А вечером я оделся
поваром и нажарил на всю компанию (человек 30!) грибов. Это
грибное пиршество было повторено к приезду Р.О.Якобсона...
Но эти сказочно-чудесные места напоминали заколдованное
царство: в округе в радиусе нескольких километров не было ни
жилья, ни людей. Как-то вечером (уже в 1968 г.) я бродил по
окрестностям и набрёл на покинутый хутор. На холме, под ку-
пами мощных деревьев, стояли жилой дом, скотный двор, ам-
бары, рига, сеновал. Цвела черёмуха. Но не было ни души. Не
осталось даже бездомных собак. Людей прогнали с их земли,
которую они и их предки обрабатывали веками. Их загнали в
колхозы, а может, выслали в Заполярье. В лучшем случае —
люди ушли сами. Только на хуторе никого не осталось. И проч-
ные,
добротно сложенные постройки были неуютно темны и
молчаливы, поля невозделанны, трава не смята. Я наломал
охапку черёмухи и пошёл обратно, мимо чёрного озера, в кото-
ром уже не отражалось ни света угасшей зари, ни огней поки-
нутого хутора.
Обычно мы ходили гулять в сторону противоположную — к
Отепя. Там по правую руку было красивое озеро Пюхе-ярве, а
на берегу его — ресторанчик. Там пили мы вкусный бесцвет-
ный лимонад «Колокольчик» («Келуке»), а иногда и водку; по
этой дороге прогуливались в 1966 г. с Р.О.Якобсоном, а в 1964
— с Юрой Лекомцевым, там я с В.Н.Топоровым, а потом с
А.А.Зализняком состязался в быстрой ходьбе.
Уговаривая меня поехать в Тарту, Исаак Иосифович говорил
мне о вольномыслии тартуских учёных и даже об оппозицион-
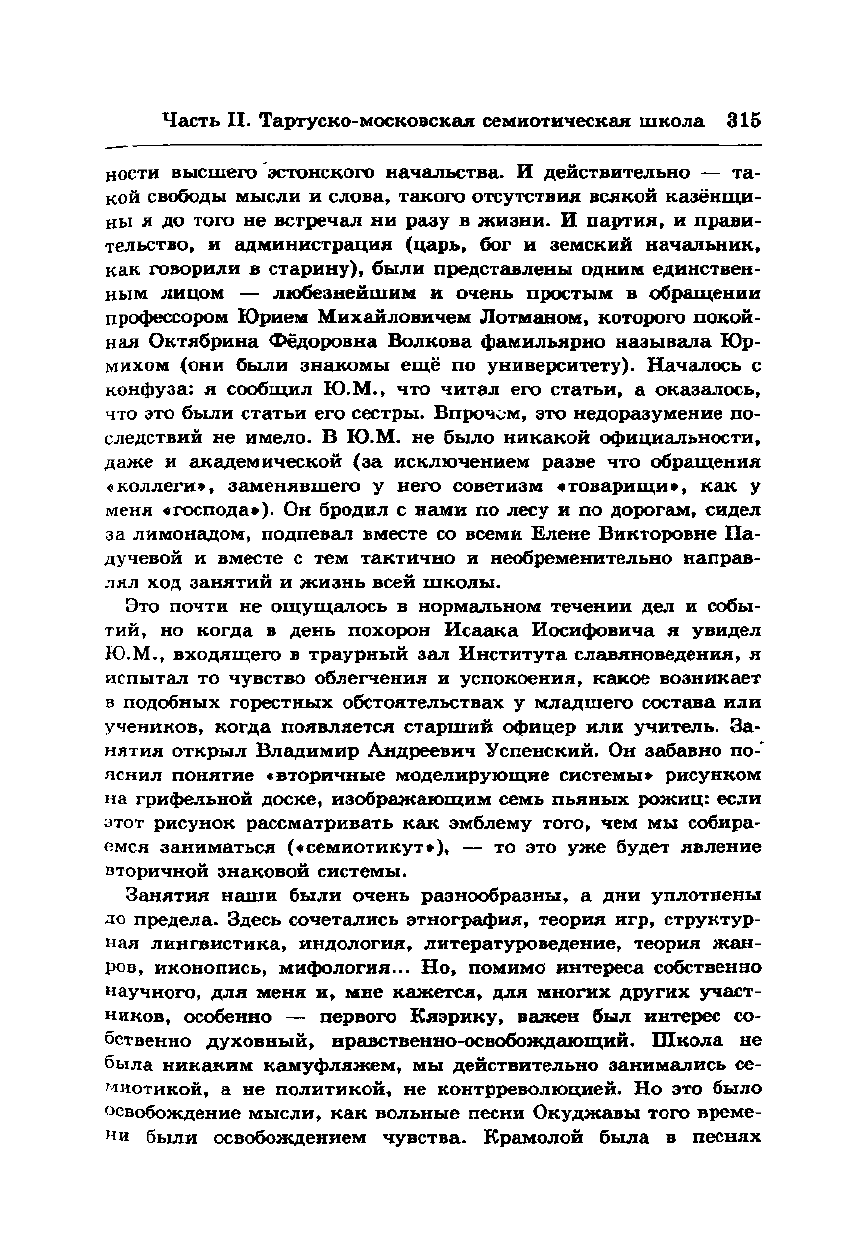
Часть II. Тартуско-московская семиотическая школа 315
ности высшего эстонского начальства. И действительно — та-
кой свободы мысли и слова, такого отсутствия всякой казёнщи-
ны я до того не встречал ни разу в жизни. И партия, и прави-
тельство, и администрация (царь, бог и земский начальник,
как говорили в старину), были представлены одним единствен-
ным лицом — любезнейшим и очень простым в обращении
профессором Юрием Михайловичем Лотманом, которого покой-
ная Октябрина Фёдоровна Волкова фамильярно называла Юр-
михом (они были знакомы ещё по университету). Началось с
конфуза: я сообщил Ю.М., что читал его статьи, а оказалось,
что это были статьи его сестры. Впрочем, это недоразумение по-
следствий не имело. В Ю.М. не было никакой официальности,
даже и академической (за исключением разве что обращения
«коллеги», заменявшего у него советизм «товарищи», как у
меня «господа»). Он бродил с нами по лесу и по дорогам, сидел
за лимонадом, подпевал вместе со всеми Елене Викторовне Па-
дучевой и вместе с тем тактично и необременительно направ-
лял ход занятий и жизнь всей школы.
Это почти не ощущалось в нормальном течении дел и собы-
тий,
но когда в день похорон Исаака Иосифовича я увидел
Ю.М., входящего в траурный зал Института славяноведения, я
испытал то чувство облегчения и успокоения, какое возникает
в подобных горестных обстоятельствах у младшего состава или
учеников, когда появляется старший офицер или учитель. За-
нятия открыл Владимир Андреевич Успенский. Он забавно по-'
яснил понятие «вторичные моделирующие системы» рисунком
на грифельной доске, изображающим семь пьяных рожиц: если
этот рисунок рассматривать как эмблему того, чем мы собира-
емся заниматься («семиотикут»), — то это уже будет явление
вторичной знаковой системы.
Занятия наши были очень разнообразны, а дни уплотнены
до предела. Здесь сочетались этнография, теория игр, структур-
ная лингвистика, индология, литературоведение, теория жан-
ров,
иконопись, мифология... Но, помимо интереса собственно
научного, для меня и, мне кажется, для многих других участ-
ников, особенно — первого Кяэрику, важен был интерес со-
бственно духовный, нравственно-освобождающий. Школа не
была никаким камуфляжем, мы действительно занимались се-
миотикой, а не политикой, не контрреволюцией. Но это было
освобождение мысли, как вольные песни Окуджавы того време-
ни были освобождением чувства. Крамолой была в песнях
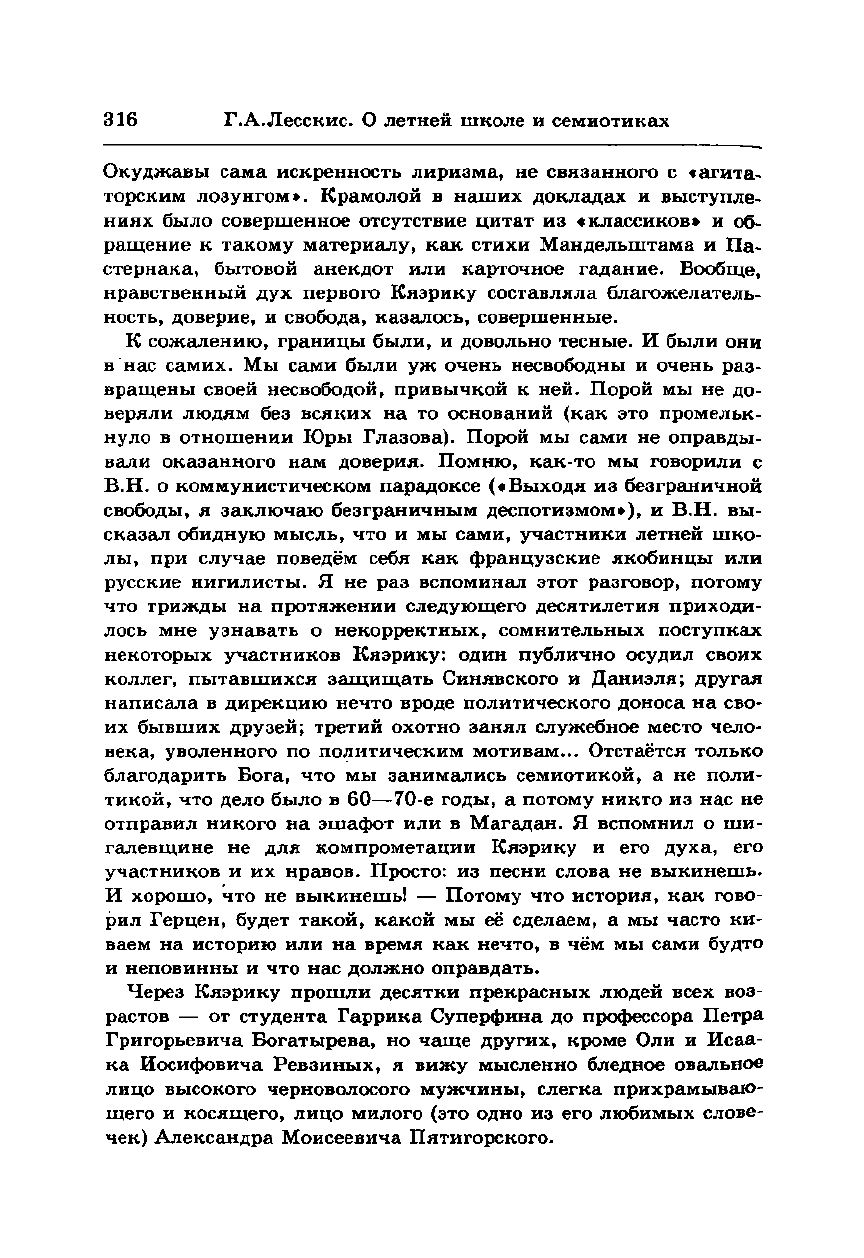
316 Г.А.Лесскис. О летней школе и семиотиках
Окуджавы сама искренность лиризма, не связанного с «агита-
торским лозунгом». Крамолой в наших докладах и выступле-
ниях было совершенное отсутствие цитат из «классиков» и об-
ращение к такому материалу, как стихи Мандельштама и Па-
стернака, бытовой анекдот или карточное гадание. Вообще,
нравственный дух первого Кяэрику составляла благожелатель-
ность, доверие, и свобода, казалось, совершенные.
К сожалению, границы были, и довольно тесные. И были они
в нас самих. Мы сами были уж очень несвободны и очень раз-
вращены своей несвободой, привычкой к ней. Порой мы не до-
веряли людям без всяких на то оснований (как это промельк-
нуло в отношении Юры Глазова). Порой мы сами не оправды-
вали оказанного нам доверия. Помню, как-то мы говорили с
В.Н. о коммунистическом парадоксе («Выходя из безграничной
свободы, я заключаю безграничным деспотизмом»), и В.Н. вы-
сказал обидную мысль, что и мы сами, участники летней шко-
лы,
при случае поведём себя как французские якобинцы или
русские нигилисты. Я не раз вспоминал этот разговор, потому
что трижды на протяжении следующего десятилетия приходи-
лось мне узнавать о некорректных, сомнительных поступках
некоторых участников Кяэрику: один публично осудил своих
коллег, пытавшихся защищать Синявского и Даниэля; другая
написала в дирекцию нечто вроде политического доноса на сво-
их бывших друзей; третий охотно занял служебное место чело-
века, уволенного по политическим мотивам... Отстаётся только
благодарить Бога, что мы занимались семиотикой, а не поли-
тикой, что дело было в 60—70-е годы, а потому никто из нас не
отправил никого на эшафот или в Магадан. Я вспомнил о ши-
галевщине не для компрометации Кяэрику и его духа, его
участников и их нравов. Просто: из песни слова не выкинешь.
И хорошо, что не выкинешь! — Потому что история, как гово-
рил Герцен, будет такой, какой мы её сделаем, а мы часто ки-
ваем на историю или на время как нечто, в чём мы сами будто
и неповинны и что нас должно оправдать.
Через Кяэрику прошли десятки прекрасных людей всех воз-
растов — от студента Гаррика Суперфина до профессора Петра
Григорьевича Богатырева, но чаще других, кроме Оли и Исаа-
ка Иосифовича Ревзиных, я вижу мысленно бледное овальное
лицо высокого черноволосого мужчины, слегка прихрамываю-
щего и косящего, лицо милого (это одно из его любимых слове-
чек) Александра Моисеевича Пятигорского.
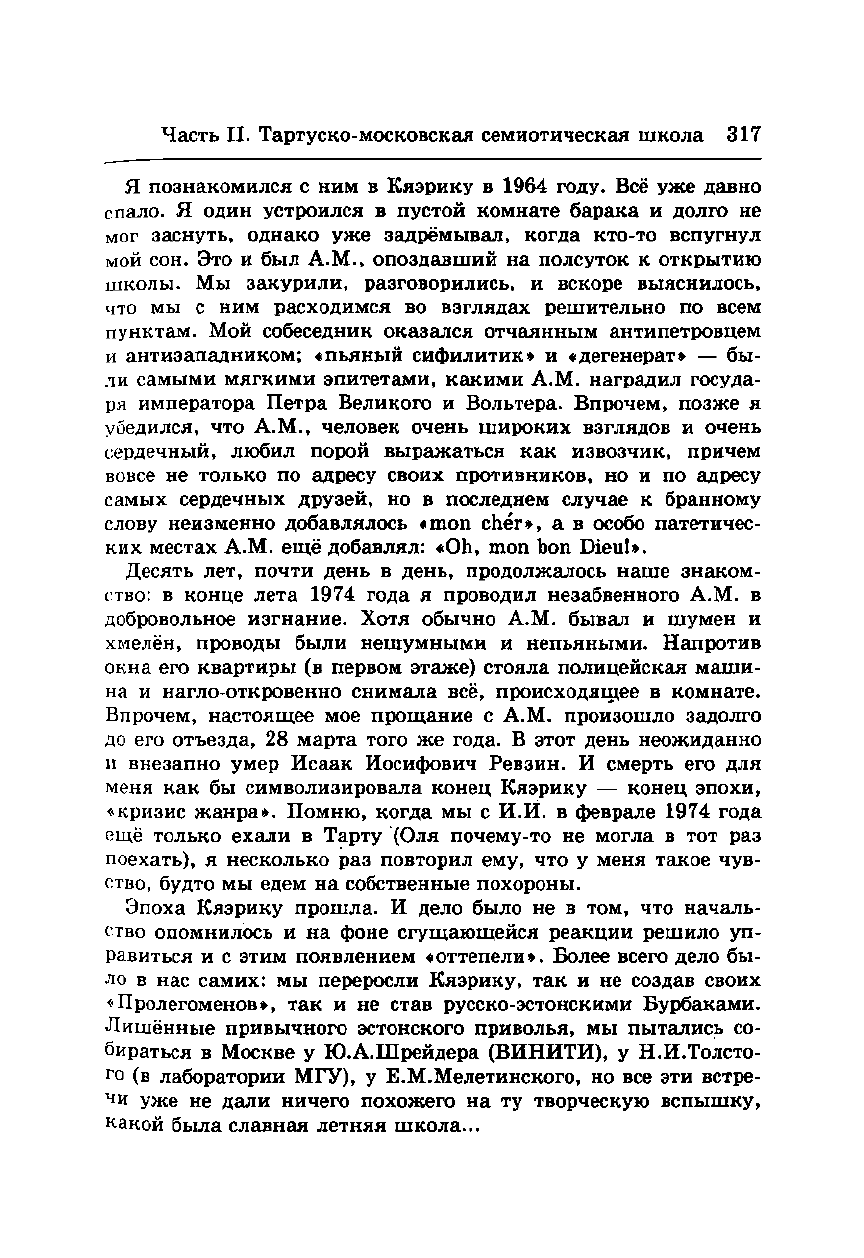
Часть II. Тартуско-московская семиотическая школа 317
Я познакомился с ним в Кяэрику в 1964 году. Всё уже давно
спало. Я один устроился в пустой комнате барака и долго не
мог заснуть, однако уже задрёмывал, когда кто-то вспугнул
мой сон. Это и был A.M., опоздавший на полсуток к открытию
школы. Мы закурили, разговорились, и вскоре выяснилось,
что мы с ним расходимся во взглядах решительно по всем
пунктам. Мой собеседник оказался отчаянным антипетровцем
и антизападником; «пьяный сифилитик» и «дегенерат» — бы-
ли самыми мягкими эпитетами, какими A.M. наградил госуда-
ря императора Петра Великого и Вольтера. Впрочем, позже я
убедился, что A.M., человек очень широких взглядов и очень
сердечный, любил порой выражаться как извозчик, причем
вовсе не только по адресу своих противников, но и по адресу
самых сердечных друзей, но в последнем случае к бранному
слову неизменно добавлялось «mon cher», а в особо патетичес-
ких местах A.M. ещё добавлял: «Oh, mon bon Dieu!».
Десять лет, почти день в день, продолжалось наше знаком-
ство:
в конце лета 1974 года я проводил незабвенного A.M. в
добровольное изгнание. Хотя обычно A.M. бывал и шумен и
хмелён, проводы были нешумными и непьяными. Напротив
окна его квартиры (в первом этаже) стояла полицейская маши-
на и нагло-откровенно снимала всё, происходящее в комнате.
Впрочем, настоящее мое прощание с A.M. произошло задолго
до его отъезда, 28 марта того же года. В этот день неожиданно
и внезапно умер Исаак Иосифович Ревзин. И смерть его для
меня как бы символизировала конец Кяэрику — конец эпохи,
«кризис жанра». Помню, когда мы с И.И. в феврале 1974 года
ещё только ехали в Тарту (Оля почему-то не могла в тот раз
поехать), я несколько раз повторил ему, что у меня такое чув-
ство,
будто мы едем на собственные похороны.
Эпоха Кяэрику прошла. И дело было не в том, что началь-
ство опомнилось и на фоне сгущающейся реакции решило уп-
равиться и с этим появлением «оттепели». Более всего дело бы-
ло в нас самих: мы переросли Кяэрику, так и не создав своих
«Пролегоменов», так и не став русско-эстонскими Бурбаками.
Лишённые привычного эстонского приволья, мы пытались со-
бираться в Москве у Ю.А.Шрейдера (ВИНИТИ), у Н.И.Толсто-
го (в лаборатории МГУ), у Е.М.Мелетинского, но все эти встре-
чи уже не дали ничего похожего на ту творческую вспышку,
какой была славная летняя школа...
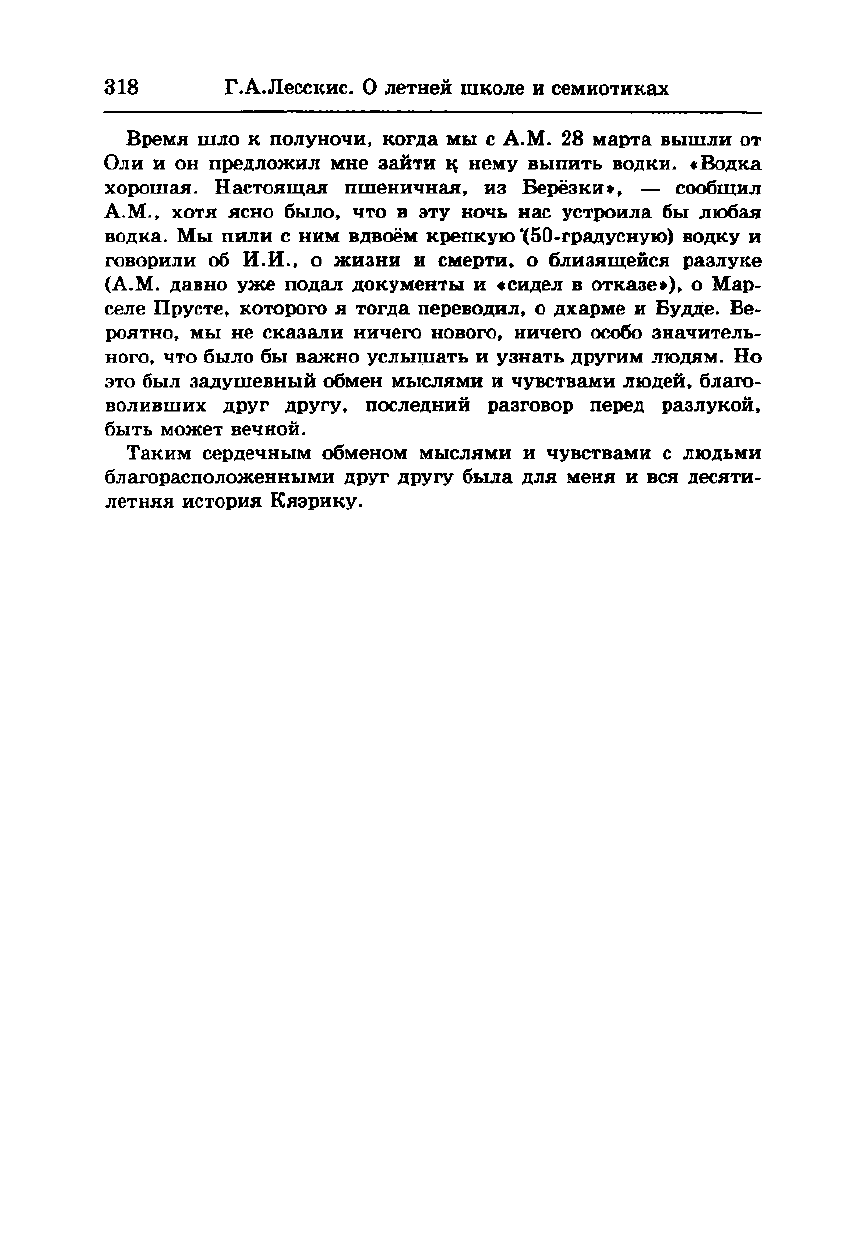
318 Г.А.Лесскис. О летней школе и семиотиках
Время шло к полуночи, когда мы с A.M. 28 марта вышли от
Оли и он предложил мне зайти к нему выпить водки. * Водка
хорошая. Настоящая пшеничная, из Берёзки», — сообщил
A.M., хотя ясно было, что в эту ночь нас устроила бы любая
водка. Мы пили с ним вдвоём крепкую *(50-градусную) водку и
говорили об И.И., о жизни и смерти, о близящейся разлуке
(A.M. давно уже подал документы и «сидел в отказе»), о Мар-
селе Прусте, которого я тогда переводил, о дхарме и Будде. Ве-
роятно, мы не сказали ничего нового, ничего особо значитель-
ного,
что было бы важно услышать и узнать другим людям. Но
это был задушевный обмен мыслями и чувствами людей, благо-
воливших друг другу, последний разговор перед разлукой,
быть может вечной.
Таким сердечным обменом мыслями и чувствами с людьми
благорасположенными друг другу была для меня и вся десяти-
летняя история Кяэрику.
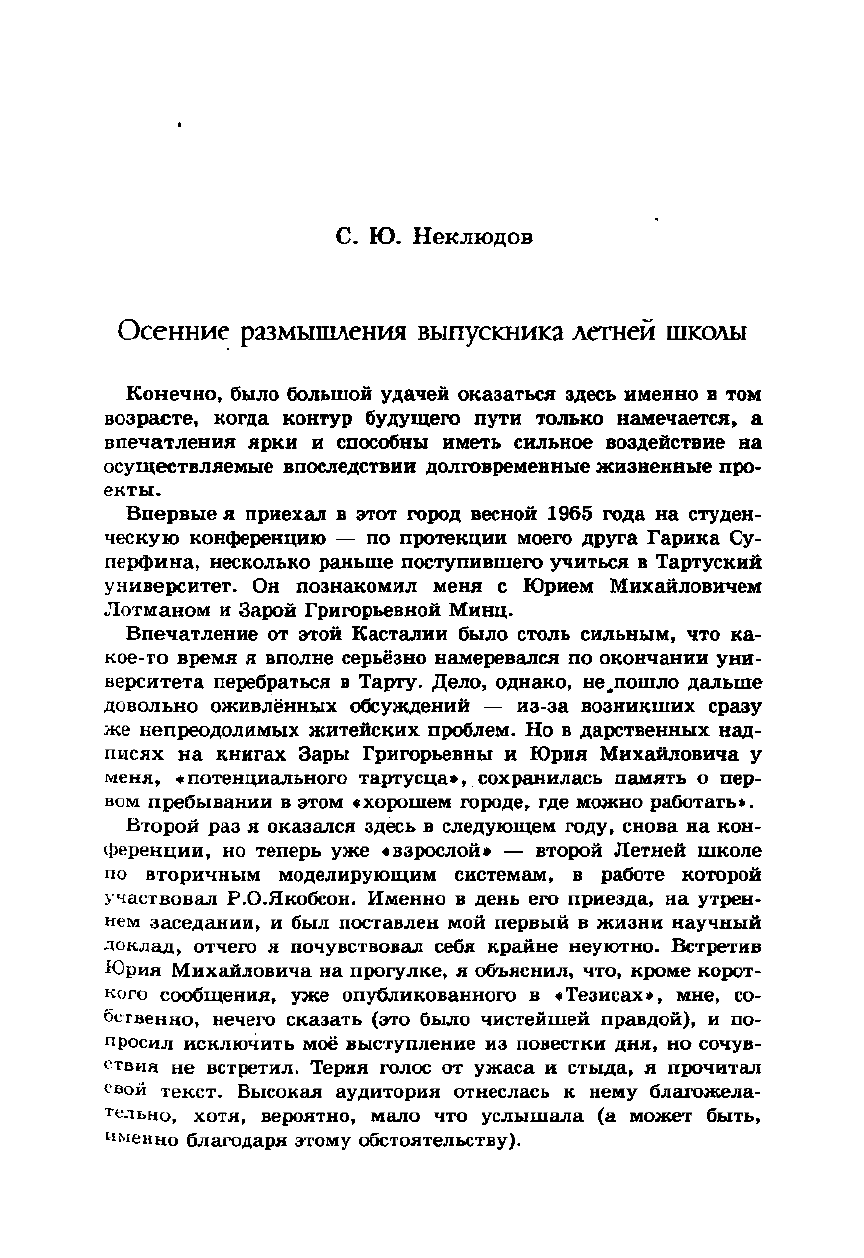
С. Ю. Неклюдов
Осенние размышления выпускника летней школы
Конечно, было большой удачей оказаться здесь именно в том
возрасте, когда контур будущего пути только намечается, а
впечатления ярки и способны иметь сильное воздействие на
осуществляемые впоследствии долговременные жизненные про-
екты.
Впервые я приехал в этот город весной 1965 года на студен-
ческую конференцию — по протекции моего друга Гарика Су-
перфина, несколько раньше поступившего учиться в Тартуский
университет. Он познакомил меня с Юрием Михайловичем
Лотманом и Зарой Григорьевной Минц.
Впечатление от этой Касталии было столь сильным, что ка-
кое-то время я вполне серьёзно намеревался по окончании уни-
верситета перебраться в Тарту. Дело, однако, не^пошло дальше
довольно оживлённых обсуждений — из-за возникших сразу
же непреодолимых житейских проблем. Но в дарственных над-
писях на книгах Зары Григорьевны и Юрия Михайловича у
меня, «потенциального тартусца», сохранилась память о пер-
вом пребывании в этом «хорошем городе, где можно работать».
Второй раз я оказался здесь в следующем году, снова на кон-
ференции, но теперь уже «взрослой» — второй Летней школе
по вторичным моделирующим системам, в работе которой
участвовал Р.О.Якобсон. Именно в день его приезда, на утрен-
нем заседании, и был поставлен мой первый в жизни научный
доклад, отчего я почувствовал себя крайне неуютно. Встретив
Юрия Михайловича на прогулке, я объяснил, что, кроме корот-
кого сообщения, уже опубликованного в «Тезисах», мне, со-
бственно, нечего сказать (это было чистейшей правдой), и по-
просил исключить моё выступление из повестки дня, но сочув-
ствия не встретил. Теряя голос от ужаса и стыда, я прочитал
свой текст. Высокая аудитория отнеслась к нему благожела-
тельно, хотя, вероятно, мало что услышала (а может быть,
именно благодаря этому обстоятельству).
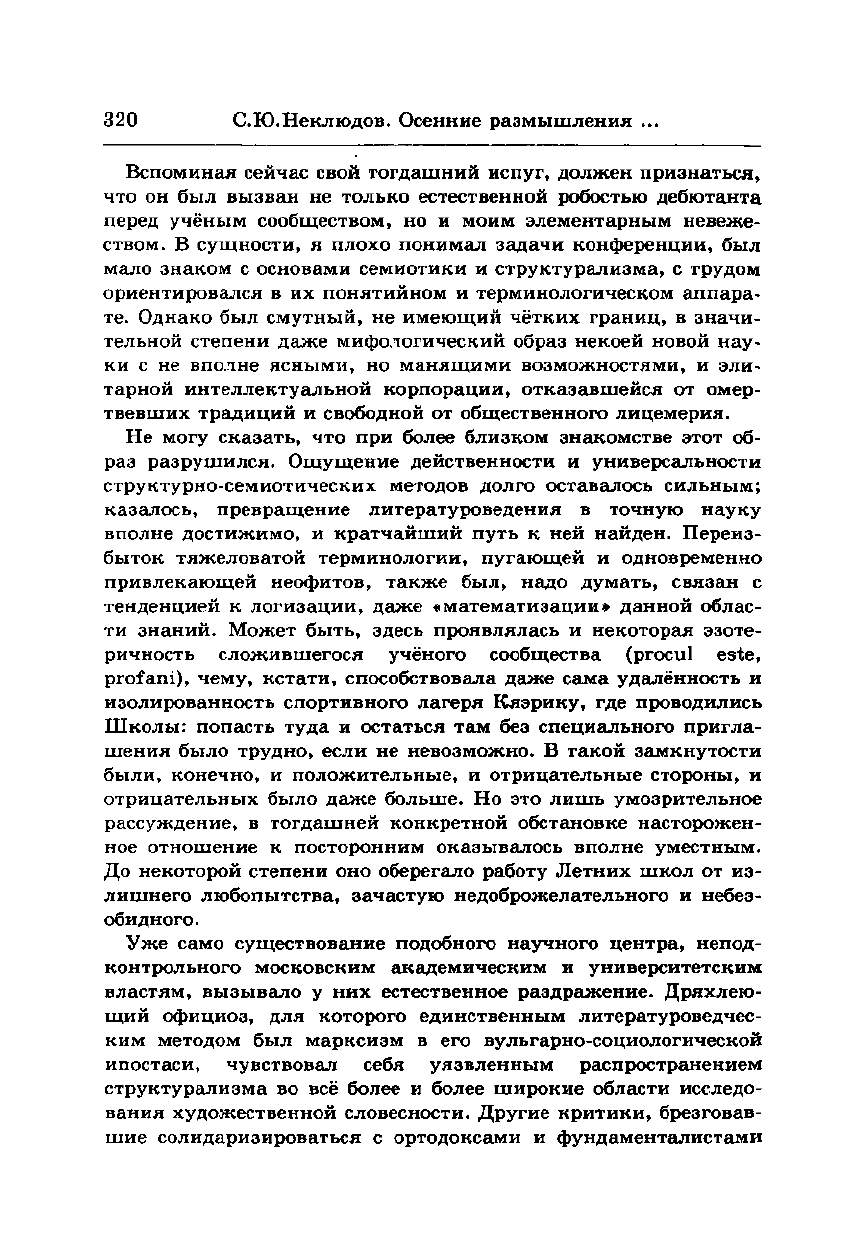
320 С.Ю.Неклюдов. Осенние размышления ...
Вспоминая сейчас свой тогдашний испуг, должен признаться,
что он был вызван не только естественной робостью дебютанта
перед учёным сообществом, но и моим элементарным невеже-
ством. В сущности, я плохо понимал задачи конференции, был
мало знаком с основами семиотики и структурализма, с трудом
ориентировался в их понятийном и терминологическом аппара-
те.
Однако был смутный, не имеющий чётких границ, в значи-
тельной степени даже мифологический образ некоей новой нау-
ки с не вполне ясными, но манящими возможностями, и эли-
тарной интеллектуальной корпорации, отказавшейся от омер-
твевших традиций и свободной от общественного лицемерия.
Не могу сказать, что при более близком знакомстве этот об-
раз разрушился. Ощущение действенности и универсальности
структурно-семиотических методов долго оставалось сильным;
казалось, превращение литературоведения в точную науку
вполне достижимо, и кратчайший путь к ней найден. Переиз-
быток тяжеловатой терминологии, пугающей и одновременно
привлекающей неофитов, также был, надо думать, связан с
тенденцией к логизации, даже «математизации» данной облас-
ти знаний. Может быть, здесь проявлялась и некоторая эзоте-
ричность сложившегося учёного сообщества (procul este,
profani), чему, кстати, способствовала даже сама удалённость и
изолированность спортивного лагеря Кяэрику, где проводились
Школы: попасть туда и остаться там без специального пригла-
шения было трудно, если не невозможно. В такой замкнутости
были, конечно, и положительные, и отрицательные стороны, и
отрицательных было даже больше. Но это лишь умозрительное
рассуждение, в тогдашней конкретной обстановке насторожен-
ное отношение к посторонним оказывалось вполне уместным.
До некоторой степени оно оберегало работу Летних школ от из-
лишнего любопытства, зачастую недоброжелательного и небез-
обидного.
Уже само существование подобного научного центра, непод-
контрольного московским академическим и университетским
властям, вызывало у них естественное раздражение. Дряхлею-
щий официоз, для которого единственным литературоведчес-
ким методом был марксизм в его вульгарно-социологической
ипостаси, чувствовал себя уязвленным распространением
структурализма во всё более и более широкие области исследо-
вания художественной словесности. Другие критики, брезговав-
шие солидаризироваться с ортодоксами и фундаменталистами
