Лотман Ю.М. Сборник работ (Ю.М. Лотман и тартусско-московская семиотическая школа)
Подождите немного. Документ загружается.

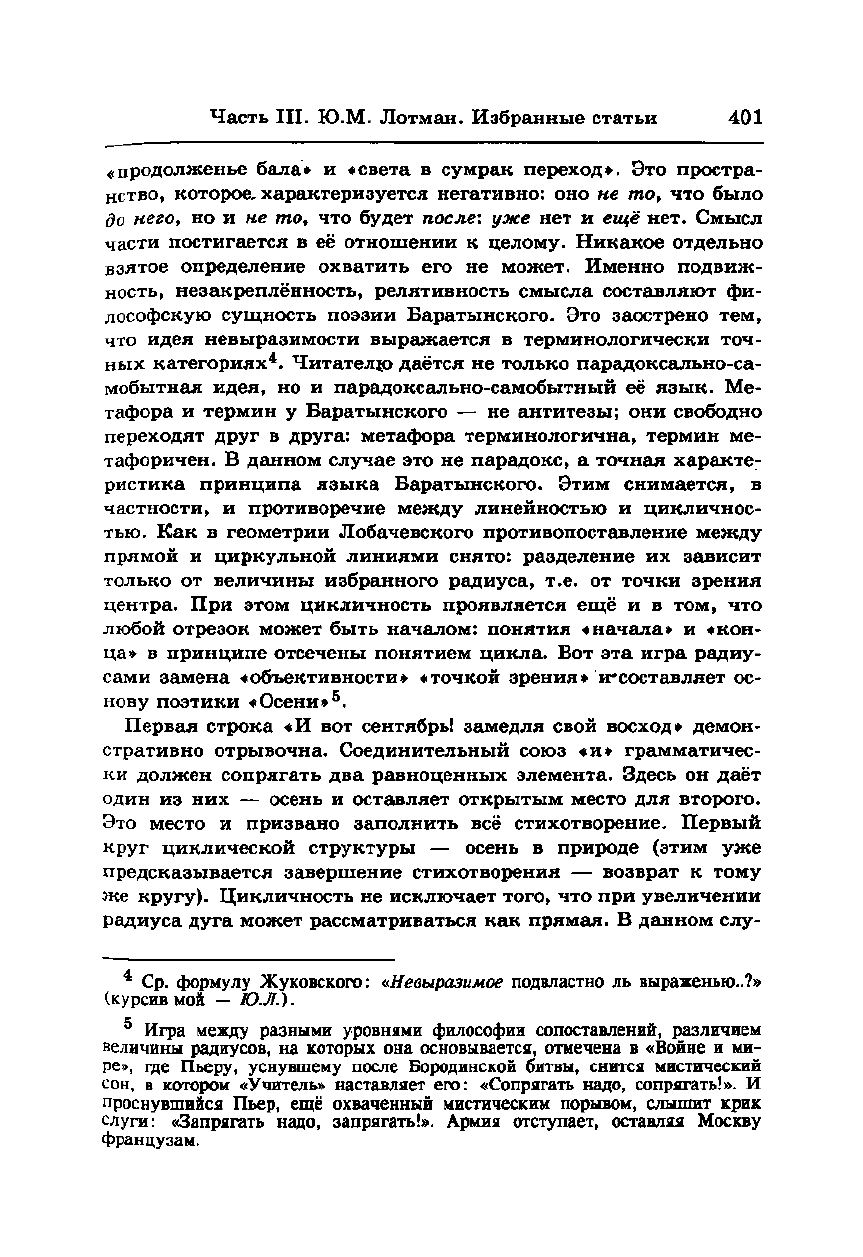
Часть III. Ю.М. Лотман. Избранные статьи 401
«продолженье бала» и «света в сумрак переход». Это простра-
нство, которое, характеризуется негативно: оно не то, что было
до него, но и не то, что будет после: уже нет и ещё нет. Смысл
части постигается в её отношении к целому. Никакое отдельно
взятое определение охватить его не может. Именно подвиж-
ность, незакреплённость, релятивность смысла составляют фи-
лософскую сущность поэзии Баратынского. Это заострено тем,
что идея невыразимости выражается в терминологически точ-
ных категориях
4
. Читателе даётся не только парадоксально-са-
мобытная идея, но и парадоксально-самобытный её язык. Ме-
тафора и термин у Баратынского — не антитезы; они свободно
переходят друг в друга: метафора терминологична, термин ме-
тафоричен. В данном случае это не парадокс, а точная характе-
ристика принципа языка Баратынского. Этим снимается, в
частности, и противоречие между линейностью и цикличнос-
тью.
Как в геометрии Лобачевского противопоставление между
прямой и циркульной линиями снято: разделение их зависит
только от величины избранного радиуса, т.е. от точки зрения
центра. При этом цикличность проявляется ещё и в том, что
любой отрезок может быть началом: понятия «начала» и «кон-
ца» в принципе отсечены понятием цикла. Вот эта игра радиу-
сами замена «объективности» «точкой зрения» и*составляет ос-
нову поэтики «Осени»
5
.
Первая строка «И вот сентябрь! замедля свой восход» демон-
стративно отрывочна. Соединительный союз «и» грамматичес-
ки должен сопрягать два равноценных элемента. Здесь он даёт
один из них — осень и оставляет открытым место для второго.
Это место и призвано заполнить всё стихотворение. Первый
круг циклической структуры — осень в природе (этим уже
предсказывается завершение стихотворения — возврат к тому
же кругу). Цикличность не исключает того, что при увеличении
радиуса дуга может рассматриваться как прямая. В данном слу-
4
Ср.
формулу Жуковского: «Невыразимое подвластно
ль
выраженью..?»
(курсив
мой —
Ю.Л.).
Игра между разными уровнями философии сопоставлений, различием
величины радиусов,
на
которых
она
основывается, отмечена
в
«Войне
и ми-
ре»,
где
Пьеру, уснувшему после Бородинской битвы, снится мистический
сон,
в
котором «Учитель» наставляет
его:
«Сопрягать надо, сопрягать!».
И
проснувшийся Пьер,
ещё
охваченный мистическим порывом, слышит крик
слуги: «Запрягать надо, запрягать!». Армия отступает, оставляя Москву
французам.
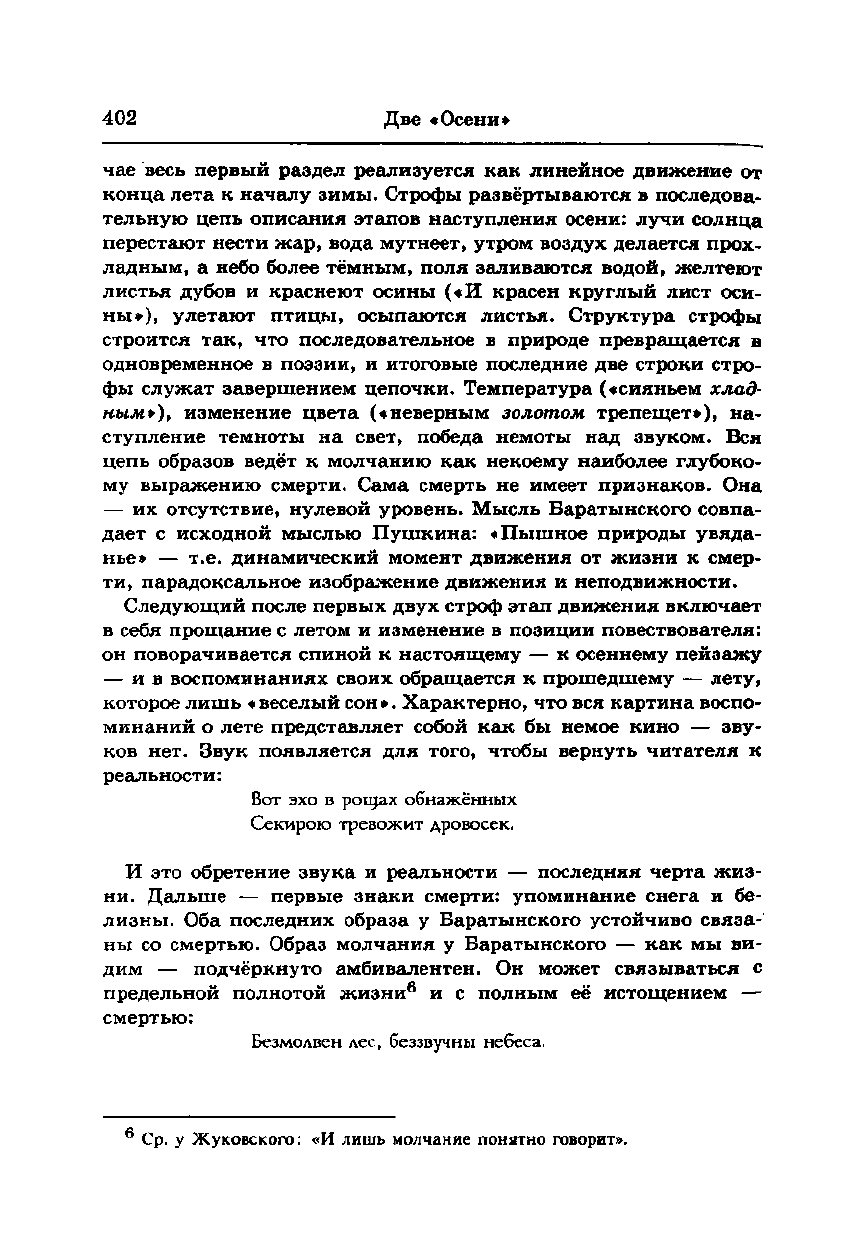
402
Две «Осени»
чае весь первый раздел реализуется как линейное движение от
конца лета к началу зимы. Строфы развёртываются в последова-
тельную цепь описания этапов наступления осени: лучи солнца
перестают нести жар, вода мутнеет, утром воздух делается прох-
ладным, а небо более тёмным, поля заливаются водой, желтеют
листья дубов и краснеют осины («И красен круглый лист оси-
ны»),
улетают птицы, осыпаются листья. Структура строфы
строится так, что последовательное в природе превращается в
одновременное в поэзии, и итоговые последние две строки стро-
фы служат завершением цепочки. Температура («сияньем хлад-
ным»),
изменение цвета («неверным золотом трепещет»), на-
ступление темноты на свет, победа немоты над звуком. Вся
цепь образов ведёт к молчанию как некоему наиболее глубоко-
му выражению смерти. Сама смерть не имеет признаков. Она
— их отсутствие, нулевой уровень. Мысль Баратынского совпа-
дает с исходной мыслью Пушкина: «Пышное природы увяда-
нье» — т.е. динамический момент движения от жизни к смер-
ти,
парадоксальное изображение движения и неподвижности.
Следующий после первых двух строф этап движения включает
в себя прощание с летом и изменение в позиции повествователя:
он поворачивается спиной к настоящему — к осеннему пейзажу
— ив воспоминаниях своих обращается к прошедшему — лету,
которое лишь «веселый сон». Характерно, что вся картина воспо-
минаний о лете представляет собой как бы немое кино — зву-
ков нет. Звук появляется для того, чтобы вернуть читателя к
реальности:
Вот эхо в рощах обнажённых
Секирою тревожит дровосек.
И это обретение звука и реальности — последняя черта жиз-
ни.
Дальше — первые знаки смерти: упоминание снега и бе-
лизны. Оба последних образа у Баратынского устойчиво связа-
ны со смертью. Образ молчания у Баратынского — как мы ви-
дим — подчёркнуто амбивалентен. Он может связываться с
предельной полнотой жизни
6
и с полным её истощением —
смертью:
Безмолвен лес, беззвучны небеса.
Ср.
у Жуковского: «И лишь молчание понятно говорит».
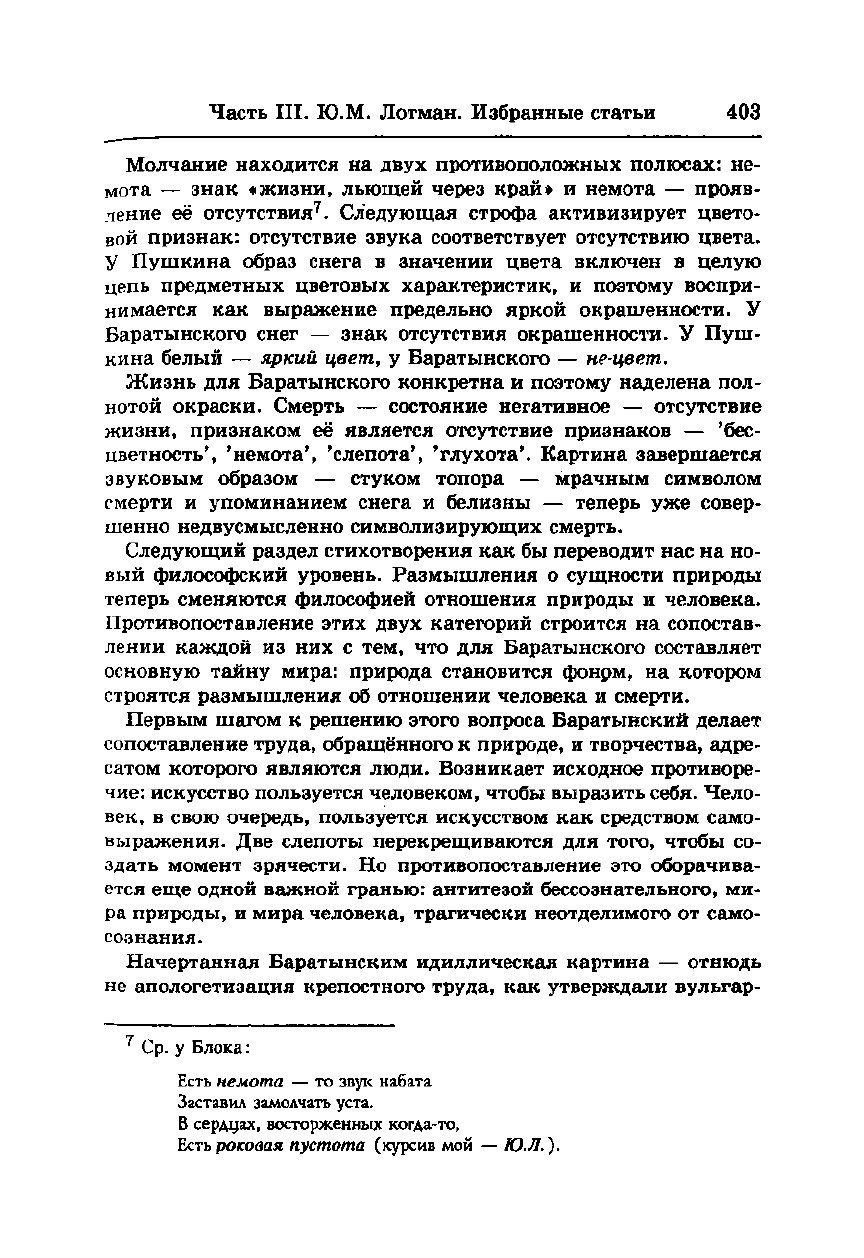
Часть III. Ю.М. Лотман. Избранные статьи 403
Молчание находится на двух противоположных полюсах: не-
мота — знак «жизни, льющей через край» и немота — прояв-
ление её отсутствия
7
. Следующая строфа активизирует цвето-
вой признак: отсутствие звука соответствует отсутствию цвета.
У Пушкина образ снега в значении цвета включен в целую
цепь предметных цветовых характеристик, и поэтому воспри-
нимается как выражение предельно яркой окрашенности. У
Баратынского снег — знак отсутствия окрашенности. У Пуш-
кина белый — яркий цвет
у
у Баратынского — не-цвет.
Жизнь для Баратынского конкретна и поэтому наделена пол-
нотой окраски. Смерть — состояние негативное — отсутствие
жизни, признаком её является отсутствие признаков — 'бес-
цветность', 'немота', 'слепота', 'глухота'. Картина завершается
звуковым образом — стуком топора — мрачным символом
смерти и упоминанием снега и белизны — теперь уже совер-
шенно недвусмысленно символизирующих смерть.
Следующий раздел стихотворения как бы переводит нас на но-
вый философский уровень. Размышления о сущности природы
теперь сменяются философией отношения природы и человека.
Противопоставление этих двух категорий строится на сопостав-
лении каждой из них с тем, что для Баратынского составляет
основную тайну мира: природа становится фонрм, на котором
строятся размышления об отношении человека и смерти.
Первым шагом к решению этого вопроса Баратынский делает
сопоставление труда, обращенного к природе, и творчества, адре-
сатом которого являются люди. Возникает исходное противоре-
чие: искусство пользуется человеком, чтобы выразить себя. Чело-
век, в свою очередь, пользуется искусством как средством само-
выражения. Две слепоты перекрещиваются для того, чтобы со-
здать момент зрячести. Но противопоставление это оборачива-
ется еще одной важной гранью: антитезой бессознательного, ми-
ра природы, и мира человека, трагически неотделимого от само-
сознания.
Начертанная Баратынским идиллическая картина — отнюдь
не апологетизация крепостного труда, как утверждали вульгар-
Ср.
у Блока:
Есть немота — то звук набата
Заставил замолчать уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота (курсив мой —
Ю.Л.).
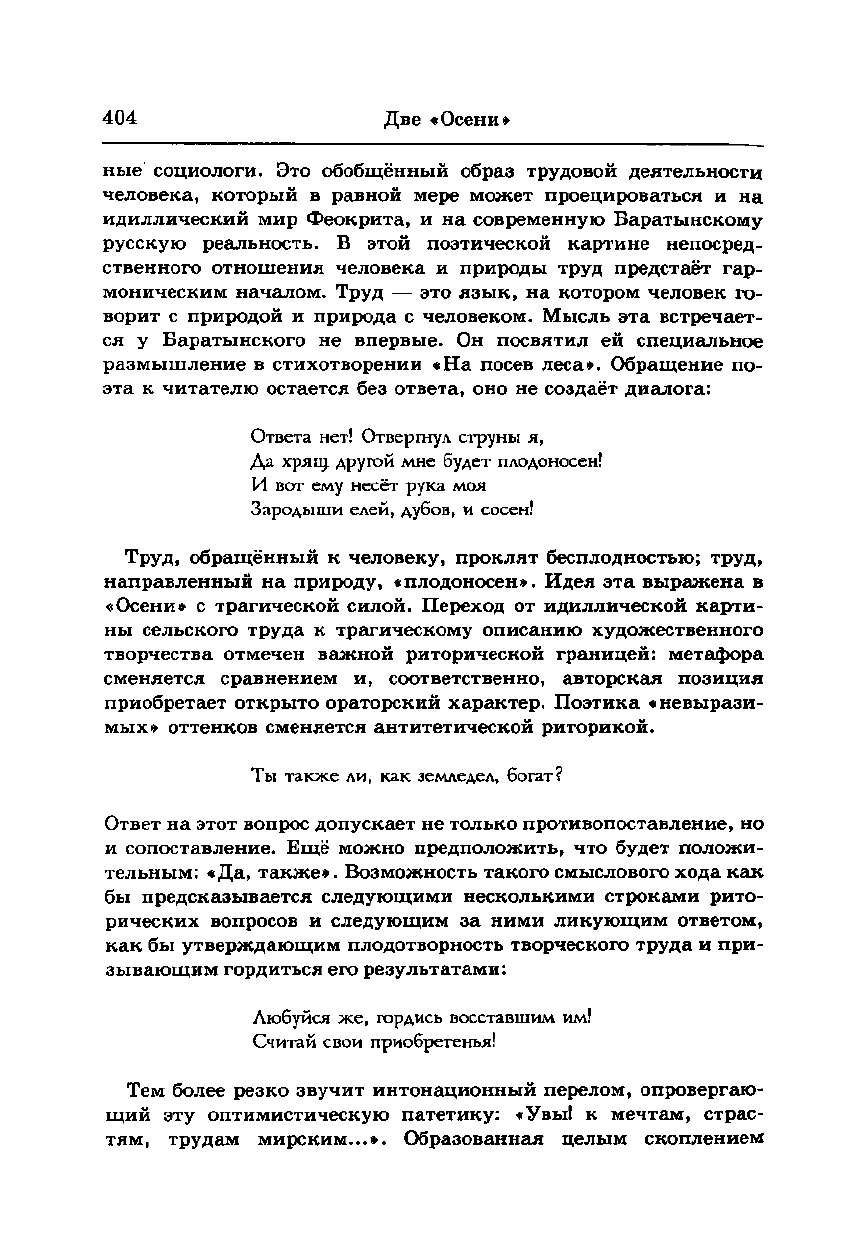
404
Две «Осени»
ные социологи. Это обобщённый образ трудовой деятельности
человека, который в равной мере может проецироваться и на
идиллический мир Феокрита, и на современную Баратынскому
русскую реальность. В этой поэтической картине непосред-
ственного отношения человека и природы труд предстаёт гар-
моническим началом. Труд — это язык, на котором человек го-
ворит с природой и природа с человеком. Мысль эта встречает-
ся у Баратынского не впервые. Он посвятил ей специальное
размышление в стихотворении «На посев леса». Обращение по-
эта к читателю остается без ответа, оно не создаёт диалога:
Ответа нет! Отвергнул струны я,
Да хрящ другой мне будет плодоносен!
И вот ему несёт рука моя
Зародыши елей, дубов, и сосен!
Труд, обращенный к человеку, проклят бесплодностью; труд,
направленный на природу, «плодоносен». Идея эта выражена в
«Осени» с трагической силой. Переход от идиллической карти-
ны сельского труда к трагическому описанию художественного
творчества отмечен важной риторической границей: метафора
сменяется сравнением и, соответственно, авторская позиция
приобретает открыто ораторский характер. Поэтика «невырази-
мых» оттенков сменяется антитетической риторикой.
Ты также ли, как земледел, богат?
Ответ на этот вопрос допускает не только противопоставление, но
и сопоставление. Ещё можно предположить, что будет положи-
тельным: «Да, также». Возможность такого смыслового хода как
бы предсказывается следующими несколькими строками рито-
рических вопросов и следующим за ними ликующим ответом,
как бы утверждающим плодотворность творческого труда и при-
зывающим гордиться его результатами:
Любуйся же, гордись восставшим им!
Считай свои приобретенья!
Тем более резко звучит интонационный перелом, опровергаю-
щий эту оптимистическую патетику: «Увы! к мечтам, страс-
тям, трудам мирским...». Образованная целым скоплением
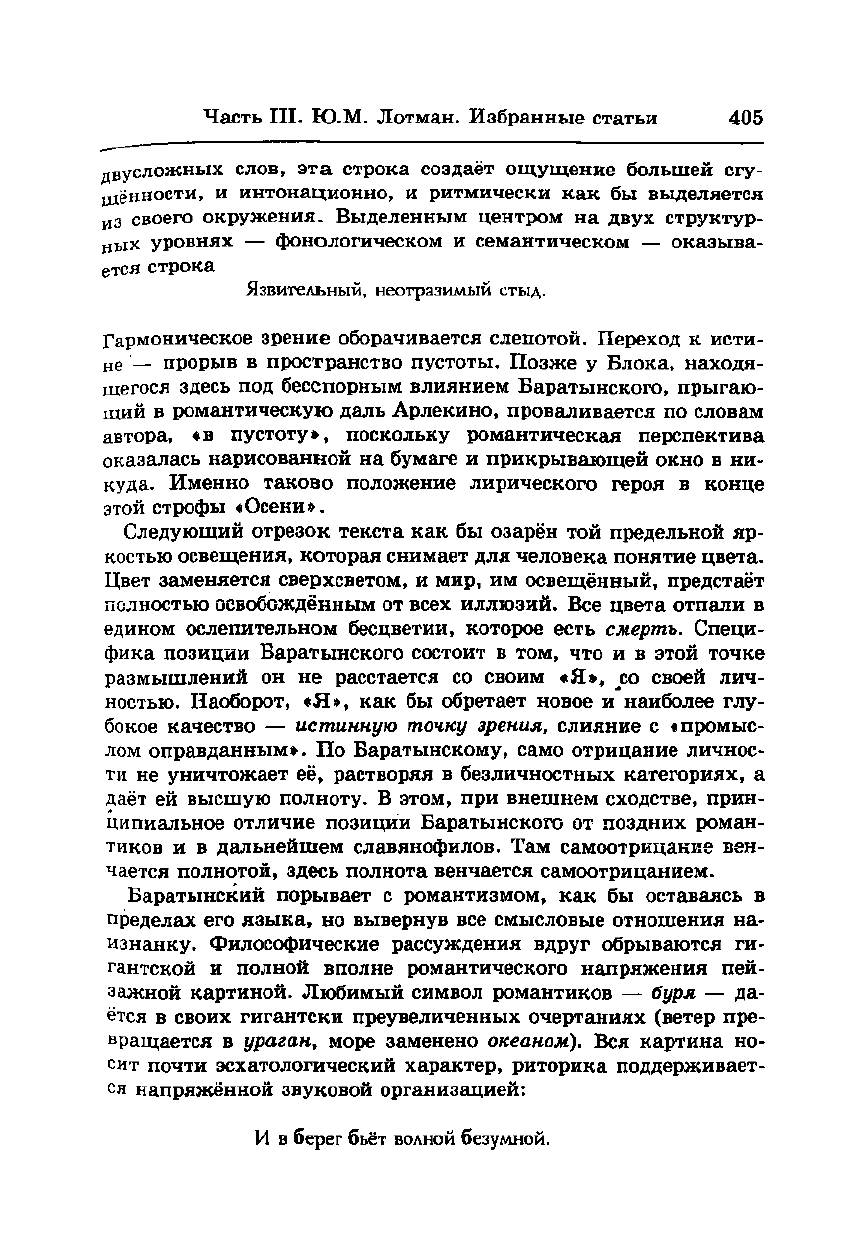
Часть III. Ю.М. Лотман. Избранные статьи 405
двусложных слов, эта строка создаёт ощущение большей сгу-
щённости, и интонадионно, и ритмически как бы выделяется
и
з своего окружения- Выделенным центром на двух структур-
ных уровнях — фонологическом и семантическом — оказыва-
ется строка
Язвительный, неотразимый стыд.
Гармоническое зрение оборачивается слепотой. Переход к исти-
не '— прорыв в пространство пустоты. Позже у Блока, находя-
щегося здесь под бесспорным влиянием Баратынского, прыгаю-
щий в романтическую даль Арлекино, проваливается по словам
автора, «в пустоту», поскольку романтическая перспектива
оказалась нарисованной на бумаге и прикрывающей окно в ни-
куда. Именно таково положение лирического героя в конце
этой строфы «Осени».
Следующий отрезок текста как бы озарён той предельной яр-
костью освещения, которая снимает для человека понятие цвета.
Цвет заменяется сверхсветом, и мир, им освещенный, предстаёт
полностью освобождённым от всех иллюзий. Все цвета отпали в
едином ослепительном бесцветии, которое есть смерть. Специ-
фика позиции Баратынского состоит в том, что и в этой точке
размышлений он не расстается со своим «Я», jco своей лич-
ностью. Наоборот, «Я», как бы обретает новое и наиболее глу-
бокое качество — истинную точку зрения, слияние с «промыс-
лом оправданным». По Баратынскому, само отрицание личнос-
ти не уничтожает её, растворяя в безличностных категориях, а
даёт ей высшую полноту. В этом, при внешнем сходстве, прин-
ципиальное отличие позиции Баратынского от поздних роман-
тиков и в дальнейшем славянофилов. Там самоотрицание вен-
чается полнотой, здесь полнота венчается самоотрицанием.
Баратынский порывает с романтизмом, как бы оставаясь в
пределах его языка, но вывернув все смысловые отношения на-
изнанку. Философические рассуждения вдруг обрываются ги-
гантской и полной вполне романтического напряжения пей-
зажной картиной. Любимый символ романтиков — буря — да-
ётся в своих гигантски преувеличенных очертаниях (ветер пре-
вращается в ураган, море заменено океаном). Вся картина но-
сит почти эсхатологический характер, риторика поддерживает-
ся напряжённой звуковой организацией:
И в берег бьёт волной безумной.
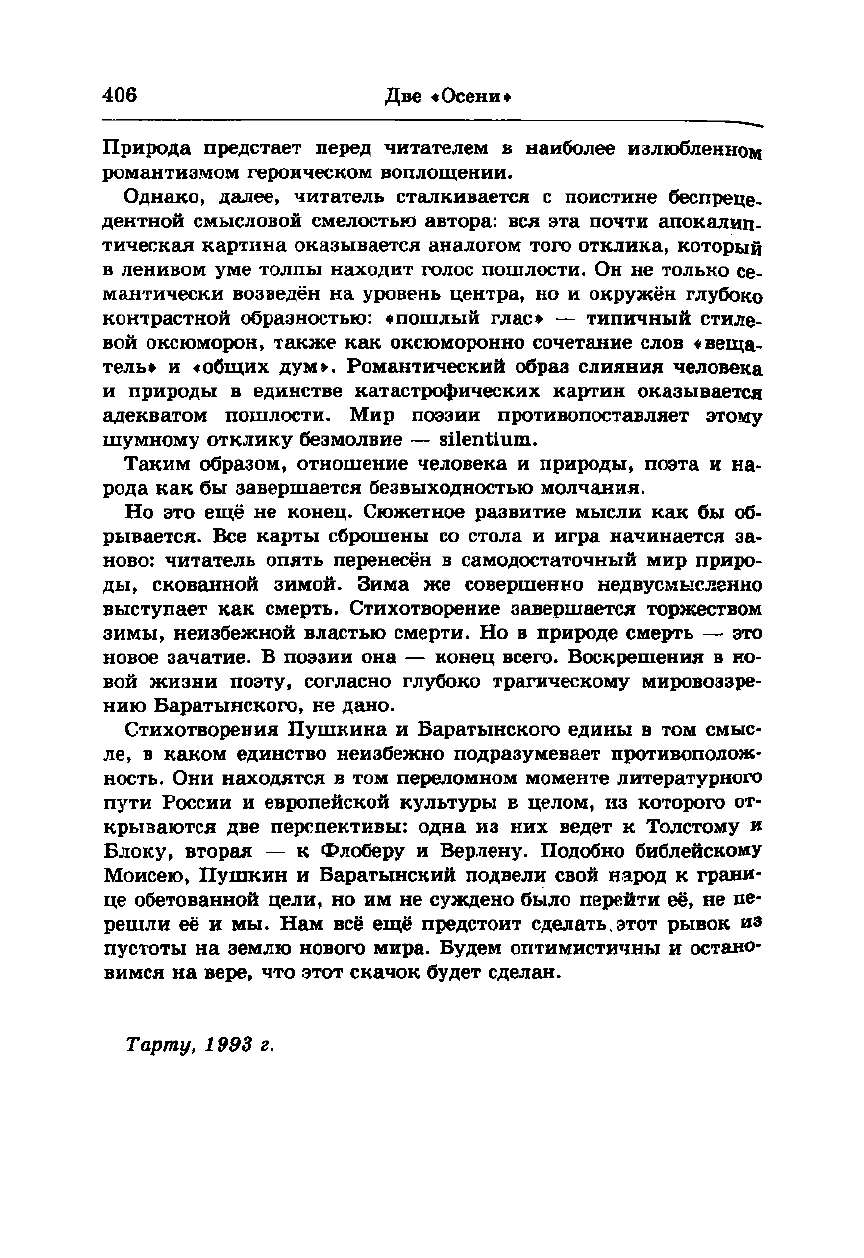
406
Две «Осени*
Природа предстает перед читателем в наиболее излюбленном
романтизмом героическом воплощении.
Однако, далее, читатель сталкивается с поистине беспреце-
дентной смысловой смелостью автора: вся эта почти апокалип-
тическая картина оказывается аналогом того отклика, который
в ленивом уме толпы находит голос пошлости. Он не только се-
мантически возведён на уровень центра, но и окружён глубоко
контрастной образностью: «пошлый глас» — типичный стиле-
вой оксюморон, также как оксюморонно сочетание слов «веща-
тель» и «общих дум». Романтический образ слияния человека
и природы в единстве катастрофических картин оказывается
адекватом пошлости. Мир поэзии противопоставляет этому
шумному отклику безмолвие — silentium.
Таким образом, отношение человека и природы, поэта и на-
рода как бы завершается безвыходностью молчания.
Но это ещё не конец. Сюжетное развитие мысли как бы об-
рывается. Все карты сброшены со стола и игра начинается за-
ново:
читатель опять перенесён в самодостаточный мир приро-
ды,
сковалной зимой. Зима же совершенно недвусмысленно
выступает как смерть. Стихотворение завершается торжеством
зимы, неизбежной властью смерти. Но в природе смерть — это
новое зачатие. В поэзии она — конец всего. Воскрешения в но-
вой жизни поэту, согласно глубоко трагическому мировоззре-
нию Баратынского, не дано.
Стихотворения Пушкина и Баратынского едины в том смыс-
ле,
в каком единство неизбежно подразумевает противополож-
ность. Они находятся в том переломном моменте литературного
пути России и европейской культуры в целом, из которого от-
крываются две перспективы: одна из них ведет к Толстому и
Блоку, вторая — к Флоберу и Вер лену. Подобно библейскому
Моисею, Пушкин и Баратынский подвели свой народ к грани-
це обетованной цели, но им не суждено было перейти её, не пе-
решли её и мы. Нам всё ещё предстоит сделать.этот рывок из
пустоты на землю нового мира. Будем оптимистичны и остано-
вимся на вере, что этот скачок будет сделан.
Тарту, 1993 г.
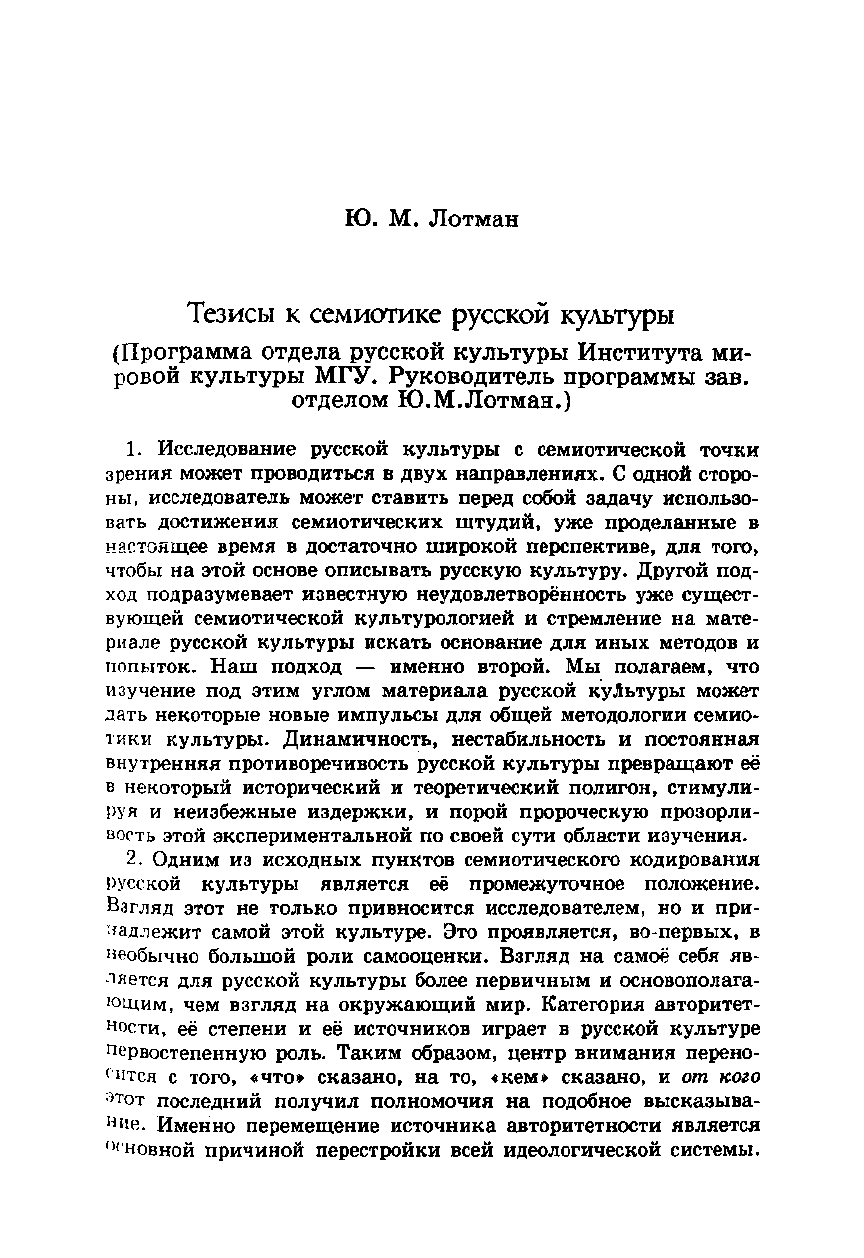
Ю.
М. Лотман
Тезисы к семиотике русской культуры
(Программа отдела русской культуры Института ми-
ровой культуры МГУ. Руководитель программы зав.
отделом Ю.М.Лотман.)
1.
Исследование русской культуры с семиотической точки
зрения может проводиться в двух направлениях. С одной сторо-
ны,
исследователь может ставить перед собой задачу использо-
вать достижения семиотических штудий, уже проделанные в
настоящее время в достаточно широкой перспективе, для того,
чтобы на этой основе описывать русскую культуру. Другой под-
ход подразумевает известную неудовлетворённость уже сущест-
вующей семиотической культурологией и стремление на мате-
риале русской культуры искать основание для иных методов и
попыток. Наш подход — именно второй. Мы полагаем, что
изучение под этим углом материала русской куЛьтуры может
дать некоторые новые импульсы для общей методологии семио-
тики культуры. Динамичность, нестабильность и постоянная
внутренняя противоречивость русской культуры превращают её
в некоторый исторический и теоретический полигон, стимули-
руя и неизбежные издержки, и порой пророческую прозорли-
вость этой экспериментальной по своей сути области изучения.
2.
Одним из исходных пунктов семиотического кодирования
Русской культуры является её промежуточное положение.
Взгляд этот не только привносится исследователем, но и при-
надлежит самой этой культуре. Это проявляется, во-первых, в
необычно большой роли самооценки. Взгляд на самоё себя яв-
ляется для русской культуры более первичным и основополага-
ющим, чем взгляд на окружающий мир. Категория авторитет-
ности, её степени и её источников играет в русской культуре
первостепенную роль. Таким образом, центр внимания перено-
сится с того, «что» сказано, на то, «кем» сказано, и от кого
Эт
от последний получил полномочия на подобное высказыва-
ние.
Именно перемещение источника авторитетности является
основной причиной перестройки всей идеологической системы.
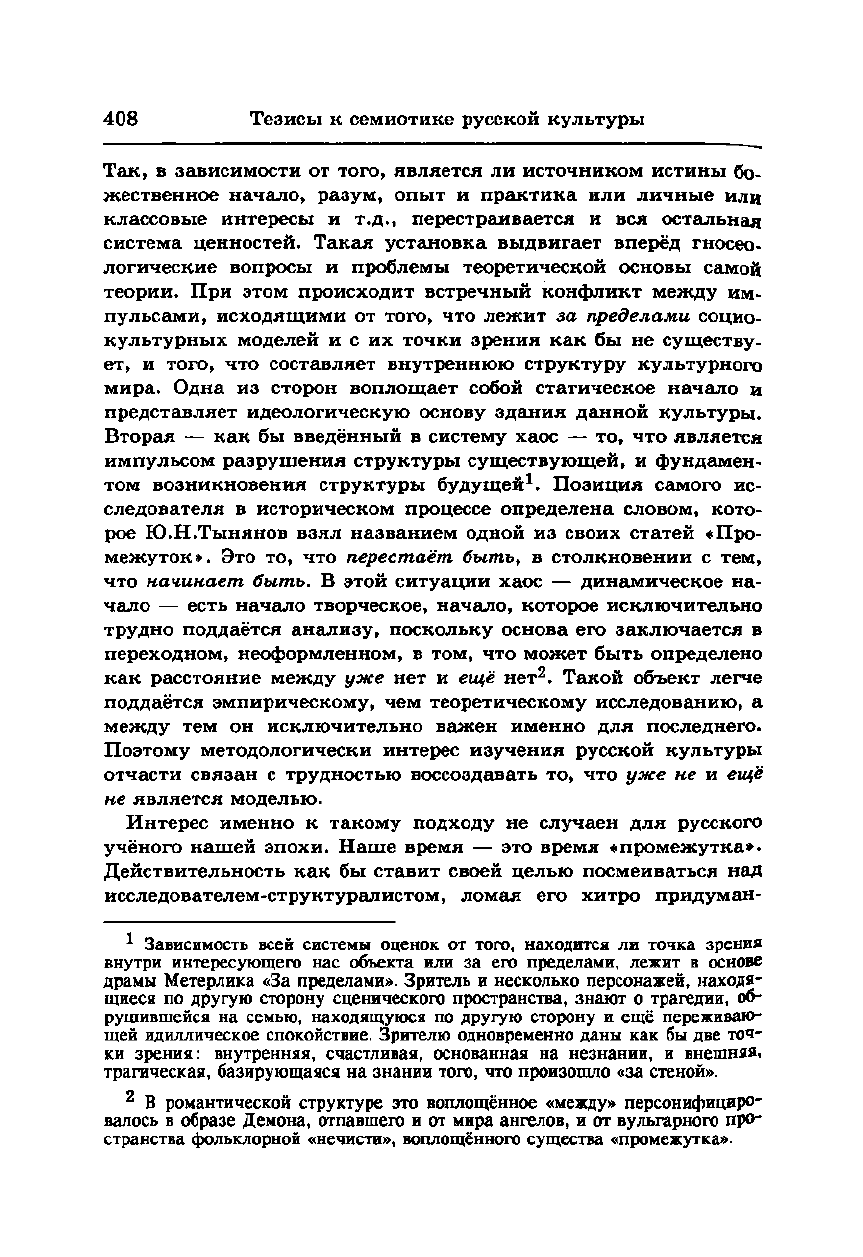
408
Тезисы к семиотике русской культуры
Так, в зависимости от того, является ли источником истины бо-
жественное начало, разум, опыт и практика или личные или
классовые интересы и т.д., перестраивается и вся остальная
система ценностей. Такая установка выдвигает вперёд гносео-
логические вопросы и проблемы теоретической основы самой
теории. При этом происходит встречный конфликт между им-
пульсами, исходящими от того, что лежит за пределами социо-
культурных моделей и с их точки зрения как бы не существу-
ет, и того, что составляет внутреннюю структуру культурного
мира. Одна из сторон воплощает собой статическое начало и
представляет идеологическую основу здания данной культуры.
Вторая — как бы введённый в систему хаос — то, что является
импульсом разрушения структуры существующей, и фундамен-
том возникновения структуры будущей
1
. Позиция самого ис-
следователя в историческом процессе определена словом, кото-
рое Ю.Н.Тынянов взял названием одной из своих статей «Про-
межуток». Это то, что перестаёт быть, в столкновении с тем,
что начинает быть. В этой ситуации хаос — динамическое на-
чало — есть начало творческое, начало, которое исключительно
трудно поддаётся анализу, поскольку основа его заключается в
переходном, неоформленном, в том, что может быть определено
как расстояние между уже нет и ещё нет
2
. Такой объект легче
поддаётся эмпирическому, чем теоретическому исследованию, а
между тем он исключительно важен именно для последнего.
Поэтому методологически интерес изучения русской культуры
отчасти связан с трудностью воссоздавать то, что уже не и ещё
не является моделью.
Интерес именно к такому подходу не случаен для русского
учёного нашей эпохи. Наше время — это время «промежутка».
Действительность как бы ставит своей целью посмеиваться над
исследователем-структуралистом, ломая его хитро придуман -
1
Зависимость всей системы оценок от того, находится ли точка зрения
внутри интересующего нас объекта или за его пределами, лежит в основе
драмы Метерлика «За пределами». Зритель и несколько персонажей, находя-
щиеся по другую сторону сценического пространства, знают о трагедии, об-
рушившейся на семью, находящуюся по другую сторону и ещё переживаю-
щей идиллическое спокойствие. Зрителю одновременно даны как бы две точ-
ки зрения: внутренняя, счастливая, основанная на незнании, и внешняя,
трагическая, базирующаяся на знании того, что произошло «за стеной».
2
В романтической структуре это воплощённое «между» персонифициро-
валось в образе Демона, отпавшего и от мира ангелов, и от вульгарного про-
странства фольклорной «нечисти», воплощённого существа «промежутка».
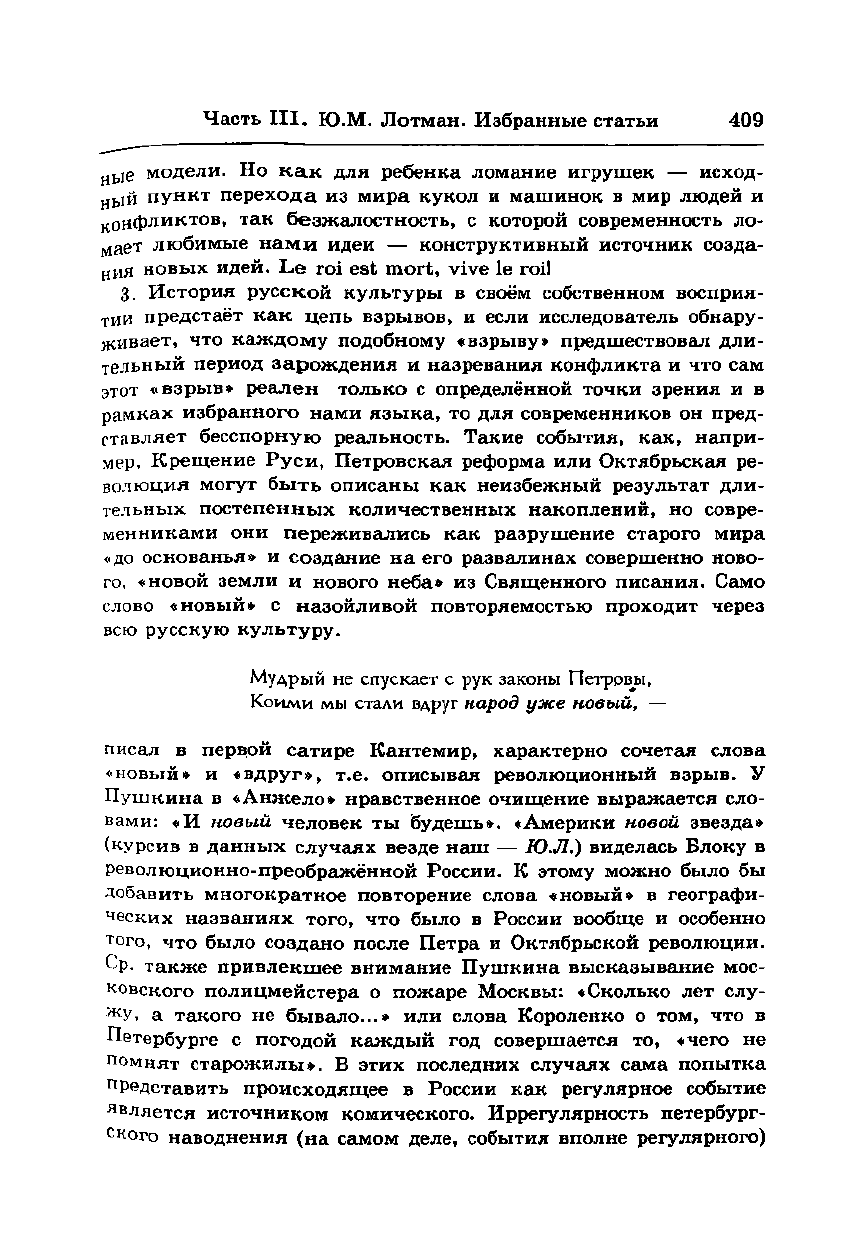
Часть III. Ю.М. Лотман. Избранные статьи 409
н
ые модели. Но как для ребенка ломание игрушек — исход-
ный пункт перехода из мира кукол и машинок в мир людей и
конфликтов, так безжалостность, с которой современность ло-
ма
ет любимые нами идеи — конструктивный источник созда-
ния новых идей. Le roi est mort, vive le roil
3.
История русской культуры в своём собственном восприя-
тии предстаёт как цепь взрывов, и если исследователь обнару-
живает, что каждому подобному «взрыву» предшествовал дли-
тельный период зарождения и назревания конфликта и что сам
этот «взрыв» реален только с определённой точки зрения и в
рамках избранного нами языка, то для современников он пред-
ставляет бесспорную реальность. Такие события, как, напри-
мер,
Крещение Руси, Петровская реформа или Октябрьская ре-
волюция могут быть описаны как неизбежный результат дли-
тельных постепенных количественных накоплений, но совре-
менниками они переживались как разрушение старого мира
«до основанья» и создание на его развалинах совершенно ново-
го,
«новой земли и нового неба» из Священного писания. Само
слово «новый» с назойливой повторяемостью проходит через
всю русскую культуру.
Мудрый не спускает с рук законы Петровы,
Коими мы стали вдруг народ уже новый, —
писал в первой сатире Кантемир, характерно сочетая слова
«новый» и «вдруг», т.е. описывая революционный взрыв. У
Пушкина в «Анжело» нравственное очищение выражается сло-
вами: «И новый человек ты будешь». «Америки новой звезда»
(курсив в данных случаях везде наш — Ю.Л.) виделась Блоку в
революционно-преображённой России. К этому можно было бы
добавить многократное повторение слова «новый» в географи-
ческих названиях того, что было в России вообще и особенно
того,
что было создано после Петра и Октябрьской революции.
Ср.
также привлекшее внимание Пушкина высказывание мос-
ковского полицмейстера о пожаре Москвы: «Сколько лет слу-
^У,
а такого не бывало...» или слова Короленко о том, что в
Петербурге с погодой каждый год совершается то, «чего не
помнят старожилы». В этих последних случаях сама попытка
представить происходящее в России как регулярное событие
является источником комического. Иррегулярность петербург-
ского наводнения (на самом деле, события вполне регулярного)
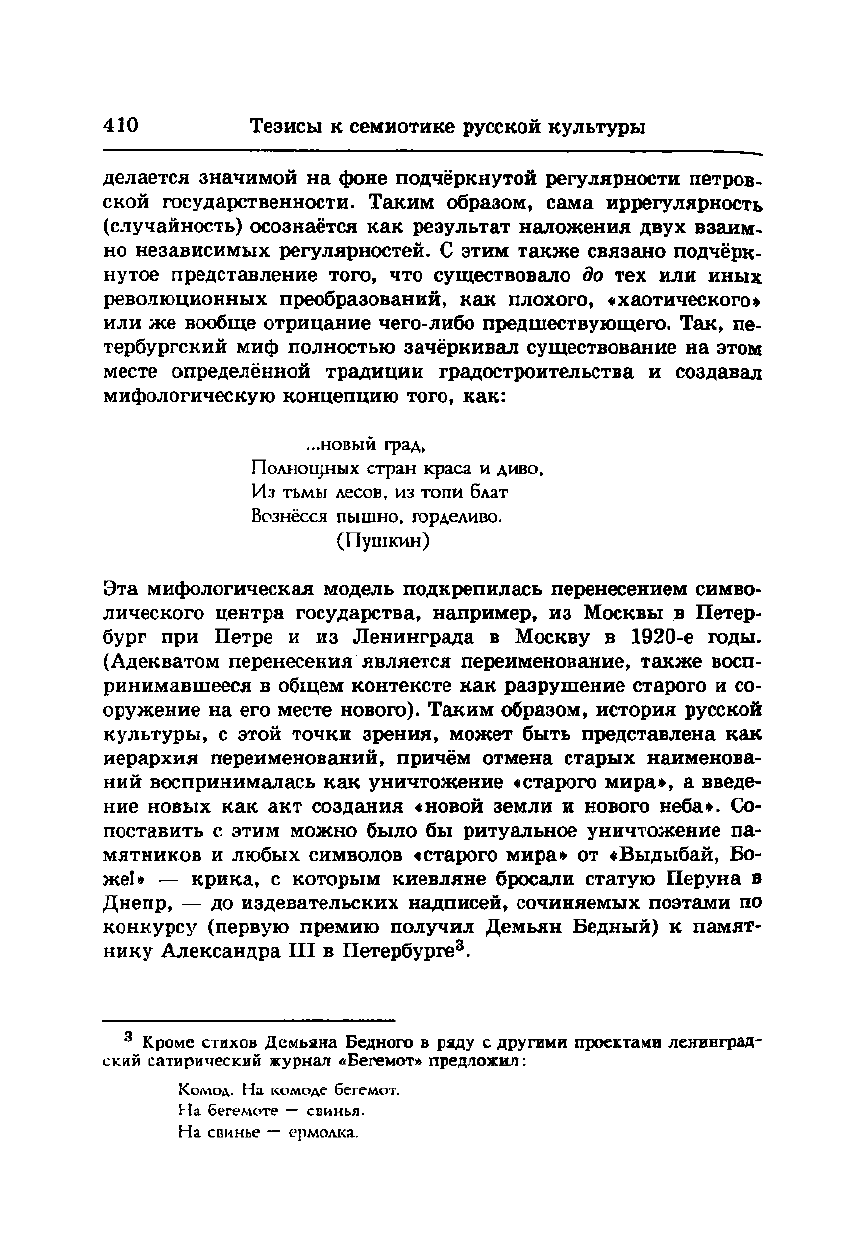
410 Тезисы к семиотике русской культуры
делается значимой на фоне подчёркнутой регулярности петров-
ской государственности. Таким образом, сама иррегулярность
(случайность) осознаётся как результат наложения двух взаим-
но независимых регулярностей. С этим также связано подчёрк-
нутое представление того, что существовало до тех или иных
революционных преобразований, как плохого, «хаотического»
или же вообще отрицание чего-либо предшествующего. Так, пе-
тербургский миф полностью зачёркивал существование на этом
месте определённой традиции градостроительства и создавал
мифологическую концепцию того, как:
...новый град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознёсся пышно, горделиво.
(Пушкин)
Эта мифологическая модель подкрепилась перенесением симво-
лического центра государства, например, из Москвы в Петер-
бург при Петре и из Ленинграда в Москву в 1920-е годы.
(Адекватом перенесения является переименование, также восп-
ринимавшееся в общем контексте как разрушение старого и со-
оружение на его месте нового). Таким образом, история русской
культуры, с этой точки зрения, может быть представлена как
иерархия переименований, причём отмена старых наименова-
ний воспринималась как уничтожение «старого мира», а введе-
ние новых как акт создания «новой земли и нового неба». Со-
поставить с этим можно было бы ритуальное уничтожение па-
мятников и любых символов «старого мира» от «Выдыбай, Бо-
же!» — крика, с которым киевляне бросали статую Перуна в
Днепр, — до издевательских надписей, сочиняемых поэтами по
конкурсу (первую премию получил Демьян Бедный) к памят-
нику Александра III в Петербурге
3
.
6
Кроме стихов Демьяна Бедного в ряду с другими проектами ленинград-
ский сатирический журнал «Бегемот» предложил:
Комод. На комоде бегемот.
На бегемоте
—
свинья.
На свинье
—
ермолка.
