Лотман Ю.М. Сборник работ (Ю.М. Лотман и тартусско-московская семиотическая школа)
Подождите немного. Документ загружается.

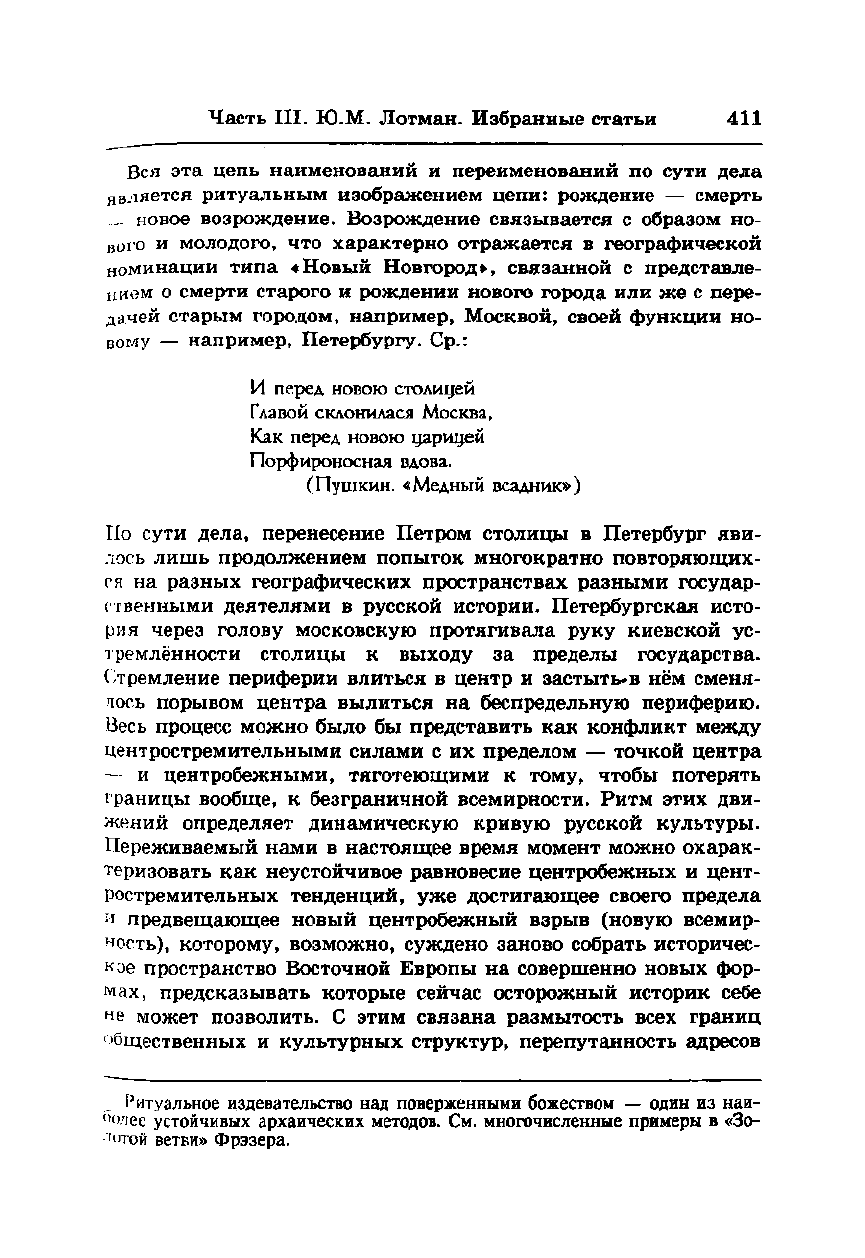
Часть III. Ю.М. Лотман. Избранные статьи 411
Вся эта цепь наименований и переименований по сути дела
является ритуальным изображением цепи: рождение — смерть
„- новое возрождение. Возрождение связывается с образом но-
вого и молодого, что характерно отражается в географической
номинации типа «Новый Новгород», связанной с представле-
нием о смерти старого и рождении нового города или же с пере-
дачей старым городом, например, Москвой, своей функции но-
вому — например, Петербургу. Ср.:
И перед новою столицей
Главой склонилася Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.
(Пушкин. «Медный всадник»)
По сути дела, перенесение Петром столицы в Петербург яви-
лось лишь продолжением попыток многократно повторяющих-
ся на разных географических пространствах разными государ-
ственными деятелями в русской истории. Петербургская исто-
рия через голову московскую протягивала руку киевской ус-
тремлённости столицы к выходу за пределы государства.
Стремление периферии влиться в центр и застыть-в нём сменя-
лось порывом центра вылиться на беспредельную периферию.
Весь процесс можно было бы представить как конфликт между
центростремительными силами с их пределом — точкой центра
— и центробежными, тяготеющими к тому, чтобы потерять
границы вообще, к безграничной всемирности. Ритм этих дви-
жений определяет динамическую кривую русской культуры.
Переживаемый нами в настоящее время момент можно охарак-
теризовать как неустойчивое равновесие центробежных и цент-
ростремительных тенденций, уже достигающее своего предела
и предвещающее новый центробежный взрыв (новую всемир-
ность),
которому, возможно, суждено заново собрать историчес-
кое пространство Восточной Европы на совершенно новых фор-
мах, предсказывать которые сейчас осторожный историк себе
не может позволить. С этим связана размытость всех границ
общественных и культурных структур, перепутанность адресов
Ритуальное издевательство над поверженными божеством
—
один из наи-
более устойчивых архаических методов. См. многочисленные примеры в «Зо-
лотой ветви» Фрэзера.
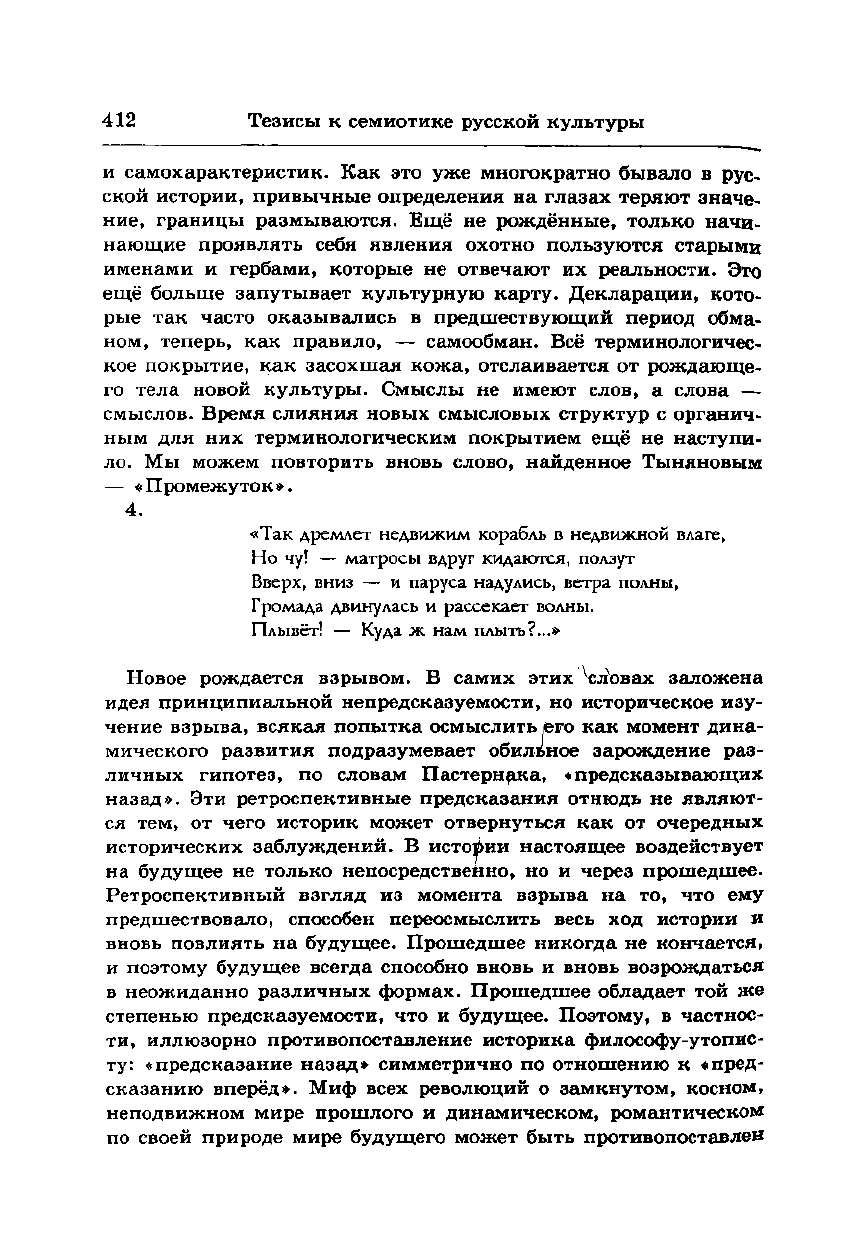
412 Тезисы к семиотике русской культуры
и самохарактеристик. Как это уже многократно бывало в рус-
ской истории, привычные определения на глазах теряют значе-
ние,
границы размываются. Ещё не рождённые, только начи-
нающие проявлять себя явления охотно пользуются старыми
именами и гербами, которые не отвечают их реальности. Это
ещё больше запутывает культурную карту. Декларации, кото-
рые так часто оказывались в предшествующий период обма-
ном, теперь, как правило, — самообман. Всё терминологичес-
кое покрытие, как засохшая кожа, отслаивается от рождающе-
го тела новой культуры. Смыслы не имеют слов, а слова —
смыслов. Время слияния новых смысловых структур с органич-
ным для них терминологическим покрытием ещё не наступи-
ло.
Мы можем повторить вновь слово, найденное Тыняновым
— «Промежуток».
4.
«Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны,
Громада двинулась и рассекает волны.
Плывёт! — Куда ж нам плыть?...»
Новое рождается взрывом. В самих этих Woeax заложена
идея принципиальной непредсказуемости, но историческое изу-
чение взрыва, всякая попытка осмыслить
/его
как момент дина-
мического развития подразумевает обильное зарождение раз-
личных гипотез, по словам Пастернака, «предсказывающих
назад». Эти ретроспективные предсказания отнюдь не являют-
ся тем, от чего историк может отвернуться как от очередных
исторических заблуждений. В истории настоящее воздействует
на будущее не только непосредственно, но и через прошедшее.
Ретроспективный взгляд из момента взрыва на то, что ему
предшествовало, способен переосмыслить весь ход истории и
вновь повлиять на будущее. Прошедшее никогда не кончается,
и поэтому будущее всегда способно вновь и вновь возрождаться
в неожиданно различных формах. Прошедшее обладает той же
степенью предсказуемости, что и будущее. Поэтому, в частнос-
ти,
иллюзорно противопоставление историка философу-утопис-
ту: «предсказание назад» симметрично по отношению к «пред-
сказанию вперёд». Миф всех революций о замкнутом, косном,
неподвижном мире прошлого и динамическом, романтическом
по своей природе мире будущего может быть противопоставлен
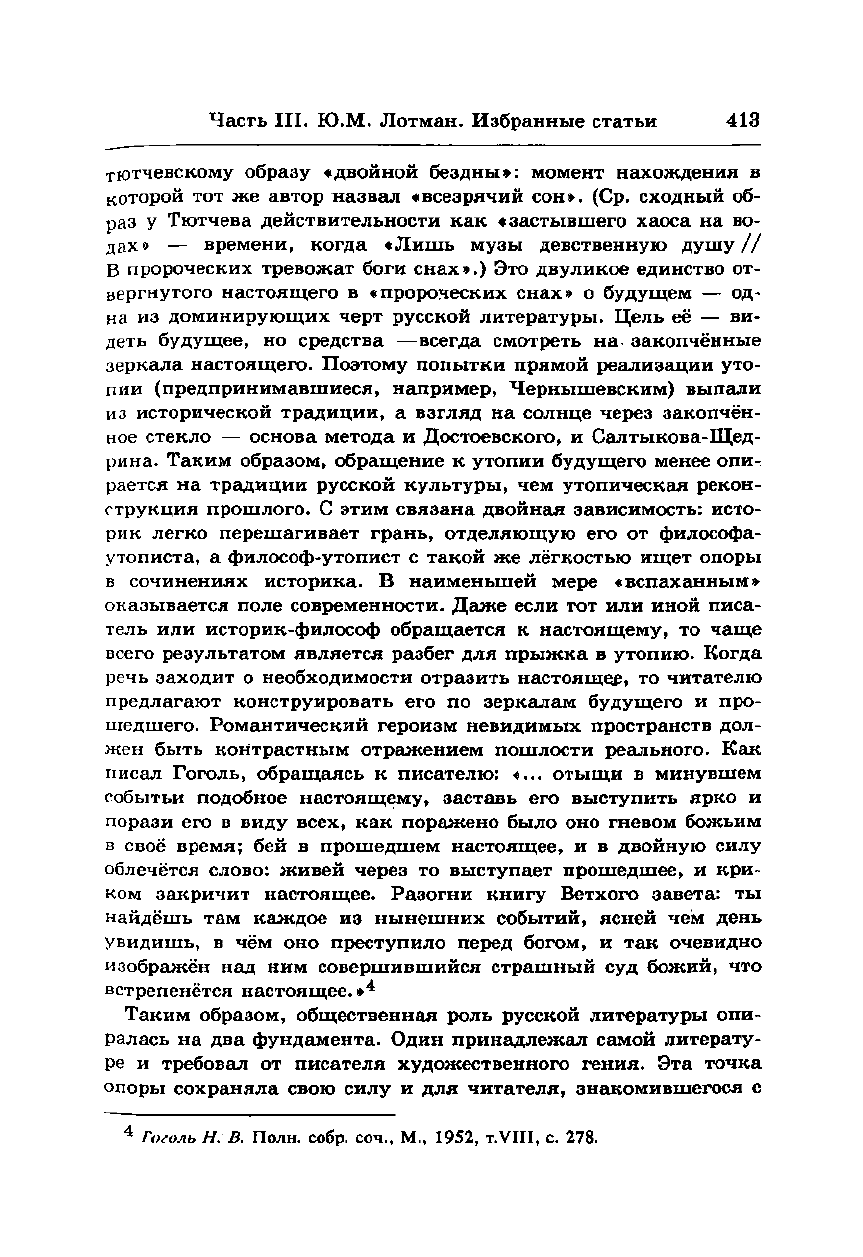
Часть III. Ю.М. Лотман. Избранные статьи 413
тютчевскому образу «двойной бездны»: момент нахождения в
которой тот же автор назвал «всезрячий сон». (Ср. сходный об-
раз у Тютчева действительности как «застывшего хаоса на во-
дах» — времени, когда «Лишь музы девственную душу//
В пророческих тревожат боги снах».) Это двуликое единство от-
вергнутого настоящего в «пророческих снах» о будущем — од-
на из доминирующих черт русской литературы. Цель её — ви-
деть будущее, но средства —всегда смотреть на закопчённые
зеркала настоящего. Поэтому попытки прямой реализации уто-
пии (предпринимавшиеся, например, Чернышевским) выпали
из исторической традиции, а взгляд на солнце через закопчён-
ное стекло — основа метода и Достоевского, и Салтыкова-Щед-
рина. Таким образом, обращение к утопии будущего менее опи-
рается на традиции русской культуры, чем утопическая рекон-
струкция прошлого. С этим связана двойная зависимость: исто-
рик легко перешагивает грань, отделяющую его от философа-
утописта, а философ-утопист с такой же лёгкостью ищет опоры
в сочинениях историка. В наименьшей мере «вспаханным»
оказывается поле современности. Даже если тот или иной писа-
тель или историк-философ обращается к настоящему, то чаще
всего результатом является разбег для прыжка в утопию. Когда
речь заходит о необходимости отразить настоящее, то читателю
предлагают конструировать его по зеркалам будущего и про-
шедшего. Романтический героизм невидимых пространств дол-
жен быть контрастным отражением пошлости реального. Как
писал Гоголь, обращаясь к писателю: «... отыщи в минувшем
событьи подобное настоящему, заставь его выступить ярко и
порази его в виду всех, как поражено было оно гневом божьим
в своё время; бей в прошедшем настоящее, и в двойную силу
облечётся слово: живей через то выступает прошедшее, и кри-
ком закричит настоящее. Разогни книгу Ветхого завета: ты
найдёшь там каждое из нынешних событий, ясней чем день
увидишь, в чём оно преступило перед богом, и так очевидно
изображён над ним совершившийся страшный суд божий, что
встрепенётся настоящее. »
4
Таким образом, общественная роль русской литературы опи-
ралась на два фундамента. Один принадлежал самой литерату-
ре и требовал от писателя художественного гения. Эта точка
опоры сохраняла свою силу и для читателя, знакомившегося с
Гоголь Н. Б. Поли. собр. соч., М., 1952, т.VIII, с. 278.
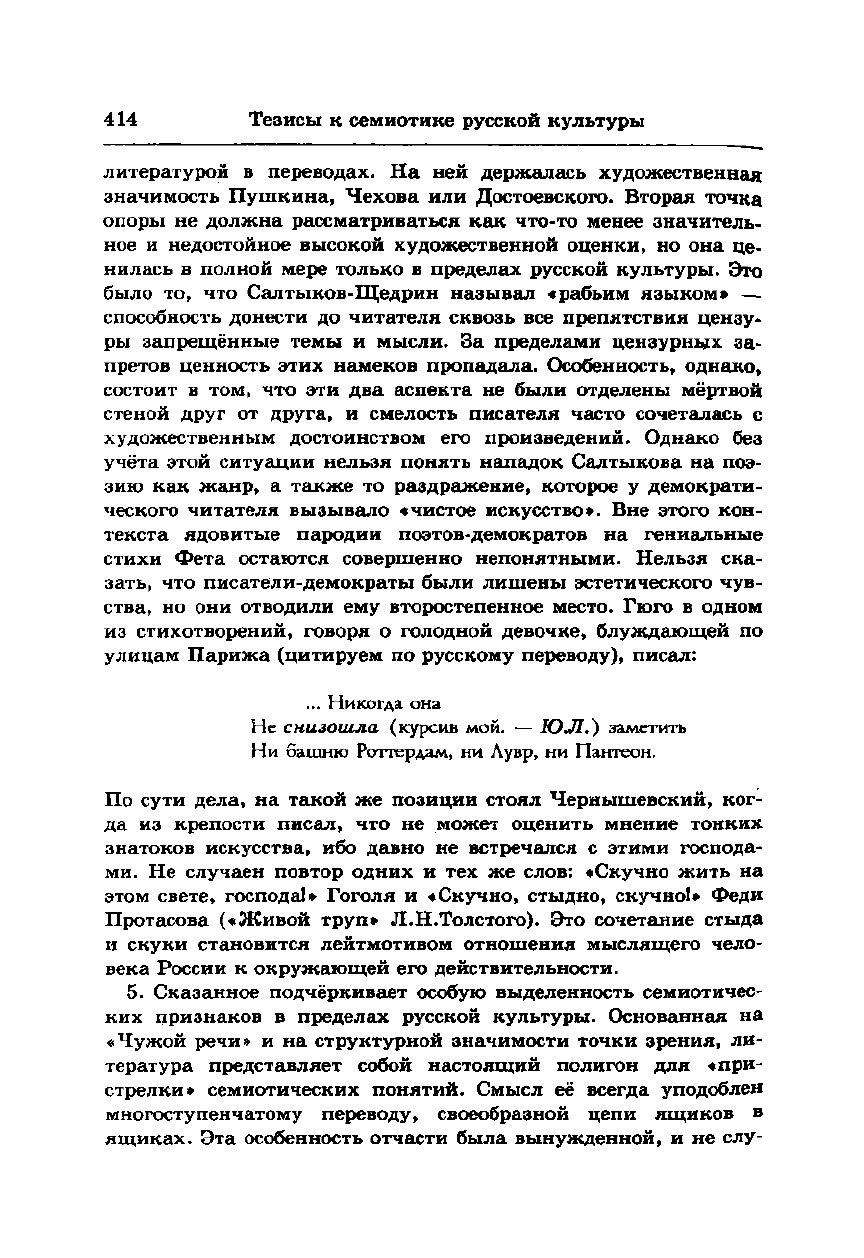
414 Тезисы к семиотике русской культуры
литературой в переводах. На ней держалась художественная
значимость Пушкина, Чехова или Достоевского. Вторая точка
опоры не должна рассматриваться как что-то менее значитель-
ное и недостойное высокой художественной оценки, но она це-
нилась в полной мере только в пределах русской культуры. Это
было то, что Салтыков-Щедрин называл * рабьим языком» —
способность донести до читателя сквозь все препятствия цензу-
ры запрещённые темы и мысли. За пределами цензурных за-
претов ценность этих намеков пропадала. Особенность, однако,
состоит в том, что эти два аспекта не были отделены мёртвой
стеной друг от друга, и смелость писателя часто сочеталась с
художественным достоинством его произведений. Однако без
учёта этой ситуации нельзя понять нападок Салтыкова на поэ-
зию как жанр, а также то раздражение, которое у демократи-
ческого читателя вызывало * чистое искусство». Вне этого кон-
текста ядовитые пародии поэтов-демократов на гениальные
стихи Фета остаются совершенно непонятными. Нельзя ска-
зать,
что писатели-демократы были лишены эстетического чув-
ства, но они отводили ему второстепенное место. Гюго в одном
из стихотворений, говоря о голодной девочке, блуждающей по
улицам Парижа (цитируем по русскому переводу), писал:
... Никогда она
Не снизошла (курсив мой.
—
Ю.Л.) заметить
Ни башню Роттердам, ни Лувр, ни Пантеон.
По сути дела, на такой же позиции стоял Чернышевский, ког-
да из крепости писал, что не может оценить мнение тонких
знатоков искусства, ибо давно не встречался с этими господа-
ми.
Не случаен повтор одних и тех же слов: «Скучно жить на
этом свете, господа!» Гоголя и «Скучно, стыдно, скучно!» Феди
Протасова («Живой труп» JI.Н.Толстого). Это сочетание стыда
и скуки становится лейтмотивом отношения мыслящего чело-
века России к окружающей его действительности.
5. Сказанное подчёркивает особую выделенность семиотичес-
ких признаков в пределах русской культуры. Основанная на
«Чужой речи» и на структурной значимости точки зрения, ли-
тература представляет собой настоящий полигон для «при-
стрелки» семиотических понятий. Смысл её всегда уподоблен
многоступенчатому переводу, своеобразной цепи ящиков в
ящиках. Эта особенность отчасти была вынужденной, и не слу-
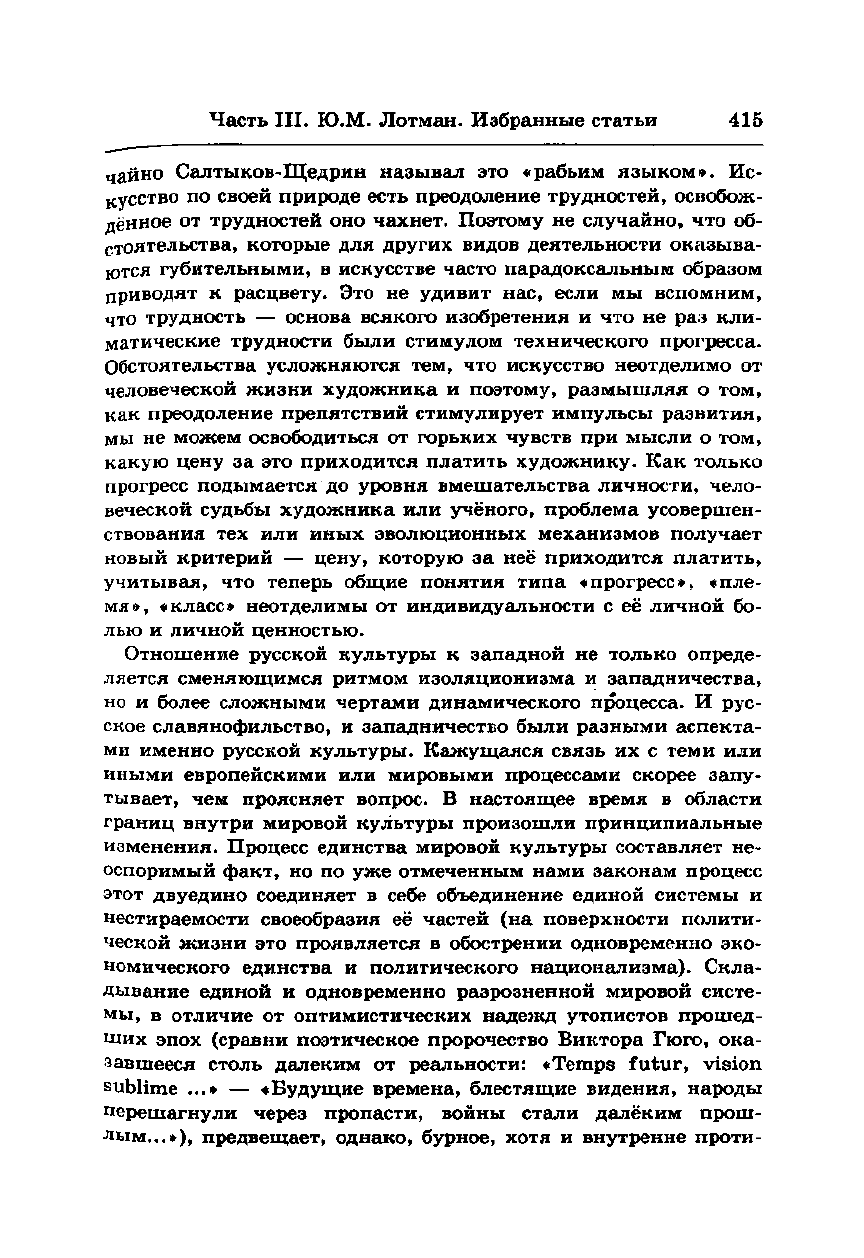
Часть III. Ю.М. Лотман. Избранные статьи 415
чайно Салтыков-Щедрин называл это «рабьим языком». Ис-
к
усство по своей природе есть преодоление трудностей, освобож-
дённое от трудностей оно чахнет. Поэтому не случайно, что об-
стоятельства, которые для других видов деятельности оказыва-
ются губительными, в искусстве часто парадоксальным образом
приводят к расцвету. Это не удивит нас, если мы вспомним,
что трудность — основа всякого изобретения и что не раз кли-
матические трудности были стимулом технического прогресса.
Обстоятельства усложняются тем, что искусство неотделимо от
человеческой жизни художника и поэтому, размышляя о том,
как преодоление препятствий стимулирует импульсы развития,
мы не можем освободиться от горьких чувств при мысли о том,
какую цену за это приходится платить художнику. Как только
прогресс подымается до уровня вмешательства личности, чело-
веческой судьбы художника или учёного, проблема усовершен-
ствования тех или иных эволюционных механизмов получает
новый критерий — цену, которую за неё приходится платить,
учитывая, что теперь общие понятия типа «прогресс», «пле-
мя», «класс» неотделимы от индивидуальности с её личной бо-
лью и личной ценностью.
Отношение русской культуры к западной не только опреде-
ляется сменяющимся ритмом изоляционизма и западничества,
но и более сложными чертами динамического процесса. И рус-
ское славянофильство, и западничество были разными аспекта-
ми именно русской культуры. Кажущаяся связь их с теми или
иными европейскими или мировыми процессами скорее запу-
тывает, чем проясняет вопрос. В настоящее время в области
границ внутри мировой культуры произошли принципиальные
изменения. Процесс единства мировой культуры составляет не-
оспоримый факт, но по уже отмеченным нами законам процесс
этот двуедино соединяет в себе объединение единой системы и
нестираемое™ своеобразия её частей (на поверхности полити-
ческой жизни это проявляется в обострении одновременно эко-
номического единства и политического национализма). Скла-
дывание единой и одновременно разрозненной мировой систе-
мы,
в отличие от оптимистических надежд утопистов прошед-
ших эпох (сравни поэтическое пророчество Виктора Гюго, ока-
завшееся столь далеким от реальности: «Temps futur, vision
sublime ...» — «Будущие времена, блестящие видения, народы
перешагнули через пропасти, войны стали далёким прош-
лым...»), предвещает, однако, бурное, хотя и внутренне проти-
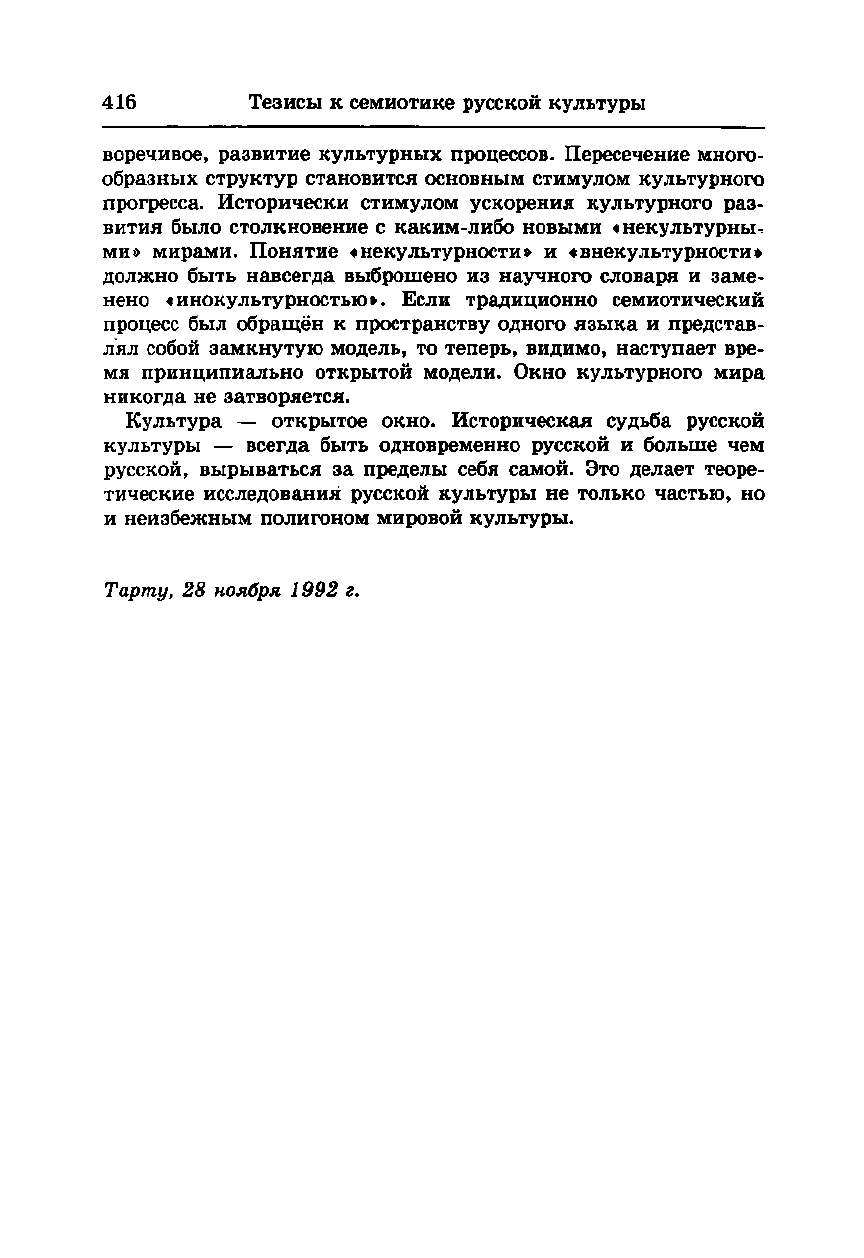
416 Тезисы к семиотике русской культуры
воречивое, развитие культурных процессов. Пересечение много-
образных структур становится основным стимулом культурного
прогресса. Исторически стимулом ускорения культурного раз-
вития было столкновение с каким-либо новыми «некультурны-
ми» мирами. Понятие «некультурности» и «внекультурности»
должно быть навсегда выброшено из научного словаря и заме-
нено «инокультурностью». Если традиционно семиотический
процесс был обращен к пространству одного языка и представ-
лял собой замкнутую модель, то теперь, видимо, наступает вре-
мя принципиально открытой модели. Окно культурного мира
никогда не затворяется.
Культура — открытое окно. Историческая судьба русской
культуры — всегда быть одновременно русской и больше чем
русской, вырываться за пределы себя самой. Это делает теоре-
тические исследования русской культуры не только частью, но
и неизбежным полигоном мировой культуры.
Тарту, 28 ноября 1992 г.
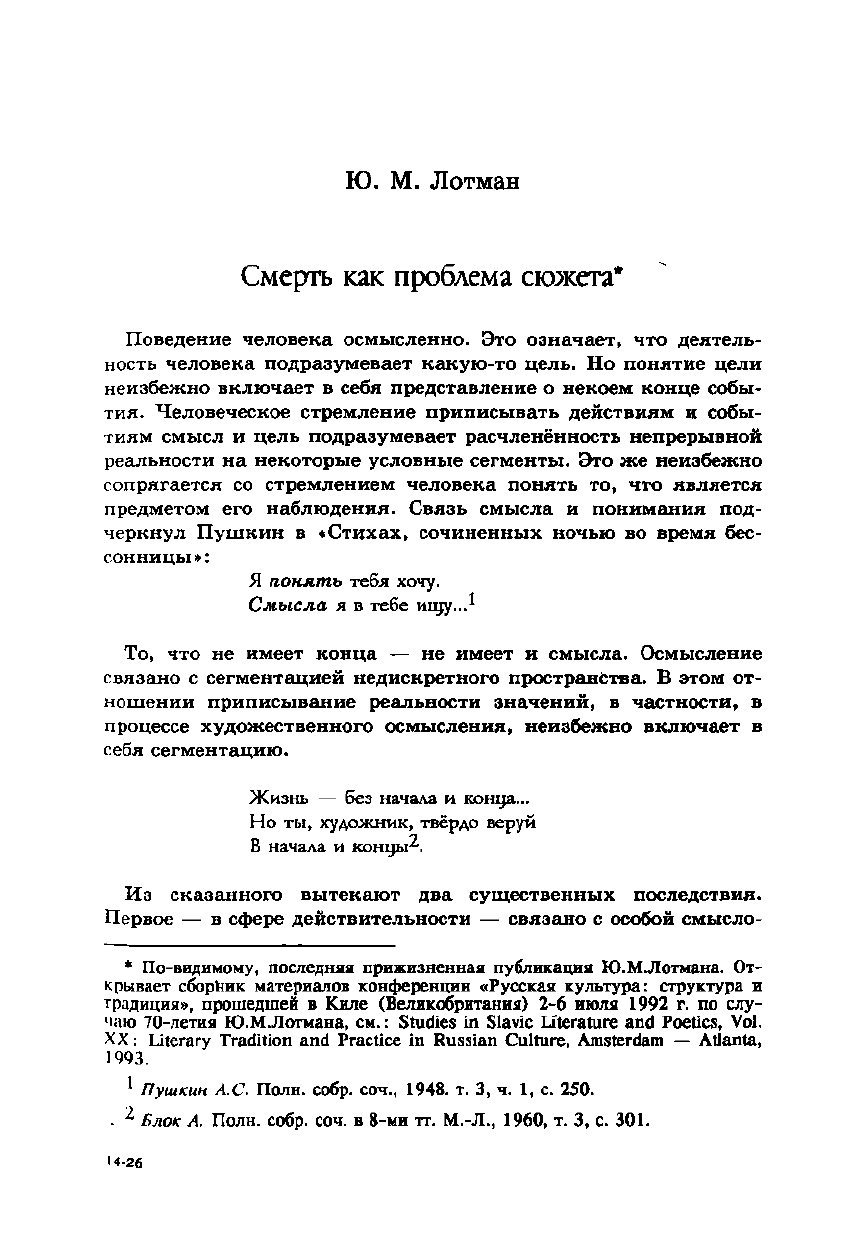
Ю.
М. Лотман
Смерть как проблема сюжета*
Поведение человека осмысленно. Это означает, что деятель-
ность человека подразумевает какую-то цель. Но понятие цели
неизбежно включает в себя представление о некоем конце собы-
тия.
Человеческое стремление приписывать действиям и собы-
тиям смысл и цель подразумевает расчленённость непрерывной
реальности на некоторые условные сегменты. Это же неизбежно
сопрягается со стремлением человека понять то, что является
предметом его наблюдения. Связь смысла и понимания под-
черкнул Пушкин в «Стихах, сочиненных ночью во время бес-
сонницы»:
Я понять тебя хочу.
Смысла я в тебе ицгу...^
То,
что не имеет конца — не имеет и смысла. Осмысление
связано с сегментацией недискретного пространства. В этом от-
ношении приписывание реальности значений, в частности, в
процессе художественного осмысления, неизбежно включает в
себя сегментацию.
Жизнь — без начала и конца...
Но ты, художник, твёрдо веруй
В начала и концы^.
Из сказанного вытекают два существенных последствия.
Первое — в сфере действительности — связано с особой смысло-
* По-видимому, последняя прижизненная публикация Ю.МЛотмана. От-
крывает сборник материалов конференции «Русская культура: структура и
традиция», прошедшей в Киле (Великобритания) 2-6 июля 1992 г. по слу-
чаю 70-летия Ю.М.Лотмана, см.: Studies in Siavic Literature and Poetics, Vol.
XX: Literary Tradition and Practice in Russian Culture, Amsterdam — Atlanta,
1993.
*
Пушкин
AC. Поли. собр. соч., 1948. т. 3, ч. 1, с. 250.
. ^ Блок А Поли. собр. соч. в 8-ми тт. М.-Л., 1960, т. 3, с. 301.
U-26
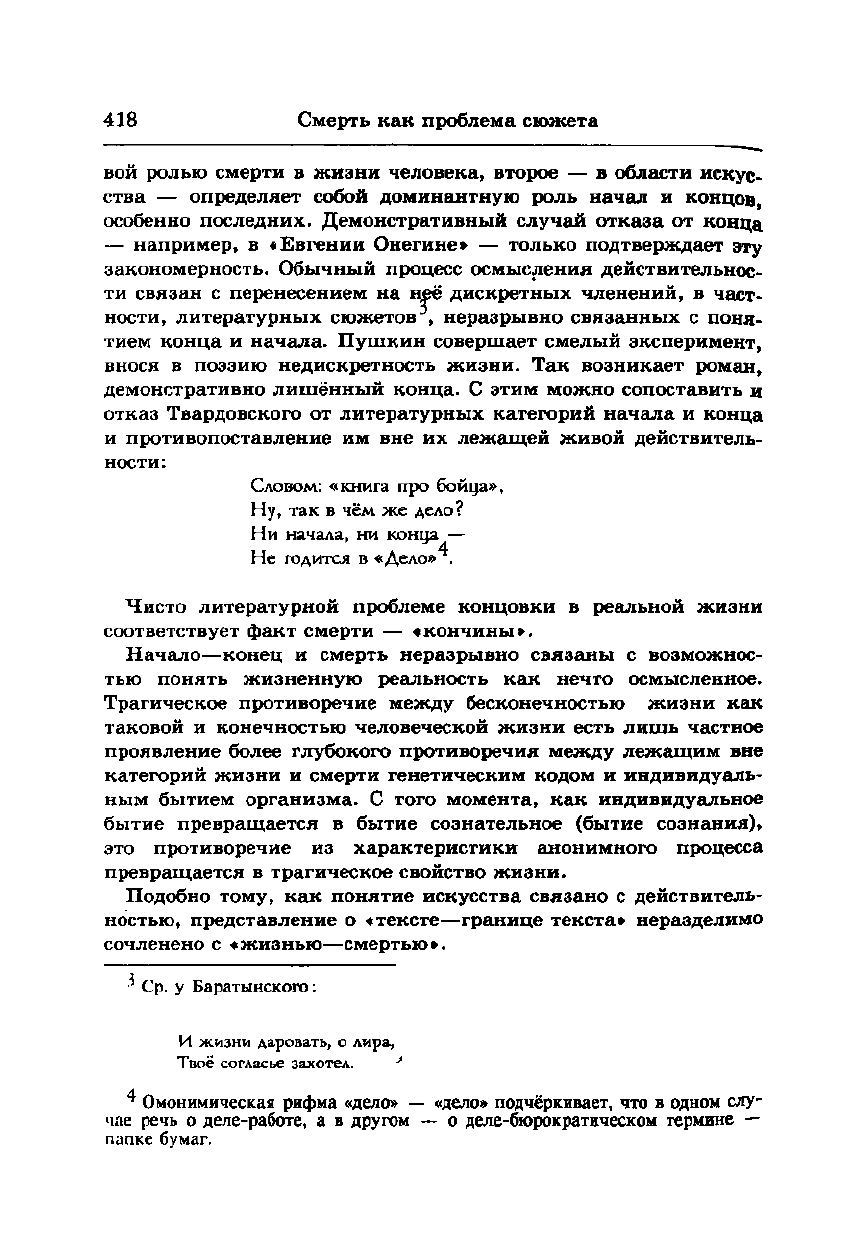
418
Смерть как проблема сюжета
вой ролью смерти в жизни человека, второе — в области искус-
ства — определяет собой доминантную роль начал и концов,
особенно последних. Демонстративный случай отказа от конца
— например, в «Евгении Онегине» — только подтверждает эту
закономерность. Обычный процесс осмысления действительнос-
ти связан с перенесением на неё дискретных членений, в част-
ности, литературных сюжетов , неразрывно связанных с поня-
тием конца и начала. Пушкин совершает смелый эксперимент,
внося в поэзию недискретность жизни. Так возникает роман,
демонстративно лишённый конца. С этим можно сопоставить и
отказ Твардовского от литературных категорий начала и конца
и противопоставление им вне их лежащей живой действитель-
ности:
СЛОВОМ:
«книга про бойца»,
Ну, так в чём же дело?
Ни начала, ни конца —
Не годится в «Дело» .
Чисто литературной проблеме концовки в реальной жизни
соответствует факт смерти — «кончины».
Начало—конец и смерть неразрывно связаны с возможнос-
тью понять жизненную реальность как нечто осмысленное.
Трагическое противоречие между бесконечностью жизни как
таковой и конечностью человеческой жизни есть лишь частное
проявление более глубокого противоречия между лежащим вне
категорий жизни и смерти генетическим кодом и индивидуаль-
ным бытием организма. С того момента, как индивидуальное
бытие превращается в бытие сознательное (бытие сознания),
это противоречие из характеристики анонимного процесса
превращается в трагическое свойство жизни.
Подобно тому, как понятие искусства связано с действитель-
ностью, представление о «тексте—границе текста» неразделимо
сочленено с «жизнью—смертью».
*
Ср. у Баратынского:
И жизни даровать, о лира,
Твоё согласье захотел. ^
4
Омонимическая рифма «дело» — «дело» подчёркивает, что в одном слу-
чае речь о деле-работе, а в другом — о деле-бюрократическом термине —
папке бумаг.
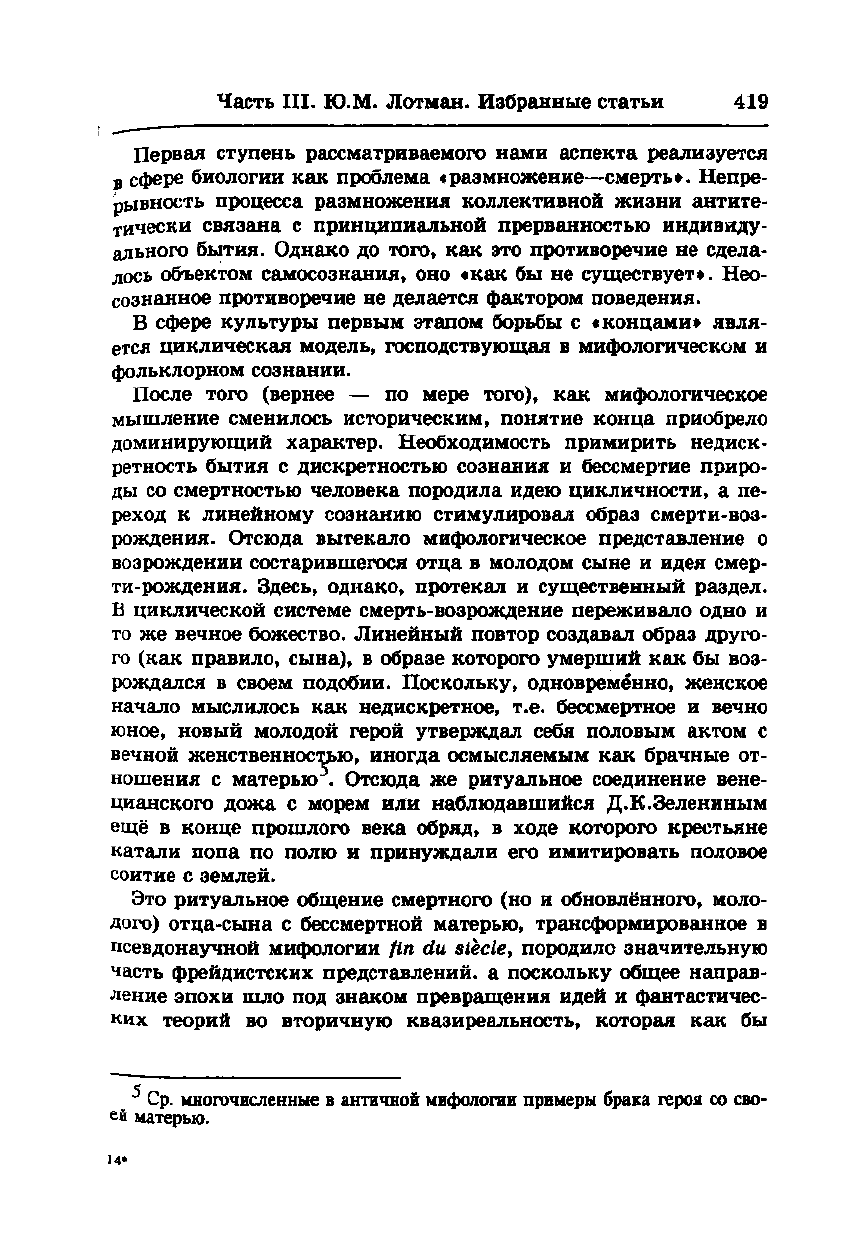
Часть III. Ю.М. Лотман. Избранные статьи 419
Первая ступень рассматриваемого нами аспекта реализуется
в сфере биологии как проблема «размножение—смерть». Непре-
рывность процесса размножения коллективной жизни антите-
тически связана с принципиальной прерванностыо индивиду-
ального бытия. Однако до того, как это противоречие не сдела-
лось объектом самосознания, оно «как бы не существует». Нео-
сознанное противоречие не делается фактором поведения.
В сфере культуры первым этапом борьбы с «концами» явля-
ется циклическая модель, господствующая в мифологическом и
фольклорном сознании.
После того (вернее — по мере того), как мифологическое
мышление сменилось историческим, понятие конца приобрело
доминирующий характер. Необходимость примирить недиск-
ретность бытия с дискретностью сознания и бессмертие приро-
ды со смертностью человека породила идею цикличности, а пе-
реход к линейному сознанию стимулировал образ смерти-воз-
рождения. Отсюда вытекало мифологическое представление о
возрождении состарившегося отца в молодом сыне и идея смер-
ти-рождения. Здесь, однако, протекал и существенный раздел.
В циклической системе смерть-возрождение переживало одно и
то же вечное божество. Линейный повтор создавал образ друго-
го (как правило, сына), в образе которого умерший как бы воз-
рождался в своем подобии. Поскольку, одновременно, женское
начало мыслилось как недискретное, т.е. бессмертное и вечно
юное, новый молодой герой утверждал себя половым актом с
вечной женственностью, иногда осмысляемым как брачные от-
ношения с матерью . Отсюда же ритуальное соединение вене-
цианского дожа с морем или наблюдавшийся Д.К.Зелениным
ещё в конце прошлого века обряд, в ходе которого крестьяне
катали попа по полю и принуждали его имитировать половое
соитие с землей.
Это ритуальное общение смертного (но и обновлённого, моло-
дого) отца-сына с бессмертной матерью, трансформированное в
псевдонаучной мифологии fin du siecle, породило значительную
часть фрейдистских представлений, а поскольку общее направ-
ление эпохи шло под знаком превращения идей и фантастичес-
ких теорий во вторичную квазиреальность, которая как бы
Ср.
многочисленные
в
античной мифологии примеры брака героя со сво-
ей матерью.
14»
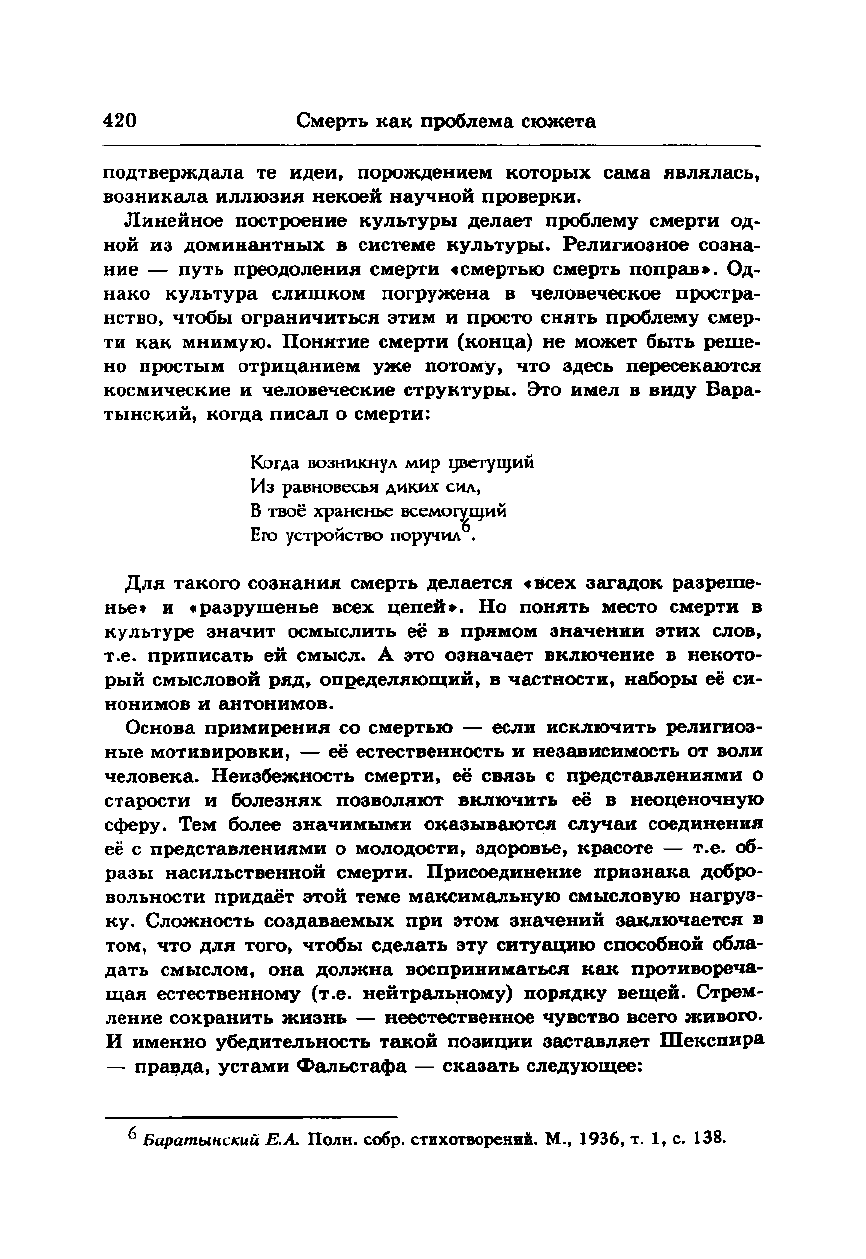
420
Смерть как проблема сюжета
подтверждала те идеи, порождением которых сама являлась,
возникала иллюзия некоей научной проверки.
Линейное построение культуры делает проблему смерти од-
ной из доминантных в системе культуры. Религиозное созна-
ние — путь преодоления смерти «смертью смерть поправ». Од-
нако культура слишком погружена в человеческое простра-
нство, чтобы ограничиться этим и просто снять проблему смер-
ти как мнимую. Понятие смерти (конца) не может быть реше-
но простым отрицанием уже потому, что здесь пересекаются
космические и человеческие структуры. Это имел в виду Бара-
тынский, когда писал о смерти:
Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В
твоё храненье всемогущий
Его устройство поручил .
Для такого сознания смерть делается «всех загадок разреше-
нье» и «разрушенье всех цепей». Но понять место смерти в
культуре значит осмыслить её в прямом значении этих слов,
т.е. приписать ей смысл. А это означает включение в некото-
рый смысловой ряд, определяющий, в частности, наборы её си-
нонимов и антонимов.
Основа примирения со смертью — если исключить религиоз-
ные мотивировки, — её естественность и независимость от воли
человека. Неизбежность смерти, её связь с представлениями о
старости и болезнях позволяют включить её в неоценочную
сферу. Тем более значимыми оказываются случаи соединения
её с представлениями о молодости, здоровье, красоте — т.е. об-
разы насильственной смерти. Присоединение признака добро-
вольности придаёт этой теме максимальную смысловую нагруз-
ку. Сложность создаваемых при этом значений заключается в
том,
что для того, чтобы сделать эту ситуацию способной обла-
дать смыслом, она должна восприниматься как противореча-
щая естественному (т.е. нейтральному) порядку вещей. Стрем-
ление сохранить жизнь — неестественное чувство всего живого.
И именно убедительность такой позиции заставляет Шекспира
— правда, устами Фальстафа — сказать следующее:
Баратынский
Е.Л. Поли. собр. стихотворений. М., 1936, т. 1, с. 138.
