Николаев П.А. (ред.), Эсалнек А.Я. Хрестоматия по введению в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

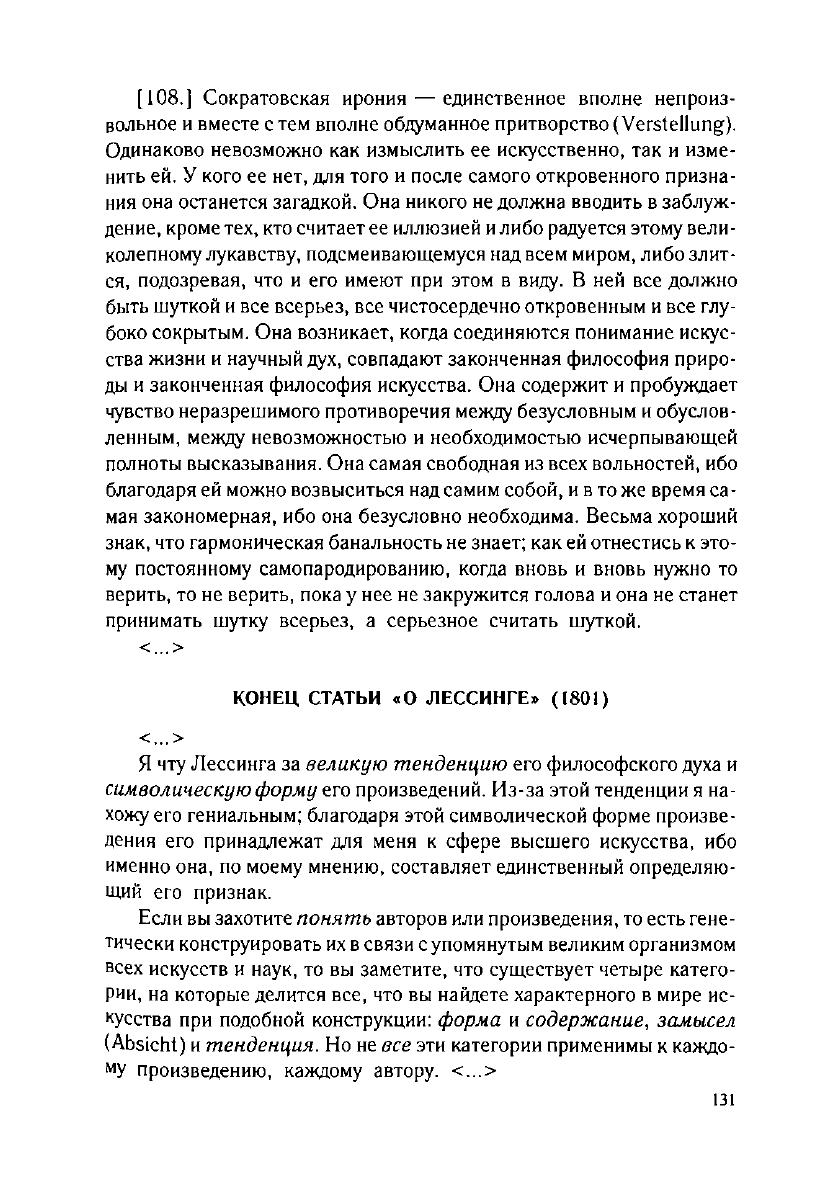
[108.] Сократовская ирония — единственное вполне непроиз-
вольное и вместе с тем вполне обдуманное притворство (Verstellung).
Одинаково невозможно как измыслить ее искусственно, так и изме-
нить ей. У кого ее нет, для того и после самого откровенного призна-
ния она останется загадкой. Она никого не должна вводить в заблуж-
дение, кроме тех, кто считает ее иллюзией
и
либо радуется этому вели-
колепному лукавству, подсмеивающемуся над всем миром, либо злит-
ся, подозревая, что и его имеют при этом в виду. В ней все должно
быть шуткой и все всерьез, все чистосердечно откровенным и все глу-
боко сокрытым. Она возникает, когда соединяются понимание искус-
ства жизни и научный дух, совпадают законченная философия приро-
ды и законченная философия искусства. Она содержит и пробуждает
чувство неразрешимого противоречия между безусловным
и
обуслов-
ленным, между невозможностью и необходимостью исчерпывающей
полноты высказывания. Она самая свободная из всех вольностей, ибо
благодаря ей можно возвыситься над самим собой, и в то же время са-
мая закономерная, ибо она безусловно необходима. Весьма хороший
знак, что гармоническая банальность не знает; как ей отнестись
к
это-
му постоянному самопародированию, когда вновь и вновь нужно то
верить, то не верить, пока у нее не закружится голова и она не станет
принимать шутку всерьез, а серьезное считать шуткой.
<...>
КОНЕЦ СТАТЬИ «О ЛЕССИНГЕ» (1801)
<...>
Я чту Лессинга за великую тенденцию его философского духа и
символическую форму его произведений. Из-за этой тенденции я на-
хожу его гениальным; благодаря этой символической форме произве-
дения его принадлежат для меня к сфере высшего искусства, ибо
именно она, по моему мнению, составляет единственный определяю-
щий его признак.
Если вы захотите понять авторов или произведения, то есть гене-
тически конструировать их в связи с упомянутым великим организмом
всех искусств и наук, то вы заметите, что существует четыре катего-
рии, на которые делится все, что вы найдете характерного в мире ис-
кусства при подобной конструкции: форма и содержание, замысел
(Absicht)
и
тенденция. Но не все эти категории применимы к каждо-
му произведению, каждому автору. <...>
131
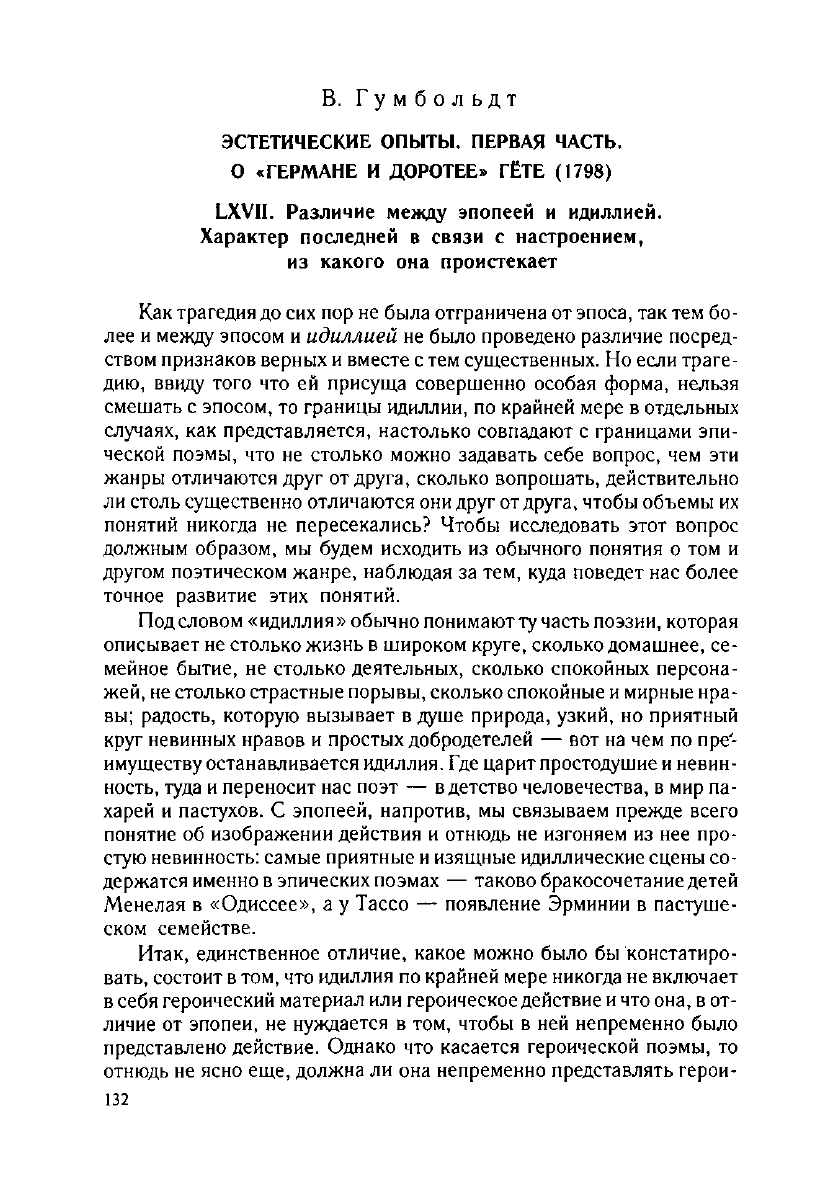
В. Гумбольдт
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.
О «ГЕРМАНЕ И ДОРОТЕЕ» ГЁТЕ (1798)
LXVII. Различие между эпопеей и идиллией.
Характер последней в связи с настроением,
из какого она проистекает
Как трагедия до сих пор не была отграничена от эпоса, так тем бо-
лее и между эпосом и идиллией не было проведено различие посред-
ством признаков верных
и
вместе с тем существенных. Но если траге-
дию, ввиду того что ей присуща совершенно особая форма, нельзя
смешать с эпосом, то границы идиллии, по крайней мере в отдельных
случаях, как представляется, настолько совпадают с границами эпи-
ческой поэмы, что не столько можно задавать себе вопрос, чем эти
жанры отличаются друг от друга, сколько вопрошать, действительно
ли столь существенно отличаются они друг от
друга,
чтобы объемы их
понятий никогда не пересекались? Чтобы исследовать этот вопрос
должным образом, мы будем исходить из обычного понятия о том и
другом поэтическом жанре, наблюдая за тем, куда поведет нас более
точное развитие этих понятий.
Под словом «идиллия» обычно понимают ту часть поэзии, которая
описывает не столько жизнь в широком круге, сколько домашнее, се-
мейное бытие, не столько деятельных, сколько спокойных персона-
жей, не столько страстные порывы, сколько спокойные
и
мирные нра-
вы; радость, которую вызывает в душе природа, узкий, но приятный
круг невинных нравов и простых добродетелей — вот на чем по пре
у
-
имуществу останавливается идиллия. Где царит простодушие
и
невин-
ность, туда и переносит нас поэт —
в
детство человечества, в мир па-
харей и пастухов. С эпопеей, напротив, мы связываем прежде всего
понятие об изображении действия и отнюдь не изгоняем из нее про-
стую невинность: самые приятные
и
изящные идиллические сцены со-
держатся именно в эпических поэмах — таково бракосочетание детей
Менелая в «Одиссее», а у Тассо — появление Эрминии в пастуше-
ском семействе.
Итак, единственное отличие, какое можно было бы констатиро-
вать, состоит в том, что идиллия по крайней мере никогда не включает
в себя героический материал или героическое действие
и
что она, в от-
личие от эпопеи, не нуждается в том, чтобы в ней непременно было
представлено действие. Однако что касается героической поэмы, то
отнюдь не ясно еще, должна ли она непременно представлять герои-
132
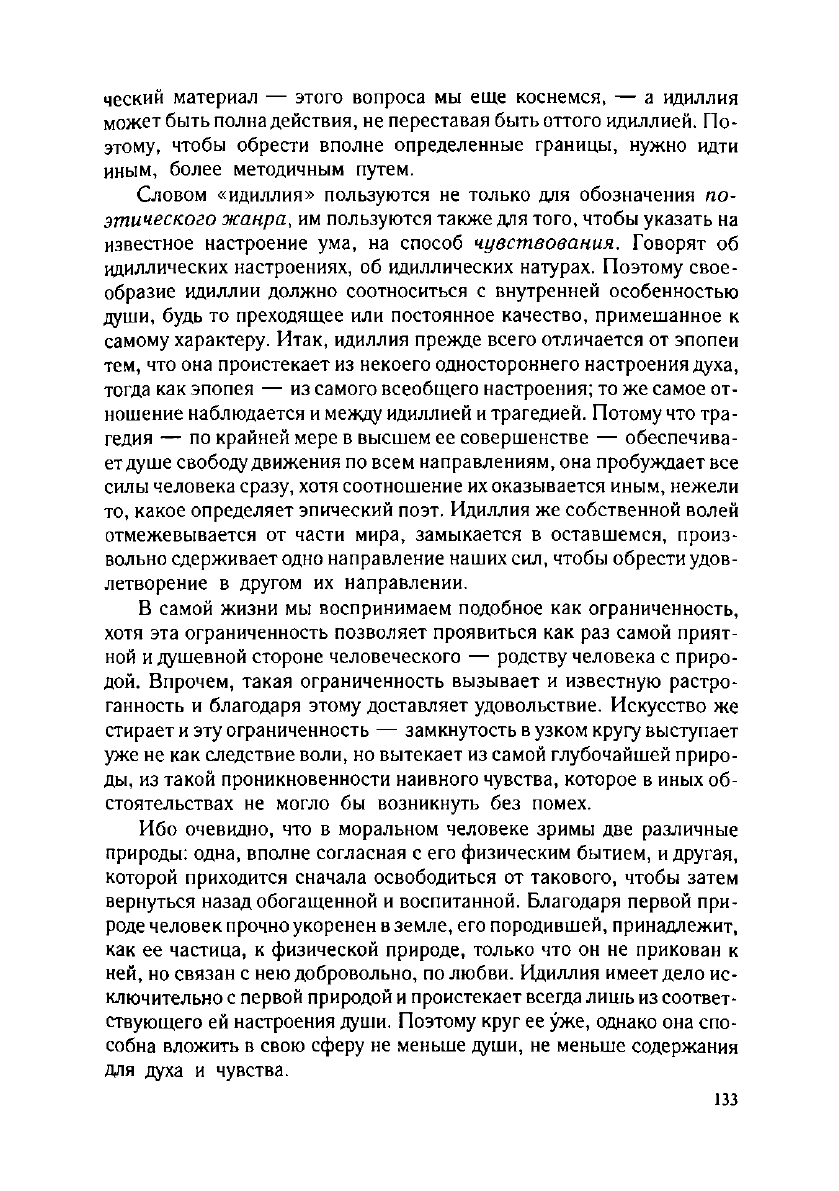
ческий материал — этого вопроса мы еще коснемся, — а идиллия
может быть полна действия, не переставая быть оттого идиллией. По-
этому, чтобы обрести вполне определенные границы, нужно идти
иным, более методичным путем.
Словом «идиллия» пользуются не только для обозначения по-
этического жанра, им пользуются также для того, чтобы указать на
известное настроение ума, на способ чувствования. Говорят об
идиллических настроениях, об идиллических натурах. Поэтому свое-
образие идиллии должно соотноситься с внутренней особенностью
души, будь то преходящее или постоянное качество, примешанное к
самому характеру. Итак, идиллия прежде всего отличается от эпопеи
тем, что она проистекает из некоего одностороннего настроения духа,
тогда как эпопея — из самого всеобщего настроения; то же самое от-
ношение наблюдается и между идиллией
и
трагедией. Потому что тра-
гедия — по крайней мере в высшем ее совершенстве — обеспечива-
ет душе
свободу движения по всем направлениям, она пробуждает все
силы человека сразу, хотя соотношение их оказывается иным, нежели
то, какое определяет эпический поэт. Идиллия же собственной волей
отмежевывается от части мира, замыкается в оставшемся, произ-
вольно сдерживает одно направление наших сил, чтобы обрести удов-
летворение в другом их направлении.
В самой жизни мы воспринимаем подобное как ограниченность,
хотя эта ограниченность позволяет проявиться как раз самой прият-
ной
и
душевной стороне человеческого — родству человека с приро-
дой. Впрочем, такая ограниченность вызывает и известную растро-
ганность и благодаря этому доставляет удовольствие. Искусство же
стирает
и
эту ограниченность — замкнутость
в
узком кругу выступает
уже не как следствие воли, но вытекает из самой глубочайшей приро-
ды, из такой проникновенности наивного чувства, которое в иных об-
стоятельствах не могло бы возникнуть без помех.
Ибо очевидно, что в моральном человеке зримы две различные
природы: одна, вполне согласная с его физическим бытием,
и
другая,
которой приходится сначала освободиться от такового, чтобы затем
вернуться назад обогащенной и воспитанной. Благодаря первой при-
роде человек прочно укоренен
в
земле, его породившей, принадлежит,
как ее частица, к физической природе, только что он не прикован к
ней, но связан с нею добровольно, по любви. Идиллия имеет дело ис-
ключительно с первой природой
и
проистекает всегда лишь из соответ-
ствующего ей настроения души. Поэтому круг ее уже, однако она спо-
собна вложить в свою сферу не меньше души, не меньше содержания
для духа и чувства.
133
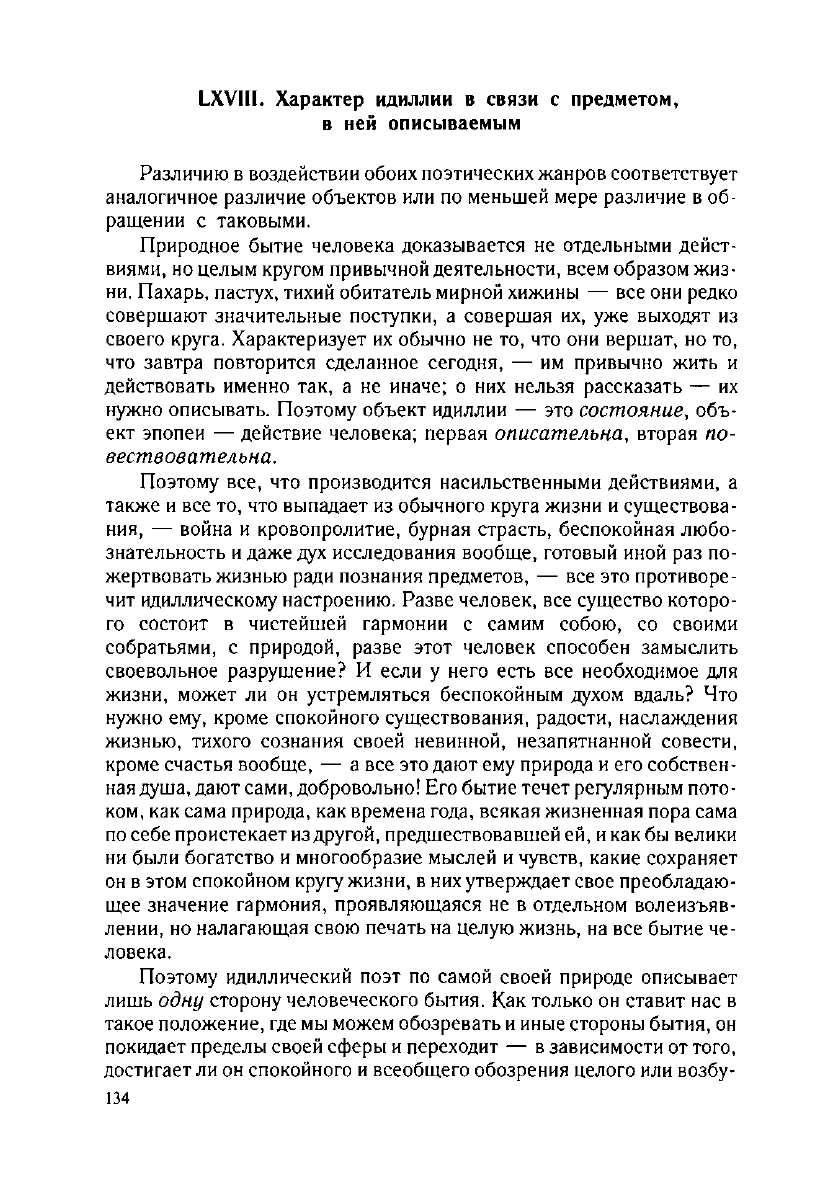
LXVIII. Характер идиллии в связи с предметом,
в ней описываемым
Различию в воздействии обоих поэтических жанров соответствует
аналогичное различие объектов или по меньшей мере различие в об-
ращении с таковыми.
Природное бытие человека доказывается не отдельными дейст-
виями, но целым кругом привычной деятельности, всем образом жиз-
ни. Пахарь, пастух, тихий обитатель мирной хижины — все они редко
совершают значительные поступки, а совершая их, уже выходят из
своего круга. Характеризует их обычно не то, что они вершат, но то,
что завтра повторится сделанное сегодня, — им привычно жить и
действовать именно так, а не иначе; о них нельзя рассказать — их
нужно описывать. Поэтому объект идиллии — это состояние, объ-
ект эпопеи — действие человека; первая описательна, вторая по-
вествовательна.
Поэтому все, что производится насильственными действиями, а
также и все то, что выпадает из обычного круга жизни и существова-
ния, — война и кровопролитие, бурная страсть, беспокойная любо-
знательность
и
даже дух исследования вообще, готовый иной раз по-
жертвовать жизнью ради познания предметов, — все это противоре-
чит идиллическому настроению. Разве человек, все существо которо-
го состоит в чистейшей гармонии с самим собою, со своими
собратьями, с природой, разве этот человек способен замыслить
своевольное разрушение? И если у него есть все необходимое для
жизни, может ли он устремляться беспокойным духом вдаль? Что
нужно ему, кроме спокойного существования, радости, наслаждения
жизнью, тихого сознания своей невинной, незапятнанной совести,
кроме счастья вообще, — а все это дают ему природа и его собствен-
ная
душа, дают сами, добровольно! Его бытие течет регулярным пото-
ком, как сама природа, как времена года, всякая жизненная пора сама
по себе проистекает
из другой,
предшествовавшей ей,
и
как бы велики
ни были богатство и многообразие мыслей и чувств, какие сохраняет
он в этом спокойном кругу жизни, в них утверждает свое преобладаю-
щее значение гармония, проявляющаяся не в отдельном волеизъяв-
лении, но налагающая свою печать на целую жизнь, на все бытие че-
ловека.
Поэтому идиллический поэт по самой своей природе описывает
лишь одну сторону человеческого бытия. Как только он ставит нас в
такое положение, где мы можем обозревать
и
иные стороны бытия, он
покидает пределы своей сферы и переходит — в зависимости от того,
достигает ли он спокойного и всеобщего обозрения целого или возбу-
134
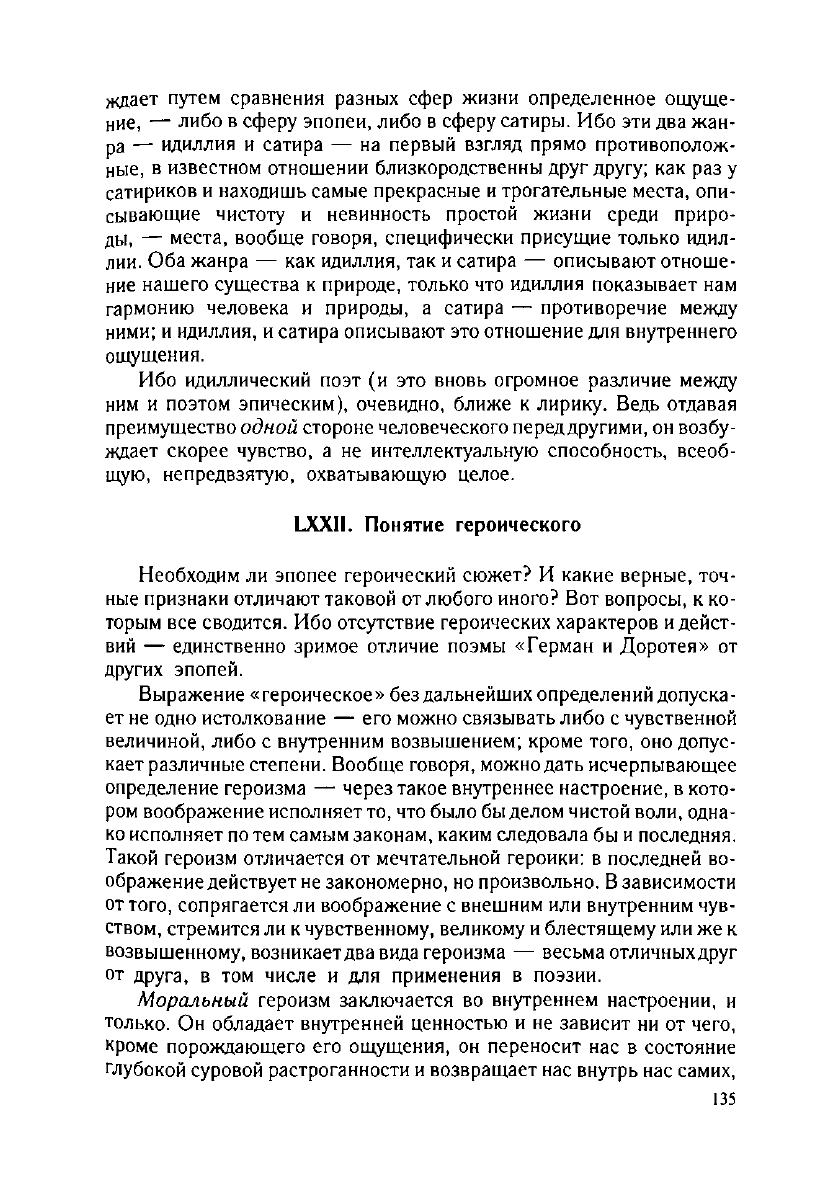
ждает путем сравнения разных сфер жизни определенное ощуще-
ние, — либо в сферу эпопеи, либо в сферу сатиры. Ибо эти два жан-
ра — идиллия и сатира — на первый взгляд прямо противополож-
ные, в известном отношении близкородственны друг другу; как раз у
сатириков и находишь самые прекрасные и трогательные места, опи-
сывающие чистоту и невинность простой жизни среди приро-
ды, — места, вообще говоря, специфически присущие только идил-
лии. Оба жанра — как идиллия, так и сатира — описывают отноше-
ние нашего существа к природе, только что идиллия показывает нам
гармонию человека и природы, а сатира — противоречие между
ними; и идиллия, и сатира описывают это отношение для внутреннего
ощущения.
Ибо идиллический поэт (и это вновь огромное различие между
ним и поэтом эпическим), очевидно, ближе к лирику. Ведь отдавая
преимущество одной стороне человеческого переддругими, он возбу-
ждает скорее чувство, а не интеллектуальную способность, всеоб-
щую, непредвзятую, охватывающую целое.
LXXII. Понятие героического
Необходим ли эпопее героический сюжет? И какие верные, точ-
ные признаки отличают таковой от любого иного? Вот вопросы, к ко-
торым все сводится. Ибо отсутствие героических характеров
и
дейст-
вий — единственно зримое отличие поэмы «Герман и Доротея» от
других эпопей.
Выражение «героическое» без дальнейших определений допуска-
ет не одно истолкование — его можно связывать либо с чувственной
величиной, либо с внутренним возвышением; кроме того, оно допус-
кает различные степени. Вообще говоря, можно дать исчерпывающее
определение героизма — через такое внутреннее настроение, в кото-
ром воображение исполняет то, что было бы делом чистой воли, одна-
ко исполняет по тем самым законам, каким следовала бы и последняя.
Такой героизм отличается от мечтательной героики: в последней во-
ображение действует не закономерно, но произвольно. В зависимости
оттого, сопрягается ли воображение с внешним или внутренним чув-
ством, стремится ли
к
чувственному, великому
и
блестящему или же к
возвышенному, возникает два вида героизма — весьма отличных друг
от друга, в том числе и для применения в поэзии.
Моральный героизм заключается во внутреннем настроении, и
только. Он обладает внутренней ценностью и не зависит ни от чего,
кроме порождающего его ощущения, он переносит нас в состояние
глубокой суровой растроганности и возвращает нас внутрь нас самих,
135
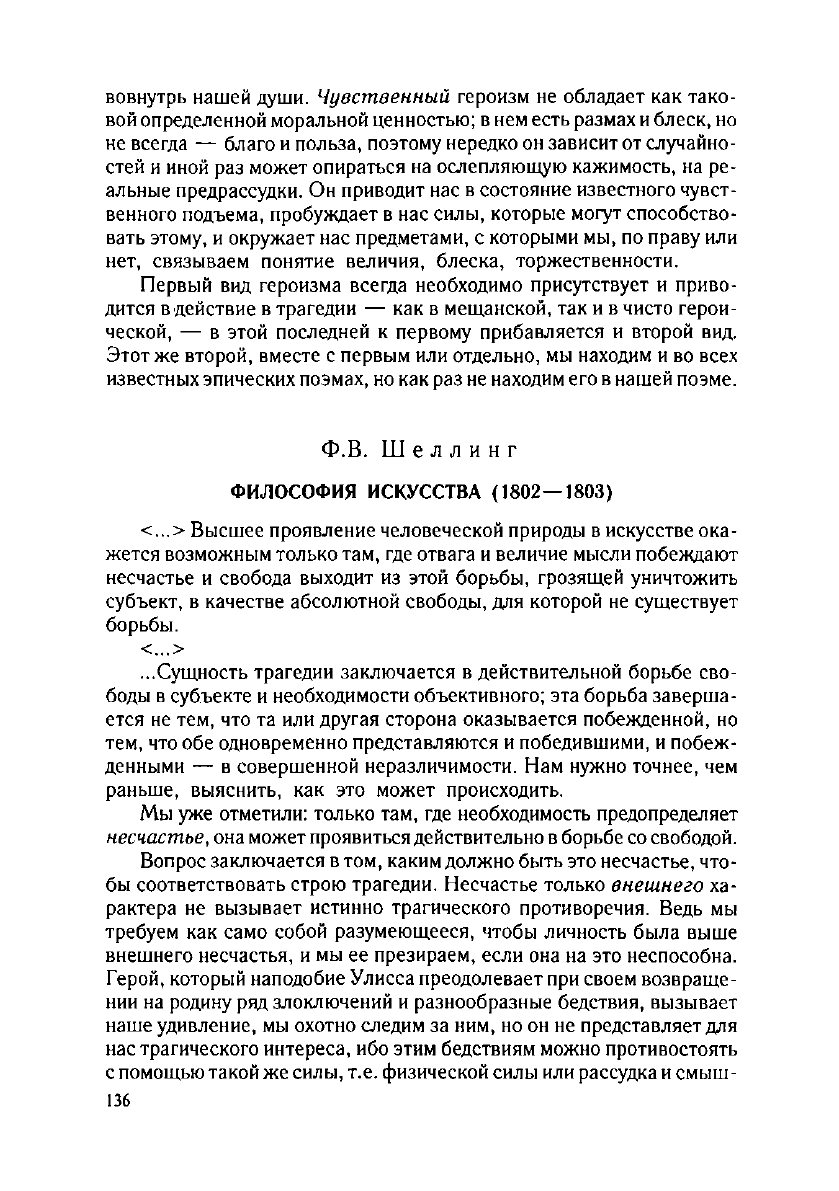
вовнутрь нашей души. Чувственный героизм не обладает как тако-
вой определенной моральной ценностью; в нем есть размах
и
блеск, но
не всегда — благо и польза, поэтому нередко он зависит от случайно-
стей и иной раз может опираться на ослепляющую кажимость, на ре-
альные предрассудки. Он приводит нас в состояние известного чувст-
венного подъема, пробуждает в нас силы, которые могут способство-
вать этому, и окружает нас предметами, с которыми мы, по праву или
нет, связываем понятие величия, блеска, торжественности.
Первый вид героизма всегда необходимо присутствует и приво-
дится
в
действие в трагедии — как в мещанской, так и в чисто герои-
ческой, — в этой последней к первому прибавляется и второй вид.
Этот же второй, вместе с первым или отдельно, мы находим и во всех
известных эпических поэмах, но как раз не находим его в нашей поэме.
Ф.В. Ш е л л и н г
ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА (1802—1803)
<...> Высшее проявление человеческой природы в искусстве ока-
жется возможным только там, где отвага и величие мысли побеждают
несчастье и свобода выходит из этой борьбы, грозящей уничтожить
субъект, в качестве абсолютной свободы, для которой не существует
борьбы.
<...>
...Сущность трагедии заключается в действительной борьбе сво-
боды в субъекте и необходимости объективного; эта борьба заверша-
ется не тем, что та или другая сторона оказывается побежденной, но
тем, что обе одновременно представляются и победившими, и побеж-
денными — в совершенной неразличимости. Нам нужно точнее, чем
раньше, выяснить, как это может происходить.
Мы уже отметили: только там, где необходимость предопределяет
несчастье, она может проявиться действительно в борьбе со свободой.
Вопрос заключается в том, каким должно быть это несчастье, что-
бы соответствовать строю трагедии. Несчастье только внешнего ха-
рактера не вызывает истинно трагического противоречия. Ведь мы
требуем как само собой разумеющееся, чтобы личность была выше
внешнего несчастья, и мы ее презираем, если она на это неспособна.
Герой, который наподобие Улисса преодолевает при своем возвраще-
нии на родину ряд злоключений и разнообразные бедствия, вызывает
наше удивление, мы охотно следим за ним, но он не представляет для
нас трагического интереса, ибо этим бедствиям можно противостоять
с помощью такой же силы, т.е. физической силы или рассудка
и
смыш-
136
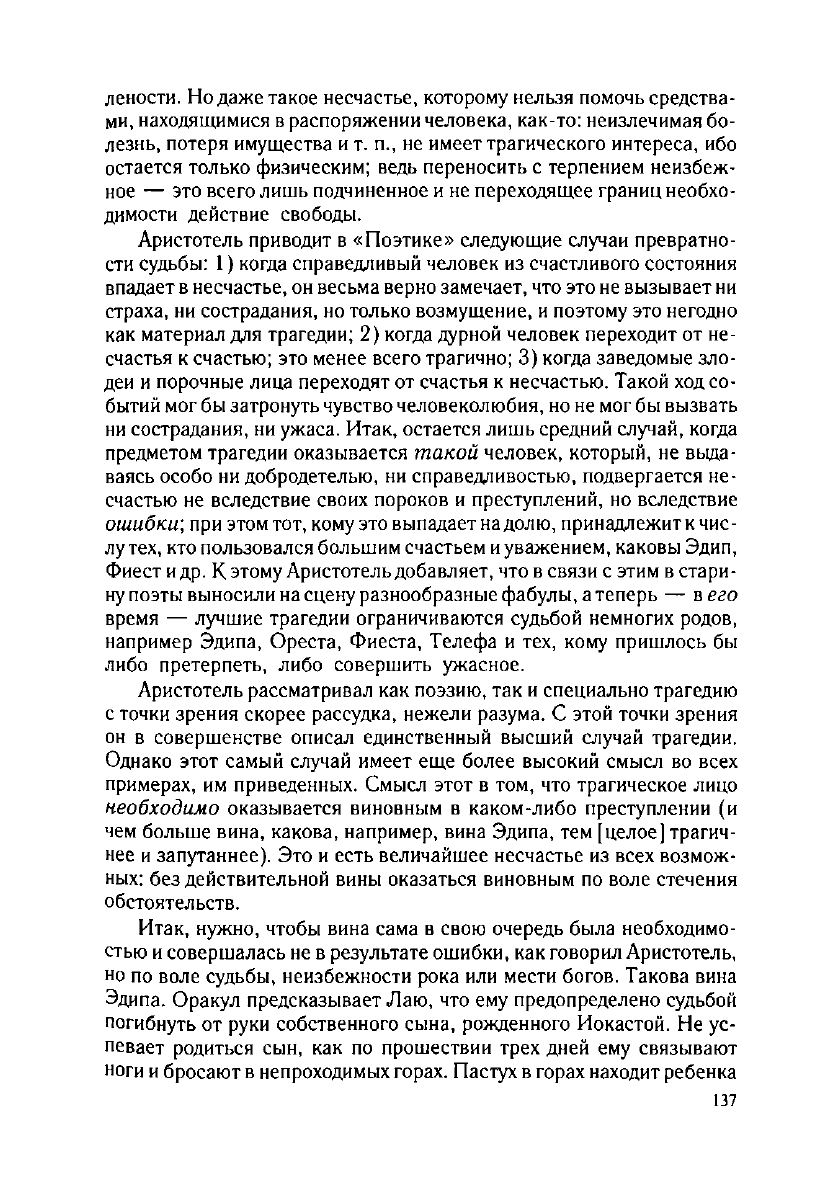
лености. Но даже такое несчастье, которому нельзя помочь средства-
ми, находящимися в распоряжении человека, как-то: неизлечимая бо-
лезнь, потеря имущества и т. п., не имеет трагического интереса, ибо
остается только физическим; ведь переносить с терпением неизбеж-
ное — это всего лишь подчиненное и не переходящее границ необхо-
димости действие свободы.
Аристотель приводит в «Поэтике» следующие случаи превратно-
сти судьбы: 1) когда справедливый человек из счастливого состояния
впадает в несчастье, он весьма верно замечает, что это не вызывает ни
страха, ни сострадания, но только возмущение, и поэтому это негодно
как материал для трагедии; 2) когда дурной человек переходит от не-
счастья к счастью; это менее всего трагично; 3) когда заведомые зло-
деи и порочные лица переходят от счастья к несчастью. Такой ход со-
бытий мог бы затронуть чувство человеколюбия, но не мог бы вызвать
ни сострадания, ни ужаса. Итак, остается лишь средний случай, когда
предметом трагедии оказывается такой человек, который, не выда-
ваясь особо ни добродетелью, ни справедливостью, подвергается не-
счастью не вследствие своих пороков и преступлений, но вследствие
ошибки; при этом тот, кому это выпадает
на
долю, принадлежит
к
чис-
лу тех,
кто пользовался большим счастьем
и
уважением, каковы Эдип,
Фиест
и др.
К этому Аристотель добавляет, что в связи с этим в стари-
ну
поэты выносили на сцену разнообразные фабулы,
а
теперь — в его
время — лучшие трагедии ограничиваются судьбой немногих родов,
например Эдипа, Ореста, Фиеста, Телефа и тех, кому пришлось бы
либо претерпеть, либо совершить ужасное.
Аристотель рассматривал как поэзию, так и специально трагедию
с точки зрения скорее рассудка, нежели разума. С этой точки зрения
он в совершенстве описал единственный высший случай трагедии.
Однако этот самый случай имеет еще более высокий смысл во всех
примерах, им приведенных. Смысл этот в том, что трагическое лицо
необходимо оказывается виновным в каком-либо преступлении (и
чем больше вина, какова, например, вина Эдипа, тем [целое] трагич-
нее и запутаннее). Это и есть величайшее несчастье из всех возмож-
ных: без действительной вины оказаться виновным по воле стечения
обстоятельств.
Итак, нужно, чтобы вина сама в свою очередь была необходимо-
стью
и
совершалась не в результате ошибки, как говорил Аристотель,
но по воле судьбы, неизбежности рока или мести богов. Такова вина
Эдипа. Оракул предсказывает Лаю, что ему предопределено судьбой
погибнуть от руки собственного сына, рожденного Иокастой. Не ус-
певает родиться сын, как по прошествии трех дней ему связывают
ноги
и
бросают в непроходимых горах. Пастух в горах находит ребенка
137
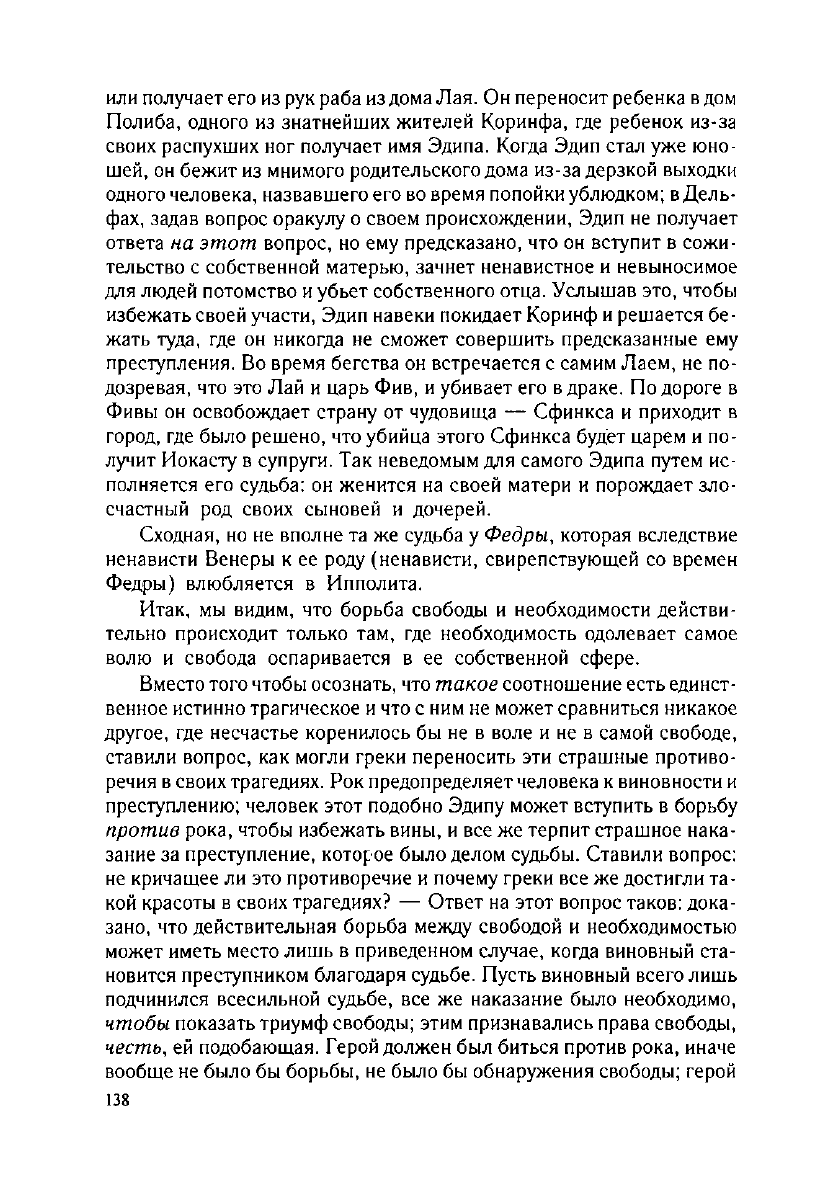
или получает его из рук раба
из
дома Лая. Он переносит ребенка
в
дом
Полиба, одного из знатнейших жителей Коринфа, где ребенок из-за
своих распухших ног получает имя Эдипа. Когда Эдип стал уже юно-
шей, он бежит из мнимого родительского дома из-за дерзкой выходки
одного человека, назвавшего его во время попойки ублюдком;
в
Дель-
фах, задав вопрос оракулу о своем происхождении, Эдип не получает
ответа на этот вопрос, но ему предсказано, что он вступит в сожи-
тельство с собственной матерью, зачнет ненавистное и невыносимое
для людей потомство
и
убьет собственного отца. Услышав это, чтобы
избежать своей участи, Эдип навеки покидает Коринф и решается бе-
жать туда, где он никогда не сможет совершить предсказанные ему
преступления. Во время бегства он встречается с самим Лаем, не по-
дозревая, что это Лай и царь Фив, и убивает его в драке. По дороге в
Фивы он освобождает страну от чудовища — Сфинкса и приходит в
город, где было решено, что убийца этого Сфинкса будет царем и по-
лучит Иокасту в супруги. Так неведомым для самого Эдипа путем ис-
полняется его судьба: он женится на своей матери и порождает зло-
счастный род своих сыновей и дочерей.
Сходная, но не вполне та же судьба у Федры, которая вследствие
ненависти Венеры к ее роду (ненависти, свирепствующей со времен
Федры) влюбляется в Ипполита.
Итак, мы видим, что борьба свободы и необходимости действи-
тельно происходит только там, где необходимость одолевает самое
волю и свобода оспаривается в ее собственной сфере.
Вместо того чтобы осознать, что такое соотношение есть единст-
венное истинно трагическое и что с ним не может сравниться никакое
другое, где несчастье коренилось бы не в воле и не в самой свободе,
ставили вопрос, как могли греки переносить эти страшные противо-
речия в своих трагедиях. Рок предопределяет человека к виновности и
преступлению; человек этот подобно Эдипу может вступить в борьбу
против рока, чтобы избежать вины, и все же терпит страшное нака-
зание за преступление, которое было делом судьбы. Ставили вопрос:
не кричащее ли это противоречие и почему греки все же достигли та-
кой красоты в своих трагедиях? — Ответ на этот вопрос таков: дока-
зано, что действительная борьба между свободой и необходимостью
может иметь место лишь в приведенном случае, когда виновный ста-
новится преступником благодаря судьбе. Пусть виновный всего лишь
подчинился всесильной судьбе, все же наказание было необходимо,
чтобы показать триумф свободы; этим признавались права свободы,
честь, ей подобающая. Герой должен был биться против рока, иначе
вообще не было бы борьбы, не было бы обнаружения свободы; герой
138
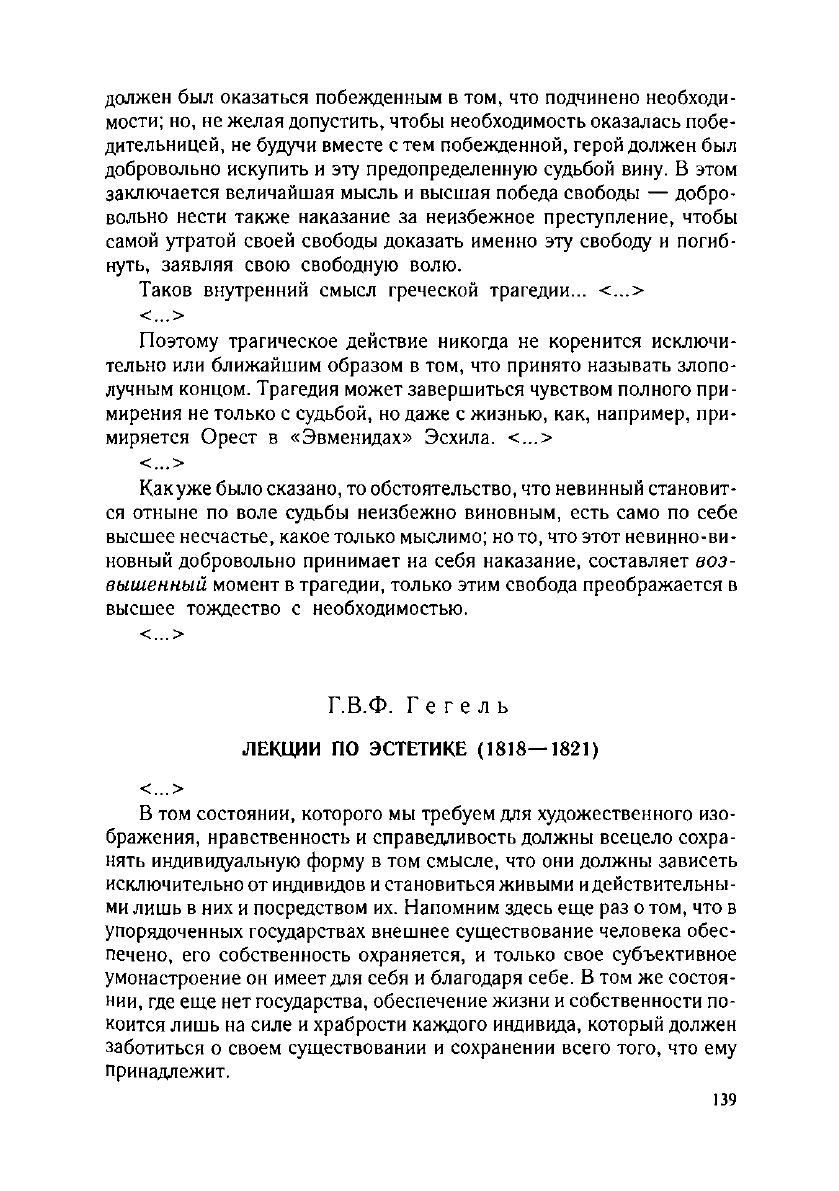
должен был оказаться побежденным в том, что подчинено необходи-
мости; но, не желая допустить, чтобы необходимость оказалась побе-
дительницей, не будучи вместе с тем побежденной, герой должен был
добровольно искупить и эту предопределенную судьбой вину. В этом
заключается величайшая мысль и высшая победа свободы — добро-
вольно нести также наказание за неизбежное преступление, чтобы
самой утратой своей свободы доказать именно эту свободу и погиб-
нуть, заявляя свою свободную волю.
Таков внутренний смысл греческой трагедии... <...>
<...>
Поэтому трагическое действие никогда не коренится исключи-
тельно или ближайшим образом в том, что принято называть злопо-
лучным концом. Трагедия может завершиться чувством полного при-
мирения не только с судьбой, но даже с жизнью, как, например, при-
миряется Орест в «Эвменидах» Эсхила. <...>
<...>
Как
уже было сказано, то обстоятельство, что невинный становит-
ся отныне по воле судьбы неизбежно виновным, есть само по себе
высшее несчастье, какое только мыслимо; но то, что этот невинно-ви-
новный добровольно принимает на себя наказание, составляет воз-
вышенный момент в трагедии, только этим свобода преображается в
высшее тождество с необходимостью.
<...>
Г.В.Ф. Гегель
ЛЕКЦИИ ПО ЭСТЕТИКЕ (1818—1821)
<...>
В том состоянии, которого мы требуем для художественного изо-
бражения, нравственность и справедливость должны всецело сохра-
нять индивидуальную форму в том смысле, что они должны зависеть
исключительно от индивидов
и
становиться живыми
и
действительны-
ми лишь в них и посредством их. Напомним здесь еще раз о том, что в
упорядоченных государствах внешнее существование человека обес-
печено, его собственность охраняется, и только свое субъективное
умонастроение он имеет для себя и благодаря себе. В том же состоя-
нии, где еще нет государства, обеспечение жизни и собственности по-
коится лишь на силе и храбрости каждого индивида, который должен
заботиться о своем существовании и сохранении всего того, что ему
принадлежит.
139
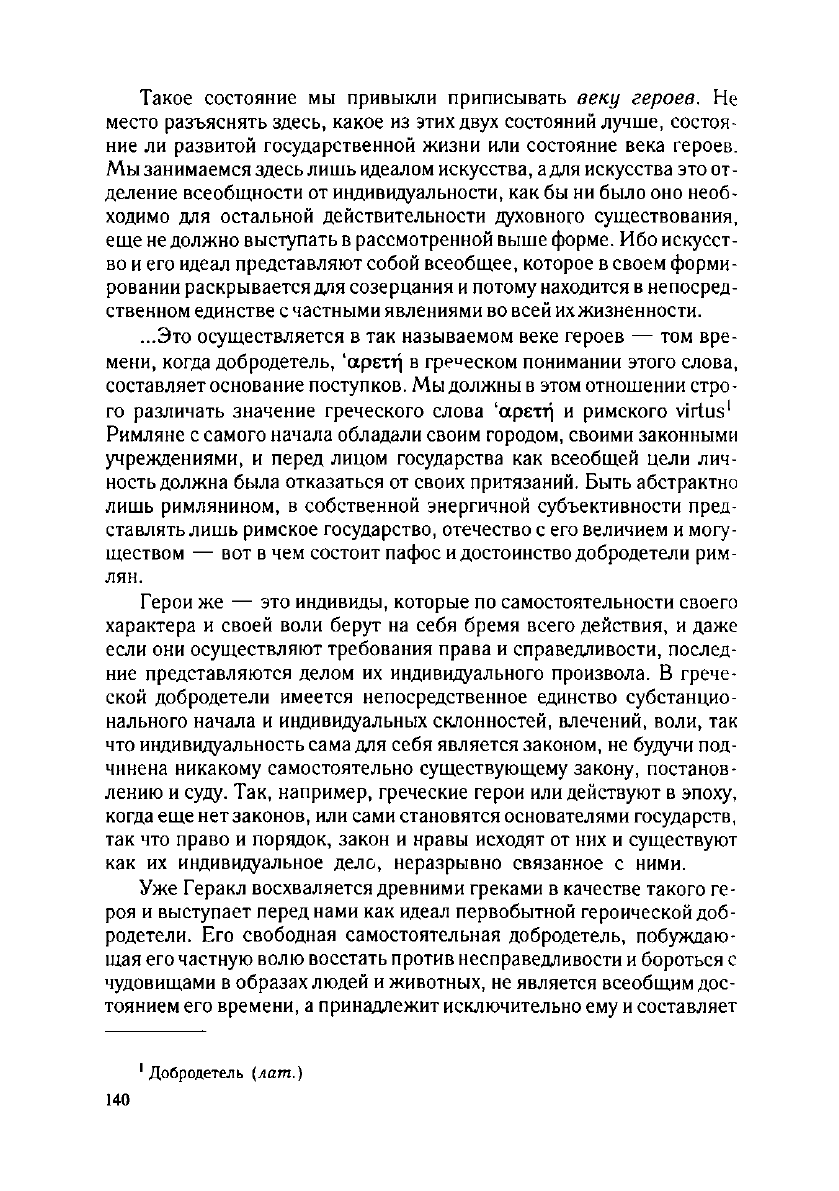
Такое состояние мы привыкли приписывать веку героев. Не
место разъяснять здесь, какое из этих двух состояний лучше, состоя-
ние ли развитой государственной жизни или состояние века героев.
Мы занимаемся здесь лишь идеалом искусства,
а для
искусства это от-
деление всеобщности от индивидуальности, как бы ни было оно необ-
ходимо для остальной действительности духовного существования,
еще
не
должно выступать в рассмотренной выше форме. Ибо искусст-
во и его идеал представляют собой всеобщее, которое в своем форми-
ровании раскрывается
для
созерцания
и
потому находится в непосред-
ственном единстве с частными явлениями во всей
их
жизненности.
...Это осуществляется в так называемом веке героев — том вре-
мени, когда добродетель, 'аретп в греческом понимании этого слова,
составляет основание поступков. Мы должны в этом отношении стро-
го различать значение греческого слова 'аретт! и римского virtus
1
Римляне с самого начала обладали своим городом, своими законными
учреждениями, и перед лицом государства как всеобщей цели лич-
ность должна была отказаться от своих притязаний. Быть абстрактно
лишь римлянином, в собственной энергичной субъективности пред-
ставлять лишь римское государство, отечество с его величием и могу-
ществом — вот в чем состоит пафос
и
достоинство добродетели рим-
лян.
Герои же — это индивиды, которые по самостоятельности своего
характера и своей воли берут на себя бремя всего действия, и даже
если они осуществляют требования права и справедливости, послед-
ние представляются делом их индивидуального произвола. В грече-
ской добродетели имеется непосредственное единство субстанцио-
нального начала и индивидуальных склонностей, влечений, воли, так
что индивидуальность сама для себя является законом, не будучи под-
чинена никакому самостоятельно существующему закону, постанов-
лению и суду. Так, например, греческие герои или действуют в эпоху,
когда еще нет законов, или сами становятся основателями государств,
так что право и порядок, закон и нравы исходят от них и существуют
как их индивидуальное дело, неразрывно связанное с ними.
Уже Геракл восхваляется древними греками в качестве такого ге-
роя и выступает перед нами как идеал первобытной героической доб-
родетели. Его свободная самостоятельная добродетель, побуждаю-
щая его частную волю восстать против несправедливости
и
бороться с
чудовищами в образах людей
и
животных, не является всеобщим дос-
тоянием его времени, а принадлежит исключительно ему
и
составляет
Добродетель (лат.)
140
