Николаев П.А. (ред.), Эсалнек А.Я. Хрестоматия по введению в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

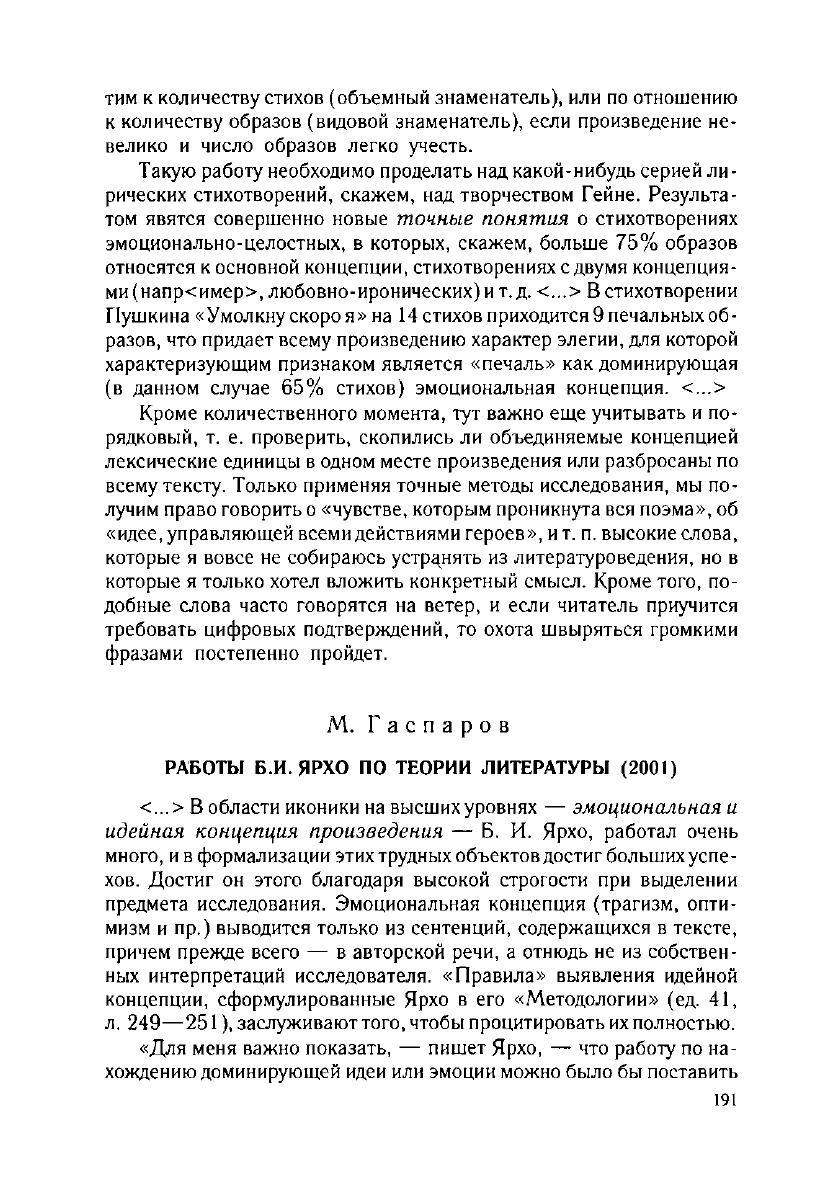
тим к количеству стихов (объемный знаменатель), или по отношению
к количеству образов (видовой знаменатель), если произведение не-
велико и число образов легко учесть.
Такую работу необходимо проделать над какой-нибудь серией ли-
рических стихотворений, скажем, над творчеством Гейне. Результа-
том явятся совершенно новые точные понятия о стихотворениях
эмоционально-целостных, в которых, скажем, больше 75% образов
относятся к основной концепции, стихотворениях с двумя концепция-
ми (напр<имер>, любовно-иронических)
и
т.
д.
<...> В стихотворении
Пушкина «Умолкну скоро я» на 14 стихов приходится 9 печальных об-
разов, что придает всему произведению характер элегии, для которой
характеризующим признаком является «печаль» как доминирующая
(в данном случае 65% стихов) эмоциональная концепция. <...>
Кроме количественного момента, тут важно еще учитывать и по-
рядковый, т. е. проверить, скопились ли объединяемые концепцией
лексические единицы в одном месте произведения или разбросаны по
всему тексту. Только применяя точные методы исследования, мы по-
лучим право говорить о «чувстве, которым проникнута вся поэма», об
«идее, управляющей всеми действиями героев»,
и
т. п. высокие слова,
которые я вовсе не собираюсь устранять из литературоведения, но в
которые я только хотел вложить конкретный смысл. Кроме того, по-
добные слова часто говорятся на ветер, и если читатель приучится
требовать цифровых подтверждений, то охота швыряться громкими
фразами постепенно пройдет.
М. Гаспаров
РАБОТЫ Б.И. ЯРХО ПО ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ (2001)
<...> В области иконики на высших уровнях — эмоциональная и
идейная концепция произведения — Б. И. Ярхо, работал очень
много, и в формализации этих трудных объектов достиг больших успе-
хов. Достиг он этого благодаря высокой строгости при выделении
предмета исследования. Эмоциональная концепция (трагизм, опти-
мизм и пр.) выводится только из сентенций, содержащихся в тексте,
причем прежде всего — в авторской речи, а отнюдь не из собствен-
ных интерпретаций исследователя. «Правила» выявления идейной
концепции, сформулированные Ярхо в его «Методологии» (ед. 41,
л. 249—251), заслуживают того, чтобы процитировать их полностью.
«Для меня важно показать, — пишет Ярхо, — что работу по на-
ховдению доминирующей идеи или эмоции можно было бы поставить
191
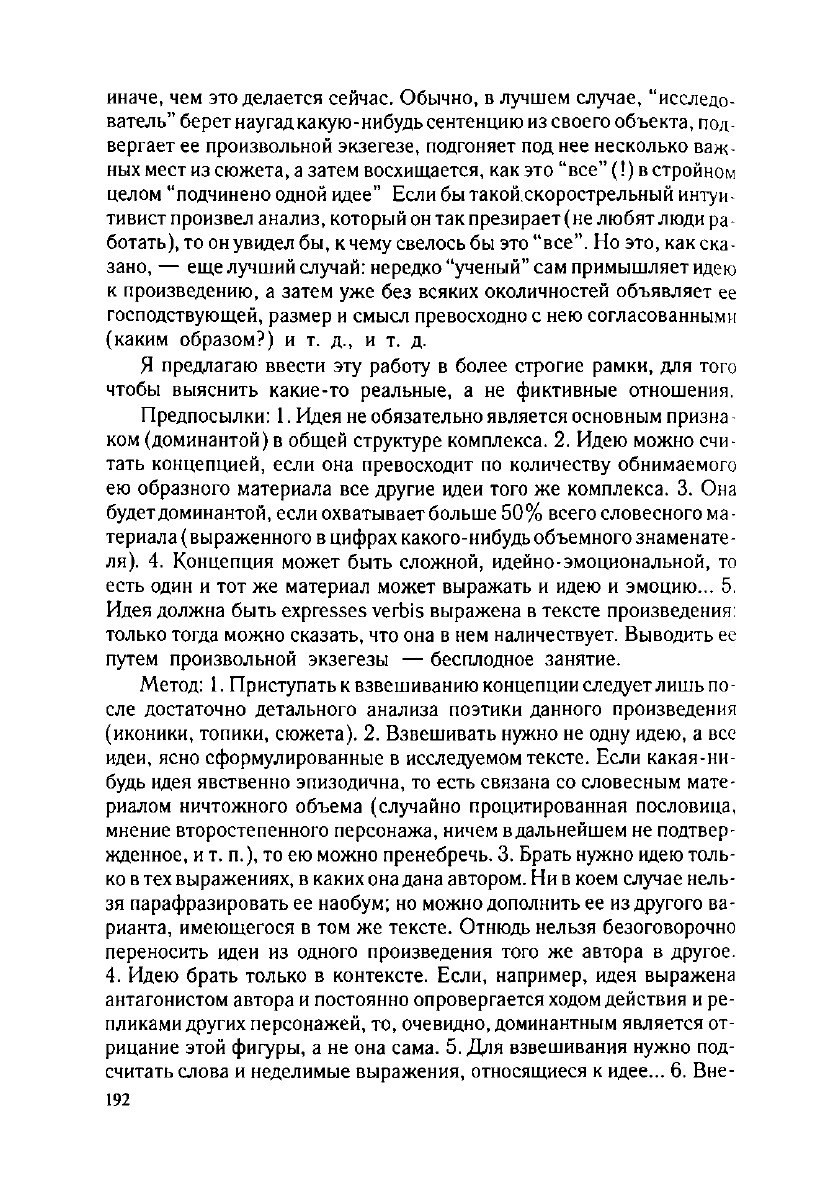
иначе, чем это делается сейчас. Обычно, в лучшем случае, "исследо-
ватель" берет наугад какую-нибудь сентенцию из своего объекта, под-
вергает ее произвольной экзегезе, подгоняет под нее несколько важ-
ных мест из сюжета, а затем восхищается, как это "все" (!) в стройном
целом "подчинено одной идее" Если бы такой скорострельный интуи-
тивист произвел анализ, который он так презирает (не любят люди ра-
ботать), то он увидел бы,
к
чему свелось бы это "все". Но это, как ска-
зано, — еще лучший случай: нередко "ученый" сам примышляет идею
к произведению, а затем уже без всяких околичностей объявляет ее
господствующей, размер и смысл превосходно с нею согласованными
(каким образом?) и т. д., и т. д.
Я предлагаю ввести эту работу в более строгие рамки, для того
чтобы выяснить какие-то реальные, а не фиктивные отношения.
Предпосылки: 1. Идея не обязательно является основным призна-
ком (доминантой) в общей структуре комплекса. 2. Идею можно счи-
тать концепцией, если она превосходит по количеству обнимаемого
ею образного материала все другие идеи того же комплекса. 3. Она
будет доминантой, если охватывает больше 50% всего словесного ма-
териала (выраженного в цифрах какого-нибудь объемного знаменате-
ля). 4. Концепция может быть сложной, идейно-эмоциональной, то
есть один и тот же материал может выражать и идею и эмоцию... 5.
Идея должна быть expresses verbis выражена в тексте произведения:
только тогда можно сказать, что она в нем наличествует. Выводить ее
путем произвольной экзегезы — бесплодное занятие.
Метод: 1. Приступать
к
взвешиванию концепции следует л ишь по-
сле достаточно детального анализа поэтики данного произведения
(иконики, топики, сюжета). 2. Взвешивать нужно не одну идею, а все
идеи, ясно сформулированные в исследуемом тексте. Если какая-ни-
будь идея явственно эпизодична, то есть связана со словесным мате-
риалом ничтожного объема (случайно процитированная пословица,
мнение второстепенного персонажа, ничем
в
дальнейшем не подтвер-
>вденное,
и
т. п.), то ею можно пренебречь. 3. Брать нужно идею толь-
ко
в
тех выражениях, в каких
она дана
автором. Ни в коем случае нель-
зя парафразировать ее наобум; но можно дополнить ее из другого ва-
рианта, имеющегося в том же тексте. Отнюдь нельзя безоговорочно
переносить идеи из одного произведения того же автора в другое.
4. Идею брать только в контексте. Если, например, идея выражена
антагонистом автора и постоянно опровергается ходом действия и ре-
пликами других персонажей, то, очевидно, доминантным является от-
рицание этой фигуры, а не она сама. 5. Для взвешивания нужно под-
считать слова и неделимые выражения, относящиеся к идее... 6. Вне-
192
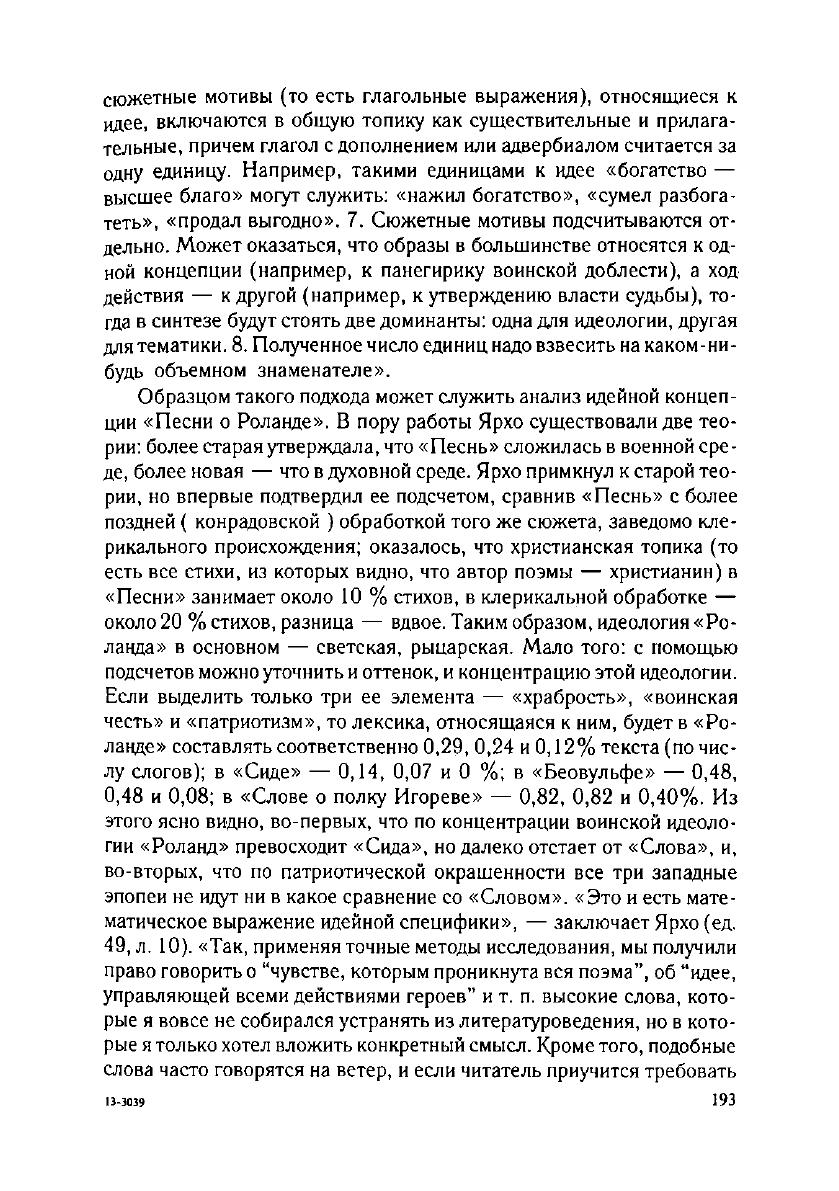
сюжетные мотивы (то есть глагольные выражения), относящиеся к
идее, включаются в общую топику как существительные и прилага-
тельные, причем глагол с дополнением или адвербиалом считается за
одну единицу. Например, такими единицами к идее «богатство —
высшее благо» могут служить: «нажил богатство», «сумел разбога-
теть», «продал выгодно». 7. Сюжетные мотивы подсчитываются от-
дельно. Может оказаться, что образы в большинстве относятся к од-
ной концепции (например, к панегирику воинской доблести), а ход
действия — к другой (например, к утверждению власти судьбы), то-
гда в синтезе будут стоять две доминанты: одна для идеологии, другая
для тематики. 8. Полученное число единиц надо взвесить на каком-ни-
будь объемном знаменателе».
Образцом такого подхода может служить анализ идейной концеп-
ции «Песни о Роланде». В пору работы Ярхо существовали две тео-
рии: более старая утверждала, что «Песнь» сложилась в военной сре-
де, более новая — что
в
духовной среде. Ярхо примкнул к старой тео-
рии, но впервые подтвердил ее подсчетом, сравнив «Песнь» с более
поздней ( конрадовской ) обработкой того же сюжета, заведомо кле-
рикального происхождения; оказалось, что христианская топика (то
есть все стихи, из которых видно, что автор поэмы — христианин) в
«Песни» занимает около 10 % стихов, в клерикальной обработке —
около 20 % стихов, разница — вдвое. Таким образом, идеология «Ро-
ланда» в основном — светская, рыцарская. Мало того: с помощью
подсчетов можно уточнить
и
оттенок, и концентрацию этой идеологии.
Если выделить только три ее элемента — «храбрость», «воинская
честь» и «патриотизм», то лексика, относящаяся к ним, будет в «Ро-
ланде» составлять соответственно 0,29, 0,24 и 0,12% текста (по чис-
лу слогов); в «Сиде» — 0,14, 0,07 и 0 %; в «Беовульфе» — 0,48,
0,48 и 0,08; в «Слове о полку Игореве» — 0,82, 0,82 и 0,40%. Из
этого ясно видно, во-первых, что по концентрации воинской идеоло-
гии «Роланд» превосходит «Сида», но далеко отстает от «Слова», и,
во-вторых, что по патриотической окрашенности все три западные
эпопеи не идут ни в какое сравнение со «Словом». «Это и есть мате-
матическое выражение идейной специфики», — заключает Ярхо (ед.
49, л. 10). «Так, применяя точные методы исследования, мы получили
право говорить о "чувстве, которым проникнута вся поэма", об "идее,
управляющей всеми действиями героев" и т. п. высокие слова, кото-
рые я вовсе не собирался устранять из литературоведения, но в кото-
рые
я
только хотел вложить конкретный смысл. Кроме того, подобные
слова часто говорятся на ветер, и если читатель приучится требовать
13-3039 193
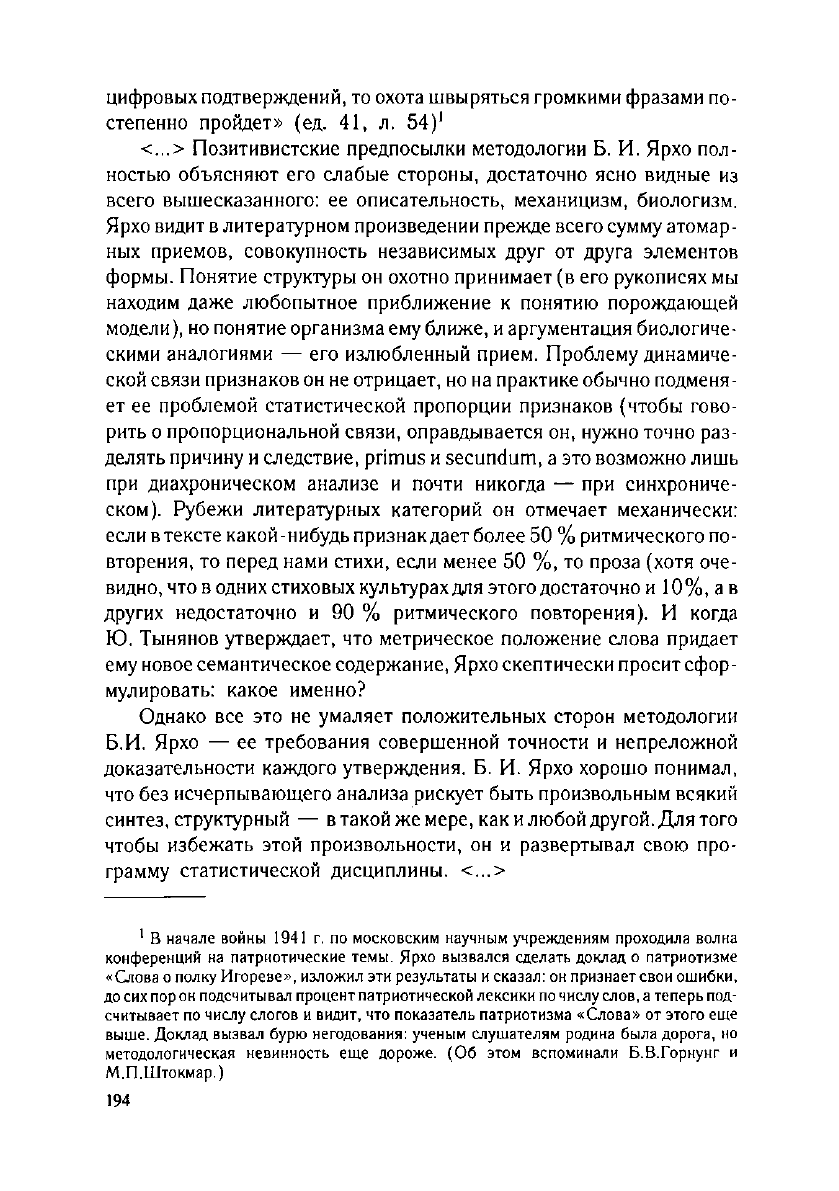
цифровых подтверждений, то охота швыряться громкими фразами по-
степенно пройдет» (ед. 41, л. 54)
1
<...> Позитивистские предпосылки методологии Б. И. Ярхо пол-
ностью объясняют его слабые стороны, достаточно ясно видные из
всего вышесказанного: ее описательность, механицизм, биологизм.
Ярхо видит
в
литературном произведении прежде всего сумму атомар-
ных приемов, совокупность независимых друг от друга элементов
формы. Понятие структуры он охотно принимает (в его рукописях мы
находим даже любопытное приближение к понятию порождающей
модели), но понятие организма ему ближе,
и
аргументация биологиче-
скими аналогиями — его излюбленный прием. Проблему динамиче-
ской связи признаков он не отрицает, но на практике обычно подменя-
ет ее проблемой статистической пропорции признаков (чтобы гово-
рить о пропорциональной связи, оправдывается он, нужно точно раз-
делять причину
и
следствие, primus и secundum, а это возможно лишь
при диахроническом анализе и почти никогда — при синхрониче-
ском). Рубежи литературных категорий он отмечает механически:
если
в
тексте какой-нибудь признак дает более 50 % ритмического по-
вторения, то перед нами стихи, если менее 50 %, то проза (хотя оче-
видно, что в одних стиховых культурах для этого достаточно
и
10%, а в
других недостаточно и 90 % ритмического повторения). И когда
Ю. Тынянов утверждает, что метрическое положение слова придает
ему новое семантическое содержание, Ярхо скептически просит сфор-
мулировать: какое именно?
Однако все это не умаляет положительных сторон методологии
Б.И. Ярхо — ее требования совершенной точности и непреложной
доказательности каждого утверждения. Б. И. Ярхо хорошо понимал,
что без исчерпывающего анализа рискует быть произвольным всякий
синтез, структурный —
в
такой же мере, как
и
любой
другой.
Для того
чтобы избежать этой произвольности, он и развертывал свою про-
грамму статистической дисциплины. <...>
1
В начале войны 1941 г. по московским научным учреждениям проходила волна
конференций на патриотические темы. Ярхо вызвался сделать доклад о патриотизме
«Слова о полку Игореве», изложил эти результаты и сказал: он признает свои ошибки,
до сих пор он подсчитывал процент патриотической лексики по числу слов,
а
теперь под-
считывает по числу слогов и видит, что показатель патриотизма «Слова» от этого еще
выше. Доклад вызвал бурю негодования: ученым слушателям родина была дорога, но
методологическая невинность еще дороже. (Об этом вспоминали Б.В.Горнунг и
М.П.Штокмар.)
194
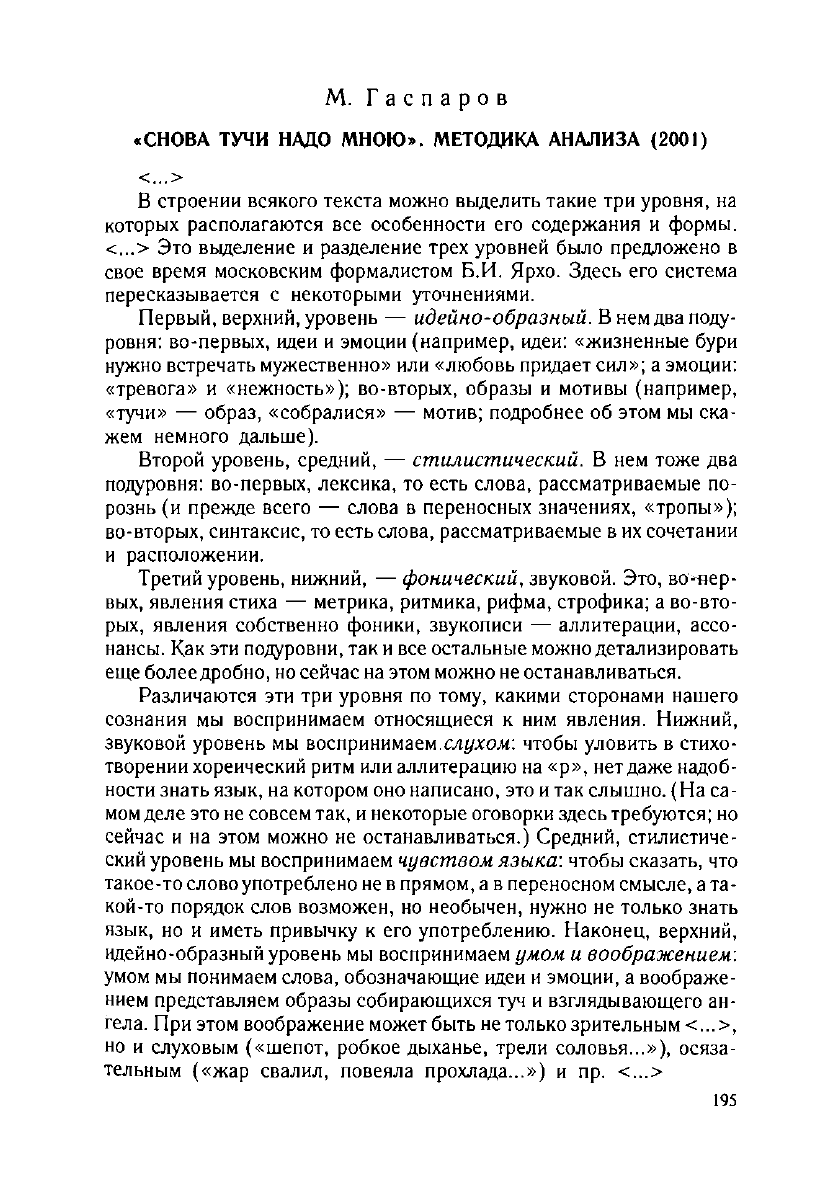
М. Гаспаров
«СНОВА ТУЧИ НАДО МНОЮ». МЕТОДИКА АНАЛИЗА (2001)
<...>
В строении всякого текста можно выделить такие три уровня, на
которых располагаются все особенности его содержания и формы.
<...> Это выделение и разделение трех уровней было предложено в
свое время московским формалистом Б.И. Ярхо. Здесь его система
пересказывается с некоторыми уточнениями.
Первый, верхний, уровень — идейно-образный. В нем два поду-
ровня: во-первых, идеи и эмоции (например, идеи: «жизненные бури
нужно встречать мужественно» или «любовь придает сил»; а эмоции:
«тревога» и «нежность»); во-вторых, образы и мотивы (например,
«тучи» — образ, «собралися» — мотив; подробнее об этом мы ска-
жем немного дальше).
Второй уровень, средний, — стилистический. В нем тоже два
подуровня: во-первых, лексика, то есть слова, рассматриваемые по-
рознь (и прежде всего — слова в переносных значениях, «тропы»);
во-вторых, синтаксис, то есть слова, рассматриваемые в их сочетании
и расположении.
Третий уровень, нижний, — фонический, звуковой. Это, во^яер-
вых, явления стиха — метрика, ритмика, рифма, строфика; а во-вто-
рых, явления собственно фоники, звукописи — аллитерации, ассо-
нансы. Как эти подуровни, так
и
все остальные можно детализировать
еще более дробно, но сейчас на этом можно не останавливаться.
Различаются эти три уровня по тому, какими сторонами нашего
сознания мы воспринимаем относящиеся к ним явления. Нижний,
звуковой уровень мы воспринимаем.слухом: чтобы уловить в стихо-
творении хореический ритм или аллитерацию на «р», нет даже надоб-
ности знать язык, на котором оно написано, это
и
так слышно. (На са-
мом деле это не совсем так, и некоторые оговорки здесь требуются; но
сейчас и на этом можно не останавливаться.) Средний, стилистиче-
ский уровень мы воспринимаем чувством языка: чтобы сказать, что
такое-то слово употреблено не в прямом, а в переносном смысле,
а
та-
кой-то порядок слов возможен, но необычен, нужно не только знать
язык, но и иметь привычку к его употреблению. Наконец, верхний,
идейно-образный уровень мы воспринимаем умом и воображением:
умом мы понимаем слова, обозначающие идеи и эмоции, а воображе-
нием представляем образы собирающихся туч и взглядывающего ан-
гела. При этом воображение может быть не только зрительным <...>,
но и слуховым («шепот, робкое дыханье, трели соловья...»), осяза-
тельным («жар свалил, повеяла прохлада...») и пр. <...>
195
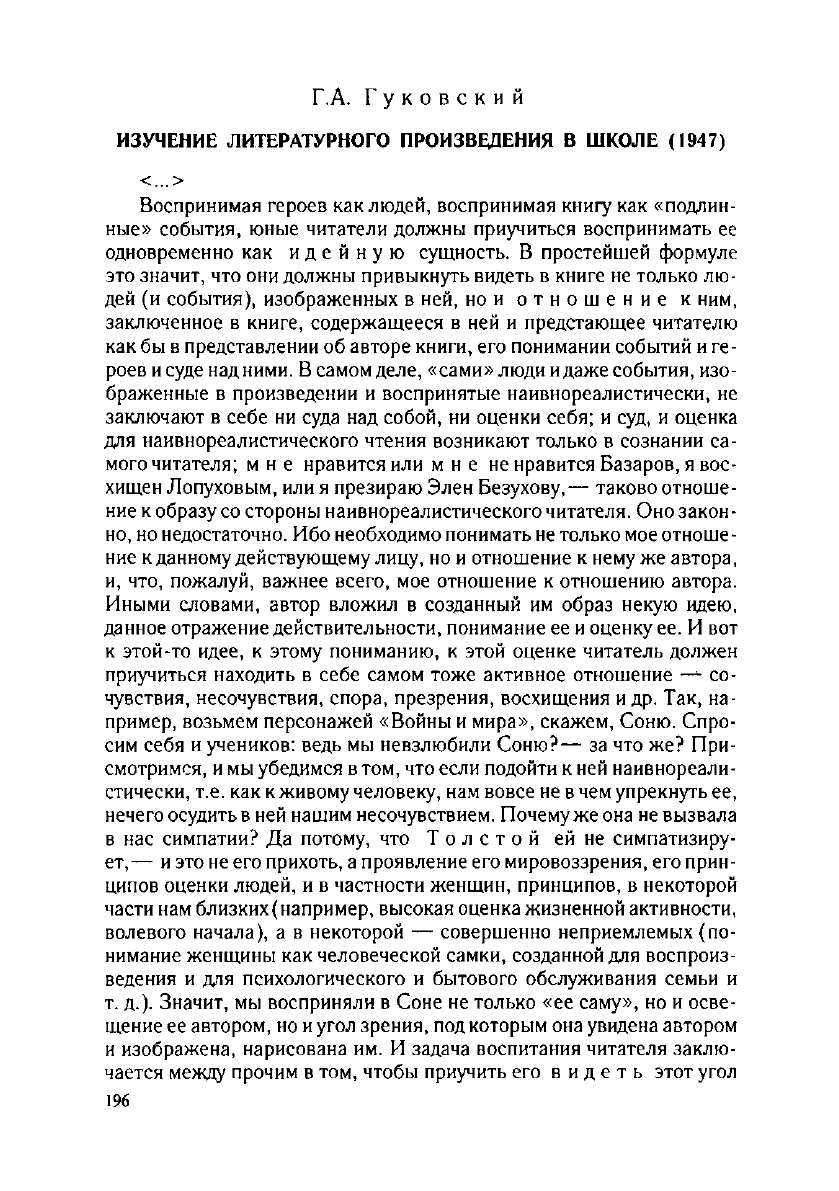
Г.А. Гуковский
ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ (1947)
<...>
Воспринимая героев как людей, воспринимая книгу как «подлин-
ные» события, юные читатели должны приучиться воспринимать ее
одновременно как идейную сущность. В простейшей формуле
это значит, что они должны привыкнуть видеть в книге не только лю-
дей (и события), изображенных в ней, но и отношение к ним,
заключенное в книге, содержащееся в ней и предстающее читателю
как бы в представлении об авторе книги, его понимании событий и ге-
роев
и
суде над
ними.
В самом деле, «сами» люди
и
даже события, изо-
браженные в произведении и воспринятые наивнореалистически, не
заключают в себе ни суда над собой, ни оценки себя; и суд, и оценка
для наивнореалистического чтения возникают только в сознании са-
мого читателя; мне нравится или мне не нравится Базаров, я вос-
хищен Лопуховым, или я презираю Элен Безухову,— таково отноше-
ние к образу со стороны наивнореалистического читателя. Оно закон-
но, но недостаточно. Ибо необходимо понимать не только мое отноше-
ние
к
данному действующему лицу, но и отношение к нему же автора,
и, что, пожалуй, важнее всего, мое отношение к отношению автора.
Иными словами, автор вложил в созданный им образ некую идею,
данное отражение действительности, понимание ее и оценку ее. И вот
к этой-то идее, к этому пониманию, к этой оценке читатель должен
приучиться находить в себе самом тоже активное отношение со-
чувствия, несочувствия, спора, презрения, восхищения
и
др. Так, на-
пример, возьмем персонажей «Войны и мира», скажем, Соню. Спро-
сим себя и учеников: ведь мы невзлюбили Соню?— за что же? При-
смотримся, и мы убедимся в том, что если подойти к ней наивнореали-
стически, т.е. как
к
живому человеку, нам вовсе не в чем упрекнуть ее,
нечего осудить в ней нашим несочувствием. Почему же она не вызвала
в нас симпатии? Да потому, что Толстой ей не симпатизиру-
ет,—
и
это не его прихоть, а проявление его мировоззрения, его прин-
ципов оценки людей, и в частности женщин, принципов, в некоторой
части нам близких (например, высокая оценка жизненной активности,
волевого начала), а в некоторой — совершенно неприемлемых (по-
нимание женщины как человеческой самки, созданной для воспроиз-
ведения и для психологического и бытового обслуживания семьи и
т. д.). Значит, мы восприняли в Соне не только «ее саму», но и осве-
щение ее автором, но
и
угол зрения, под которым она увидена автором
и изображена, нарисована им. И задача воспитания читателя заклю-
чается между прочим в том, чтобы приучить его видеть этот угол
196
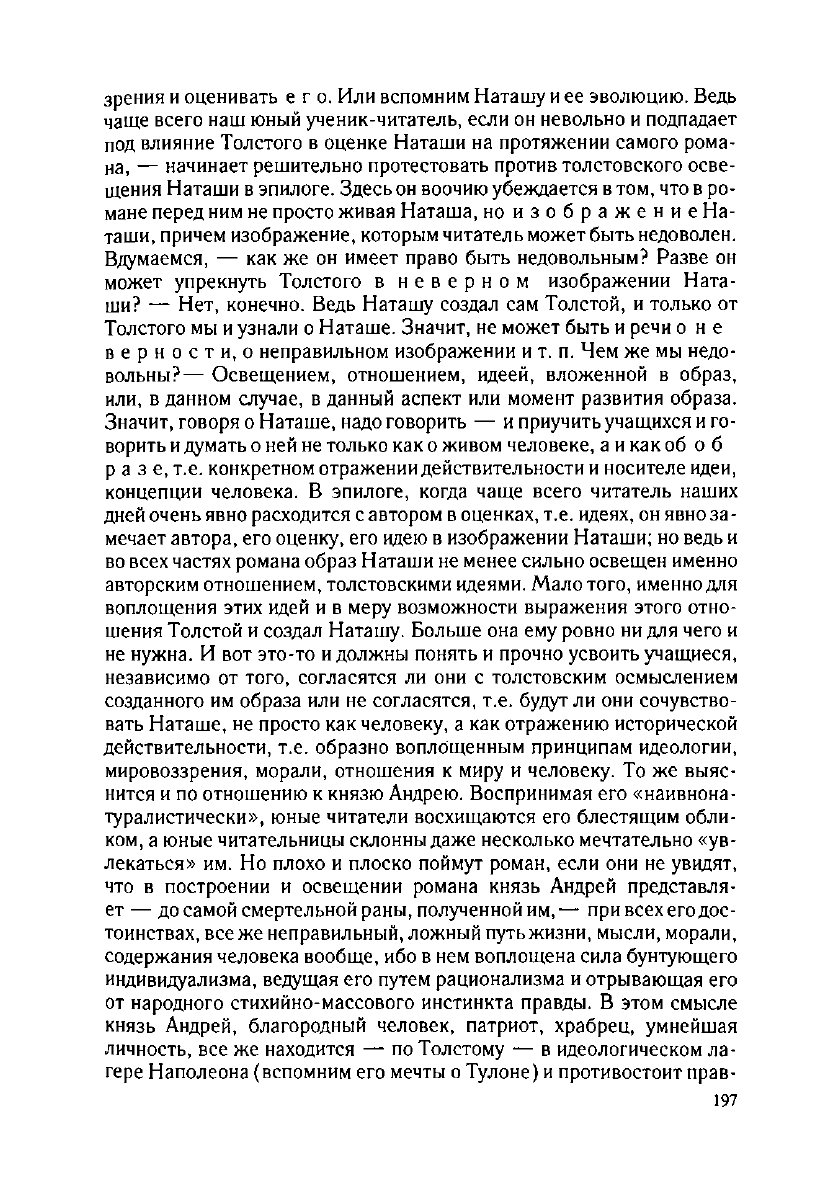
зрения
и
оценивать его. Или вспомним Наташу
и
ее эволюцию. Ведь
чаще всего наш юный ученик-читатель, если он невольно и подпадает
под влияние Толстого в оценке Наташи на протяжении самого рома-
на, — начинает решительно протестовать против толстовского осве-
щения Наташи в эпилоге. Здесь он воочию убеждается в том, что в ро-
мане передним не просто живая Наташа, но изображение На-
таши, причем изображение, которым читатель может быть недоволен.
Вдумаемся, — как же он имеет право быть недовольным? Разве он
может упрекнуть Толстого в неверном изображении Ната-
ши? — Нет, конечно. Ведь Наташу создал сам Толстой, и только от
Толстого мы
и
узнали о Наташе. Значит, не может быть
и
речи о н е
верности, о неправильном изображении и т. п. Чем же мы недо-
вольны?— Освещением, отношением, идеей, вложенной в образ,
или, в данном случае, в данный аспект или момент развития образа.
Значит, говоря о Наташе, надо говорить — и приучить учащихся
и
го-
ворить
и
думать о ней не только как о живом человеке, а и как об о б
разе, т.е. конкретном отражении действительности
и
носителе идеи,
концепции человека. В эпилоге, когда чаще всего читатель наших
дней очень явно расходится с автором в оценках, т.е. идеях, он явно за-
мечает автора, его оценку, его идею в изображении Наташи; но ведь и
во всех частях романа образ Наташи не менее сильно освещен именно
авторским отношением, толстовскими идеями. Мало того, именно для
воплощения этих идей и в меру возможности выражения этого отно-
шения Толстой и создал Наташу. Больше она ему ровно ни для чего и
не нужна. И вот это-то
и
должны понять и прочно усвоить учащиеся,
независимо от того, согласятся ли они с толстовским осмыслением
созданного им образа или не согласятся, т.е. будут ли они сочувство-
вать Наташе, не просто как человеку, а как отражению исторической
действительности, т.е. образно воплощенным принципам идеологии,
мировоззрения, морали, отношения к миру и человеку. То же выяс-
нится и по отношению к князю Андрею. Воспринимая его «наивнона-
туралистически», юные читатели восхищаются его блестящим обли-
ком, а юные читательницы склонны даже несколько мечтательно «ув-
лекаться» им. Но плохо и плоско поймут роман, если они не увидят,
что в построении и освещении романа князь Андрей представля-
ет — до самой смертельной раны, полученной им,— при всех его дос-
тоинствах, все же неправильный, ложный путь
жизни,
мысли, морали,
содержания человека вообще, ибо в нем воплощена сила бунтующего
индивидуализма, ведущая его путем рационализма и отрывающая его
от народного стихийно-массового инстинкта правды. В этом смысле
князь Андрей, благородный человек, патриот, храбрец, умнейшая
личность, все же находится — по Толстому — в идеологическом ла-
гере Наполеона (вспомним его мечты о Тулоне)
и
противостоит прав-
197
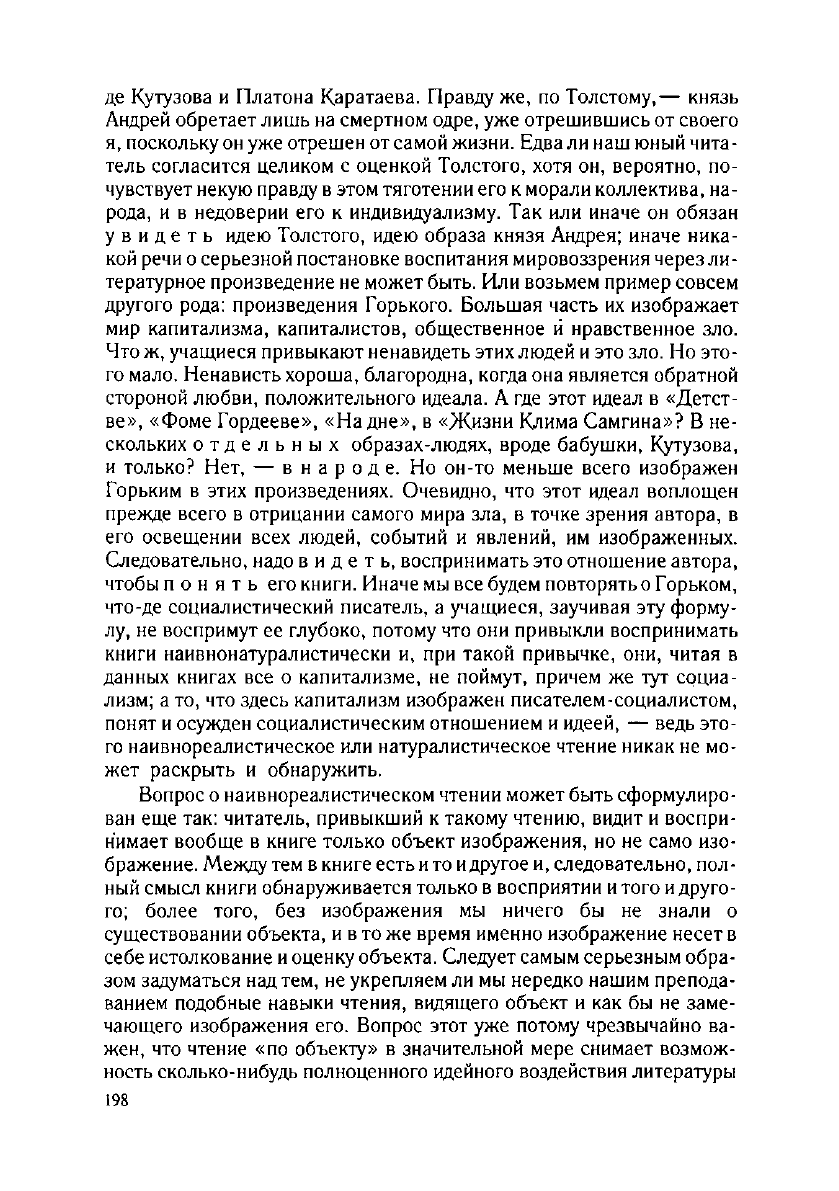
де Кутузова и Платона Каратаева. Правду же, по Толстому,— князь
Андрей обретает лишь на смертном одре, уже отрешившись от своего
я, поскольку он уже отрешен от самой жизни. Едва ли наш юный чита-
тель согласится целиком с оценкой Толстого, хотя он, вероятно, по-
чувствует некую правду в этом тяготении его к морали коллектива, на-
рода, и в недоверии его к индивидуализму. Так или иначе он обязан
увидеть идею Толстого, идею образа князя Андрея; иначе ника-
кой речи о серьезной постановке воспитания мировоззрения через ли-
тературное произведение не может быть. Или возьмем пример совсем
другого рода: произведения Горького. Большая часть их изображает
мир капитализма, капиталистов, общественное и нравственное зло.
Что ж, учащиеся привыкают ненавидеть этих людей и это зло. Но это-
го мало. Ненависть хороша, благородна, когда она является обратной
стороной любви, положительного идеала. А где этот идеал в «Детст-
ве», «Фоме Гордееве», «На дне», в «Жизни Клима Самгина»? В не-
скольких отдельных образах-людях, вроде бабушки, Кутузова,
и только? Нет, — внароде. Но он-то меньше всего изображен
Горьким в этих произведениях. Очевидно, что этот идеал воплощен
прежде всего в отрицании самого мира зла, в точке зрения автора, в
его освещении всех людей, событий и явлений, им изображенных.
Следовательно, надо видеть, воспринимать это отношение автора,
чтобы понять его книги. Иначе мы все будем повторять о Горьком,
что-де социалистический писатель, а учащиеся, заучивая эту форму-
лу, не воспримут ее глубоко, потому что они привыкли воспринимать
книги наивнонатуралистически и, при такой привычке, они, читая в
данных книгах все о капитализме, не поймут, причем же тут социа-
лизм; а то, что здесь капитализм изображен писателем-социалистом,
понят
и
осужден социалистическим отношением и идеей, — ведь это-
го наивнореалистическое или натуралистическое чтение никак не мо-
жет раскрыть и обнаружить.
Вопрос о наивнореалистическом чтении может быть сформулиро-
ван еще так: читатель, привыкший к такому чтению, видит и воспри-
нимает вообще в книге только объект изображения, но не само изо-
бражение. Между тем в книге есть
и
то
и
другое и, следовательно, пол-
ный смысл книги обнаруживается только в восприятии
и
того
и
друго-
го; более того, без изображения мы ничего бы не знали о
существовании объекта, и в то же время именно изображение несет в
себе истолкование
и
оценку объекта. Следует самым серьезным обра-
зом задуматься над тем, не укрепляем ли мы нередко нашим препода-
ванием подобные навыки чтения, видящего объект и как бы не заме-
чающего изображения его. Вопрос этот уже потому чрезвычайно ва-
жен, что чтение «по объекту» в значительной мере снимает возмож-
ность сколько-нибудь полноценного идейного воздействия литературы
198
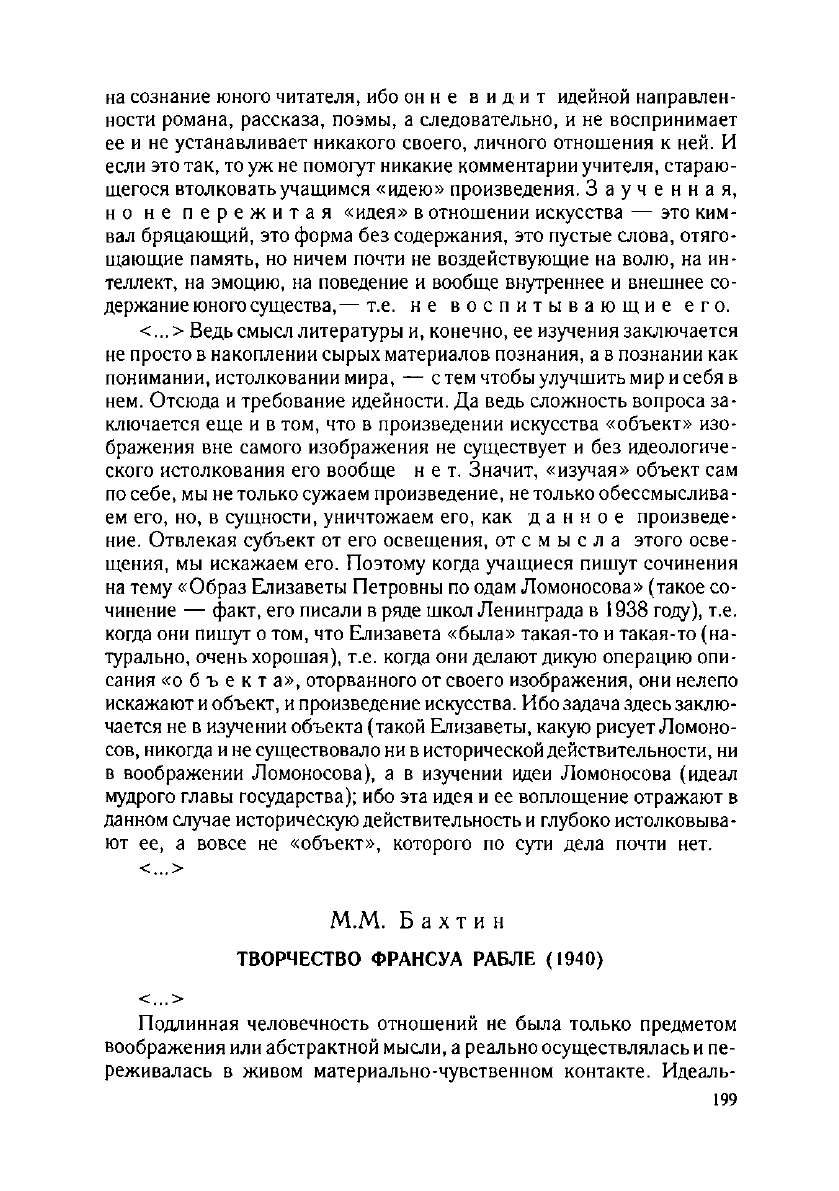
на сознание юного читателя, ибо он не видит идейной направлен-
ности романа, рассказа, поэмы, а следовательно, и не воспринимает
ее и не устанавливает никакого своего, личного отношения к ней. И
если это так, то уж не помогут никакие комментарии учителя, стараю-
щегося втолковать учащимся «идею» произведения. Заученная,
но не пережитая «идея» в отношении искусства — это ким-
вал бряцающий, это форма без содержания, это пустые слова, отяго-
щающие память, но ничем почти не воздействующие на волю, на ин-
теллект, на эмоцию, на поведение и вообще внутреннее и внешнее со-
держание юного существа,— т.е. не воспитывающие его.
<...> Ведь смысл литературы и, конечно, ее изучения заключается
не просто в накоплении сырых материалов познания, а в познании как
понимании, истолковании мира, — с тем чтобы улучшить мир
и
себя в
нем. Отсюда и требование идейности. Да ведь сложность вопроса за-
ключается еще и в том, что в произведении искусства «объект» изо-
бражения вне самого изображения не существует и без идеологиче-
ского истолкования его вообще нет. Значит, «изучая» объект сам
по себе, мы не только сужаем произведение, не только обессмыслива-
ем его, но, в сущности, уничтожаем его, как данное произведе-
ние. Отвлекая субъект от его освещения, от с м ы с л а этого осве-
щения, мы искажаем его. Поэтому когда учащиеся пишут сочинения
на тему «Образ Елизаветы Петровны по одам Ломоносова» (такое со-
чинение — факт, его писали в ряде школ Ленинграда в 1938 году), т.е.
когда они пишут о том, что Елизавета «была» такая-то и такая-то (на-
турально, очень хорошая), т.е. когда они делают дикую операцию опи-
сания «объект а», оторванного от своего изображения, они нелепо
искажают
и
объект,
и
произведение искусства. Ибо задача здесь заклю-
чается не в изучении объекта (такой Елизаветы, какую рисует Ломоно-
сов, никогда
и
не существовало
ни
в исторической действительности, ни
в воображении Ломоносова), а в изучении идеи Ломоносова (идеал
мудрого главы государства); ибо эта идея и ее воплощение отражают в
данном случае историческую действительность
и
глубоко истолковыва-
ют ее, а вовсе не «объект», которого по сути дела почти нет.
<...>
М.М. Бахтин
ТВОРЧЕСТВО ФРАНСУА РАБЛЕ (1940)
<...>
Подлинная человечность отношений не была только предметом
воображения или абстрактной мысли, а реально осуществлялась
и
пе-
реживалась в живом материально-чувственном контакте. Идеаль-
199
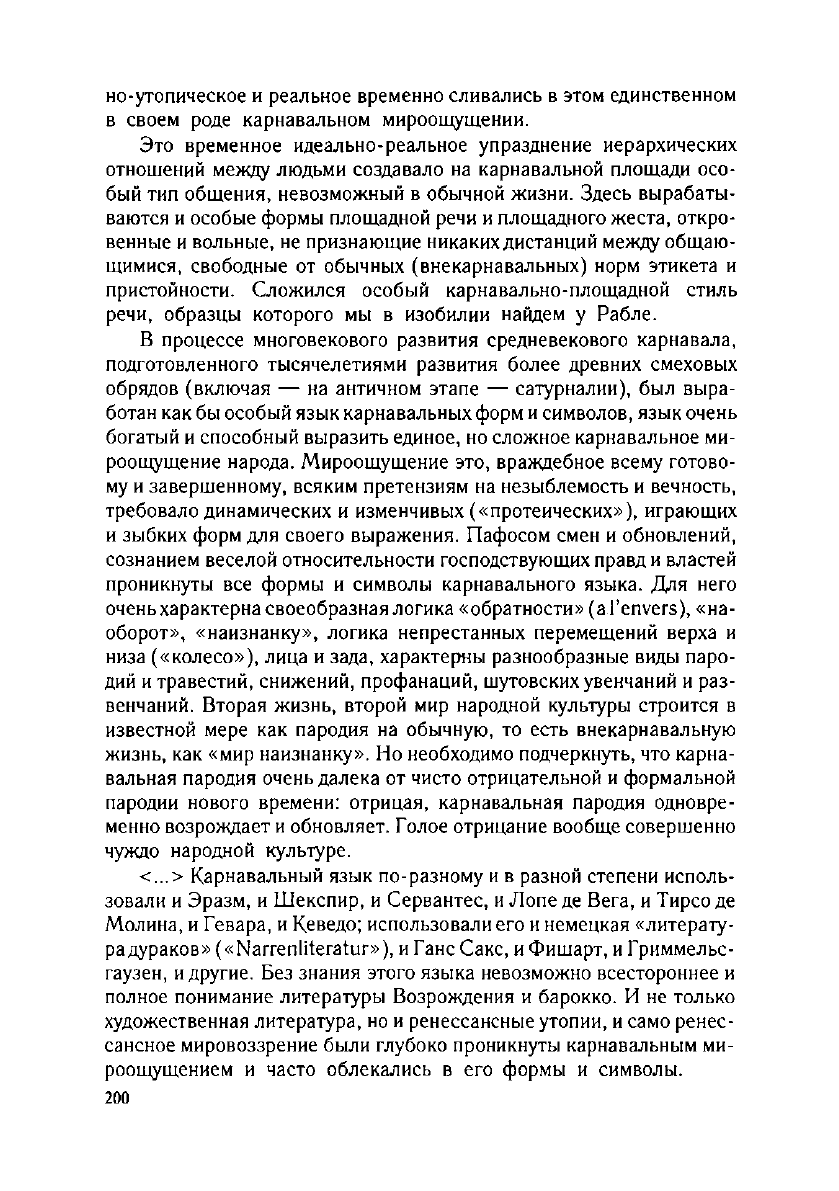
но-утопическое и реальное временно сливались в этом единственном
в своем роде карнавальном мироощущении.
Это временное идеально-реальное упразднение иерархических
отношений между людьми создавало на карнавальной площади осо-
бый тип общения, невозможный в обычной жизни. Здесь вырабаты-
ваются и особые формы площадной речи и площадного жеста, откро-
венные и вольные, не признающие никаких дистанций между общаю-
щимися, свободные от обычных (внекарнавальных) норм этикета и
пристойности. Сложился особый карнавально-площадной стиль
речи, образцы которого мы в изобилии найдем у Рабле.
В процессе многовекового развития средневекового карнавала,
подготовленного тысячелетиями развития более древних смеховых
обрядов (включая — на античном этапе — сатурналии), был выра-
ботан как бы особый язык карнавальных форм
и
символов, язык очень
богатый и способный выразить единое, но сложное карнавальное ми-
роощущение народа. Мироощущение это, враждебное всему готово-
му и завершенному, всяким претензиям на незыблемость и вечность,
требовало динамических и изменчивых («протеических»), играющих
и зыбких форм для своего выражения. Пафосом смен и обновлений,
сознанием веселой относительности господствующих правд
и
властей
проникнуты все формы и символы карнавального языка. Для него
очень характерна своеобразная логика «обратности» (a l'envers), «на-
оборот», «наизнанку», логика непрестанных перемещений верха и
низа («колесо»), лица и зада, характерны разнообразные виды паро-
дий и травестий, снижений, профанаций, шутовских увенчаний и раз-
венчаний. Вторая жизнь, второй мир народной культуры строится в
известной мере как пародия на обычную, то есть внекарнавальную
жизнь, как «мир наизнанку». Но необходимо подчеркнуть, что карна-
вальная пародия очень далека от чисто отрицательной и формальной
пародии нового времени: отрицая, карнавальная пародия одновре-
менно возрождает
и
обновляет. Голое отрицание вообще совершенно
чуждо народной культуре.
<...> Карнавальный язык по-разному
и
в разной степени исполь-
зовали и Эразм, и Шекспир, и Сервантес,
и
Лопе де Вега, и Тирсо де
Молина, и Гевара, и Кеведо; использовали его и немецкая «литерату-
ра
дураков» («Narrenliteratur»), и Ганс Сакс, и Фишарт,
и
Гриммельс-
гаузен,
и
другие. Без знания этого языка невозможно всестороннее и
полное понимание литературы Возрождения и барокко. И не только
художественная литература, но и ренессансные утопии, и само ренес-
сансное мировоззрение были глубоко проникнуты карнавальным ми-
роощущением и часто облекались в его формы и символы.
200
