Николаев П.А. (ред.), Эсалнек А.Я. Хрестоматия по введению в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

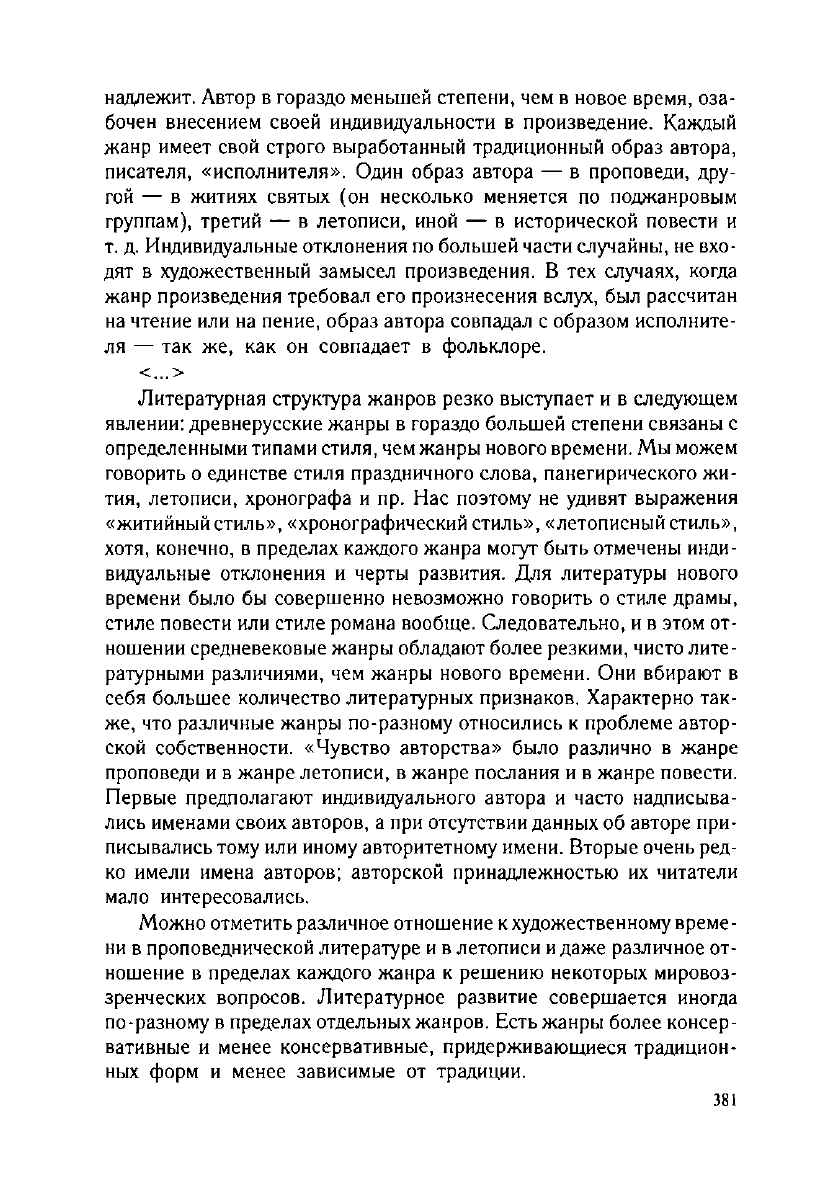
надлежит. Автор в гораздо меньшей степени, чем в новое время, оза-
бочен внесением своей индивидуальности в произведение. Каждый
жанр имеет свой строго выработанный традиционный образ автора,
писателя, «исполнителя». Один образ автора — в проповеди, дру-
гой — в житиях святых (он несколько меняется по поджанровым
группам), третий — в летописи, иной — в исторической повести и
т. д. Индивидуальные отклонения по большей части случайны, не вхо-
дят в художественный замысел произведения. В тех случаях, когда
жанр произведения требовал его произнесения вслух, был рассчитан
на чтение или на пение, образ автора совпадал с образом исполните-
ля — так же, как он совпадает в фольклоре.
<...>
Литературная структура жанров резко выступает и в следующем
явлении: древнерусские жанры в гораздо большей степени связаны с
определенными типами стиля, чем жанры нового времени. Мы можем
говорить о единстве стиля праздничного слова, панегирического жи-
тия, летописи, хронографа и пр. Нас поэтому не удивят выражения
«житийный стиль», «хронографический стиль», «летописный стиль»,
хотя, конечно, в пределах каждого жанра могут быть отмечены инди-
видуальные отклонения и черты развития. Для литературы нового
времени было бы совершенно невозможно говорить о стиле драмы,
стиле повести или стиле романа вообще. Следовательно, и в этом от-
ношении средневековые жанры обладают более резкими, чисто лите-
ратурными различиями, чем жанры нового времени. Они вбирают в
себя большее количество литературных признаков. Характерно так-
же, что различные жанры по-разному относились к проблеме автор-
ской собственности. «Чувство авторства» было различно в жанре
проповеди и в жанре летописи, в жанре послания и в жанре повести.
Первые предполагают индивидуального автора и часто надписыва-
лись именами своих авторов, а при отсутствии данных об авторе при-
писывались тому или иному авторитетному имени. Вторые очень ред-
ко имели имена авторов; авторской принадлежностью их читатели
мало интересовались.
Можно отметить различное отношение
к
художественному време-
ни в проповеднической литературе и в летописи
и
даже различное от-
ношение в пределах ка>вдого жанра к решению некоторых мировоз-
зренческих вопросов. Литературное развитие совершается иногда
по-разному в пределах отдельных жанров. Есть жанры более консер-
вативные и менее консервативные, придерживающиеся традицион-
ных форм и менее зависимые от традиции.
381

* * *
Древнерусские жанры были хорошо «организованы» в том отно-
шении, что они обычно декларативно обозначались в самих названиях
произведений: «Слово Ивана Златоустаго о глаголящих, яко несть
мощно спастися живущим в мире», «Сказание о небесных си-
лах», «Книга глаголемая Временник, Никифора патриарха Ца-
риграда, сиречь Летописец, изложен вкратце» <...>
Название жанра выставлялось в заглавии произведения, очевид-
но, под влиянием некоторых особенностей самого художественного
метода древнерусской литературы.
Дело вот в чем. Традиционность литературы затрудняла использо-
вание неожиданного образа, неожиданной художественной детали
или неожиданной стилистической манеры как художественного прие-
ма. Напротив, именно традиционность художественного выражения
настраивала читателя или слушателя на нужный лад. Те или иные тра-
диционные формулы, жанры, темы, мотивы, сюжеты служили сигна-
лами для создания у читателя определенного настроения. Стереотип
не был признаком бездарности автора, художественной слабости его
произведения. Он входил в самую суть художественной системы сред-
невековой литературы. Искусство средневековья ориентировалось на
«знакомое», а не на незнакомое
и
«странное». Стереотип помогал чи-
тателю «узнавать» в произведении необходимое настроение, привыч-
ные мотивы, темы. Это искусство обряда, а не игры. Поэтому читателя
необходимо было заранее предупредить, в каком «художественном
ключе» будет вестись повествование. Отсюда эмоциональные «пре-
дупреждения» читателю в самих названиях: «повесть преславна»,
«повестьумильна», «повесть полезна», «повесть благополезна»«по-
весть душеполезна» и «зело душеполезна», «повесть дивна и страш-
на», «повесть изрядна», «повесть известна», «повесть известна и
удивлению достойна», «повесть страшна», «повесть чудна», «повесть
утешная», «повесть слезная», «сказание дивное
и
жалостное, радость
и утешение верным», «послание умильное» и пр. Отсюда же и про-
странные названия древнерусских литературных произведений, как
бы подготовлявшие читателя к определенному восприятию произве-
дений в рамках знакомой ему традиции. Той же цели «предупрежде-
ния» читателя служат названия произведений, в которых кратко изла-
гается их содержание: «О некоем злодее, повелевшем очки купити»,
«О невесте, которая двое детей своих порезала, абы замужем была»,
«О житии и о смерти и о Страшном суде» (слово митрополита Дании-
ла), «Повесть о блаженем старце Германе, спостнице преподобным
отцем Зосиме и Саватию, како поживе с ними на острове Соловец-
382

ком». Той же подготовке читателя к определенному восприятию про-
изведения служат и предисловия к произведениям. <...>
<...> Можно было бы указать и иные признаки, по которым древ-
нерусский читатель мог «узнавать» жанр произведения, его стилисти-
ческую и сюжетную принадлежность, его эмоциональную настроен-
ность. Жанры обладали различными собственными атрибутами, как
обладали ими изображения святых.
Средневековое искусство есть искусство знака. Знаки принадлеж-
ности произведения
к
тому или иному жанру играли в нем немаловаж-
ную роль. <...>
М.М. Бахтин
ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ ДОСТОЕВСКОГО (1963)
(1963; 1-е изд. под названием «Проблемы творчества
Достоевского» вышло в 1929 г.)
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Жанровые и сюжетно-композиционные
особенности произведений Достоевского
<...>
Литературный жанр по самой своей природе отражает наиболее
устойчивые, «вековечные» традиции развития литературы. В жанре
всегда сохраняются неумирающие элементы архаики. Правда,
эта архаика сохраняется в нем только благодаря постоянному ее о б
новлению, так сказать, осовременению. Жанр всегда тот и не
тот, всегда
и
стар
и
нов одновременно. Жанр возрождается
и
обновля-
ется на каждом новом этапе развития литературы и в каждом индиви-
дуальном произведении данного жанра. В этом жизнь жанра. Поэтому
и архаика, сохраняющаяся
в
жанре, не мертвая, а вечно живая, то есть
способная обновляться архаика. Жанр живет настоящим, но всегда
помнит свое прошлое, свое начало. Жанр — представитель
творческой памяти в процессе литературного развития. Именно по-
этому жанр и способен обеспечить единство и непрерывность этого
развития.
Вот почему для правильного понимания жанра и необходимо под-
няться к его истокам.
<...>
383
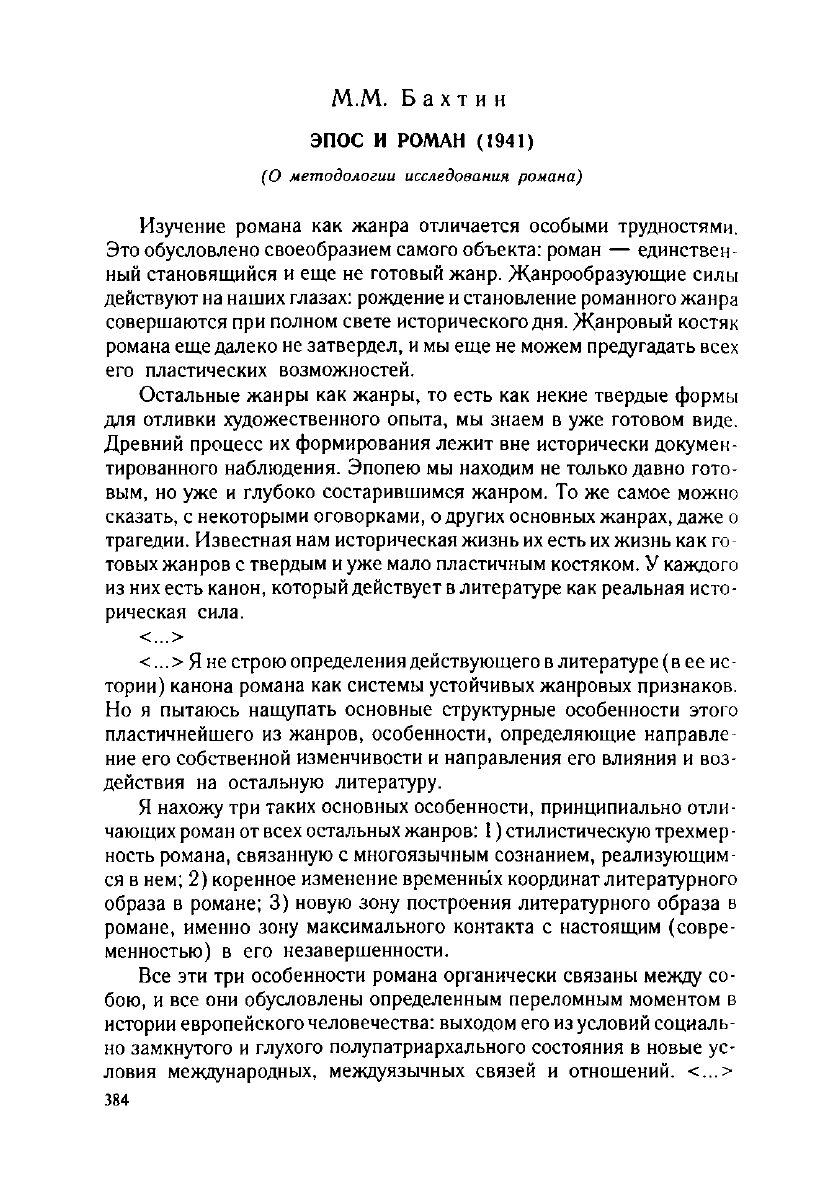
М.М. Бахтин
ЭПОС И РОМАН (1941)
(О методологии исследования романа)
Изучение романа как жанра отличается особыми трудностями.
Это обусловлено своеобразием самого объекта: роман — единствен-
ный становящийся и еще не готовый жанр. Жанрообразующие силы
действуют
на
наших глазах: рождение
и
становление романного жанра
совершаются при полном свете исторического
дня.
Жанровый костяк
романа еще далеко не затвердел, и мы еще не можем предугадать всех
его пластических возможностей.
Остальные жанры как жанры, то есть как некие твердые формы
для отливки художественного опыта, мы знаем в уже готовом виде.
Древний процесс их формирования лежит вне исторически докумен-
тированного наблюдения. Эпопею мы находим не только давно гото-
вым, но уже и глубоко состарившимся жанром. То же самое можно
сказать, с некоторыми оговорками, о других основных жанрах, даже о
трагедии. Известная нам историческая жизнь их есть
их
жизнь как го-
товых жанров с твердым
и
уже мало пластичным костяком. У каждого
из них есть канон, который действует
в
литературе как реальная исто-
рическая сила.
<...>
<...> Я не строю определения действующего
в
литературе (в ее ис-
тории) канона романа как системы устойчивых жанровых признаков.
Но я пытаюсь нащупать основные структурные особенности этого
пластичнейшего из жанров, особенности, определяющие направле-
ние его собственной изменчивости и направления его влияния и воз-
действия на остальную литературу.
Я нахожу три таких основных особенности, принципиально отли-
чающих роман от всех остальных жанров: 1) стилистическую трехмер-
ность романа, связанную с многоязычным сознанием, реализующим-
ся в нем; 2) коренное изменение временных координат литературного
образа в романе; 3) новую зону построения литературного образа в
романе, именно зону максимального контакта с настоящим (совре-
менностью) в его незавершенности.
Все эти три особенности романа органически связаны между со-
бою, и все они обусловлены определенным переломным моментом в
истории европейского человечества: выходом его
из
условий социаль-
но замкнутого и глухого полупатриархального состояния в новые ус-
ловия международных, междуязычных связей и отношений. <...>
384

Но изменение временной ориентации и зоны построения образов
ни
в
чем не проявляется так глубоко
и
существенно, как в перестройке
образа человека в литературе. <...>
Человек высоких дистанцированных жанров — человек абсо-
лютного прошлого
и
далевого образа. Как таковой, он сплошь завер-
шен и закончен. Он завершен на высоком героическом уровне, но он
завершен и безнадежно готов, он весь здесь, от начала до конца, он
совпадает с самим собою, абсолютно равен себе самому. Далее, он
весь сплошь овнешнен. Между его подлинной сущностью и его внеш-
ним явлением нет ни малейшего расхождения. Все его потенции, все
его возможности до конца реализованы в его внешнем социальном по-
ложении, во всей его судьбе, даже в его наружности; вне этой его оп-
ределенной судьбы и определенного положения от него ничего не ос-
тается. Он стал всем, чем он мог быть, и он мог быть только тем, чем
он стал. <...>
<...>
<...> Далее, эпический человек лишен всякой идеологической
инициативы (лишены ее и герои и автор). Эпический мир знает од-
но-единое и единственное сплошь готовое мировоззрение, одинаково
обязательное и несомненное
и
для героев,
и
для автора,
и
для слуша-
телей. Лишен эпический человек и языковой инициативы; эпический
мир знает один-единый и единственный готовый язык. Ни мировоз-
зрение, ни язык поэтому не могут служить факторами ограничения и
оформления образов людей, их индивидуализации. Люди здесь раз-
граничены, оформлены, индивидуализированы разными положения-
ми и судьбами, но не разными «правдами». <...>
<...> Разрушение эпической дистанции
и
переход образа человека
из
далевого плана
в
зону контакта с незавершенным событием настоя-
щего (а следовательно, и будущего) приводит к коренной перестройке
образа человека в романе (а в последующем
и
во всей литературе). И в
этом процессе громадную роль сыграли фольклорные, народно-сме-
ховые источники романа. Первым и весьма существенным этапом
становления была смеховая фамильяризация образа человека. Смех
разрушил эпическую дистанцию; он стал свободно и фамильярно ис-
следовать человека: выворачивать его наизнанку, разоблачать несо-
ответствие между внешностью и нутром, между возможностью и ее
реализацией. В образ человека была внесена существенная динамика,
динамика несовпадения и разнобоя между различными моментами
этого образа; человек перестал совпадать с самим собою, а следова-
тельно, и сюжет перестал исчерпывать человека до конца. Смех из-
влекает из всех этих несоответствий и разнобоев прежде всего коми-
25-3039 3 85
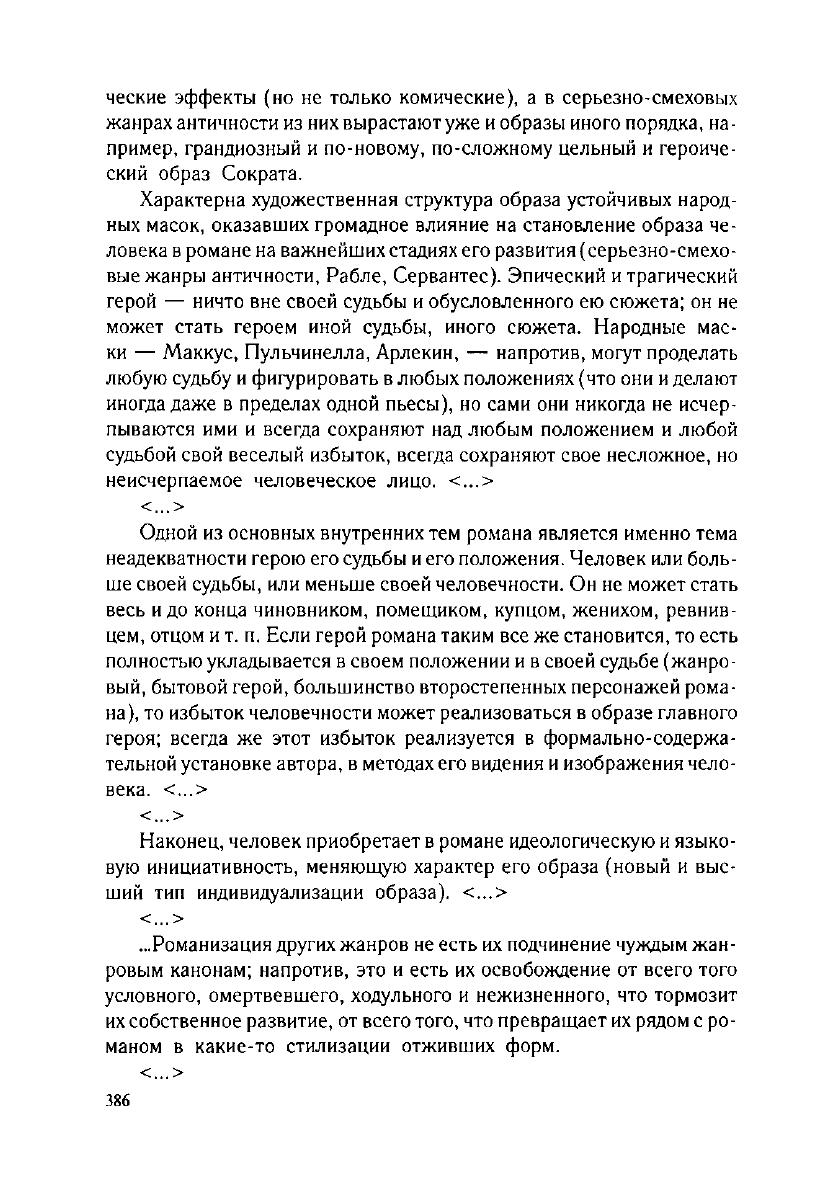
ческие эффекты (но не только комические), а в серьезно-смеховых
жанрах античности из них вырастают уже
и
образы иного порядка, на-
пример, грандиозный и по-новому, по-сложному цельный и героиче-
ский образ Сократа.
Характерна художественная структура образа устойчивых народ-
ных масок, оказавших громадное влияние на становление образа че-
ловека в романе на важнейших стадиях его развития (серьезно-смехо-
вые жанры античности, Рабле, Сервантес). Эпический и трагический
герой — ничто вне своей судьбы и обусловленного ею сюжета; он не
может стать героем иной судьбы, иного сюжета. Народные мас-
ки — Маккус, Пульчинелла, Арлекин, — напротив, могут проделать
любую судьбу и фигурировать в любых положениях (что они
и
делают
иногда даже в пределах одной пьесы), но сами они никогда не исчер-
пываются ими и всегда сохраняют над любым положением и любой
судьбой свой веселый избыток, всегда сохраняют свое несложное, но
неисчерпаемое человеческое лицо. <...>
<...>
Одной из основных внутренних тем романа является именно тема
неадекватности герою его судьбы
и
его положения. Человек или боль-
ше своей судьбы, или меньше своей человечности. Он не может стать
весь
и
до конца чиновником, помещиком, купцом, женихом, ревнив-
цем, отцом
и
т. п. Если герой романа таким все же становится, то есть
полностью укладывается в своем положении и в своей судьбе (жанро-
вый, бытовой герой, большинство второстепенных персонажей рома-
на), то избыток человечности может реализоваться в образе главного
героя; всегда же этот избыток реализуется в формально-содержа-
тельной установке автора, в методах его видения
и
изображения чело-
века. <...>
<...>
Наконец, человек приобретает в романе идеологическую и языко-
вую инициативность, меняющую характер его образа (новый и выс-
ший тип индивидуализации образа). <...>
<...>
...Романизация других жанров не есть их подчинение чуждым жан-
ровым канонам; напротив, это и есть их освобождение от всего того
условного, омертвевшего, ходульного и нежизненного, что тормозит
их собственное развитие, от всего того, что превращает их рядом с ро-
маном в какие-то стилизации отживших форм.
<...>
386
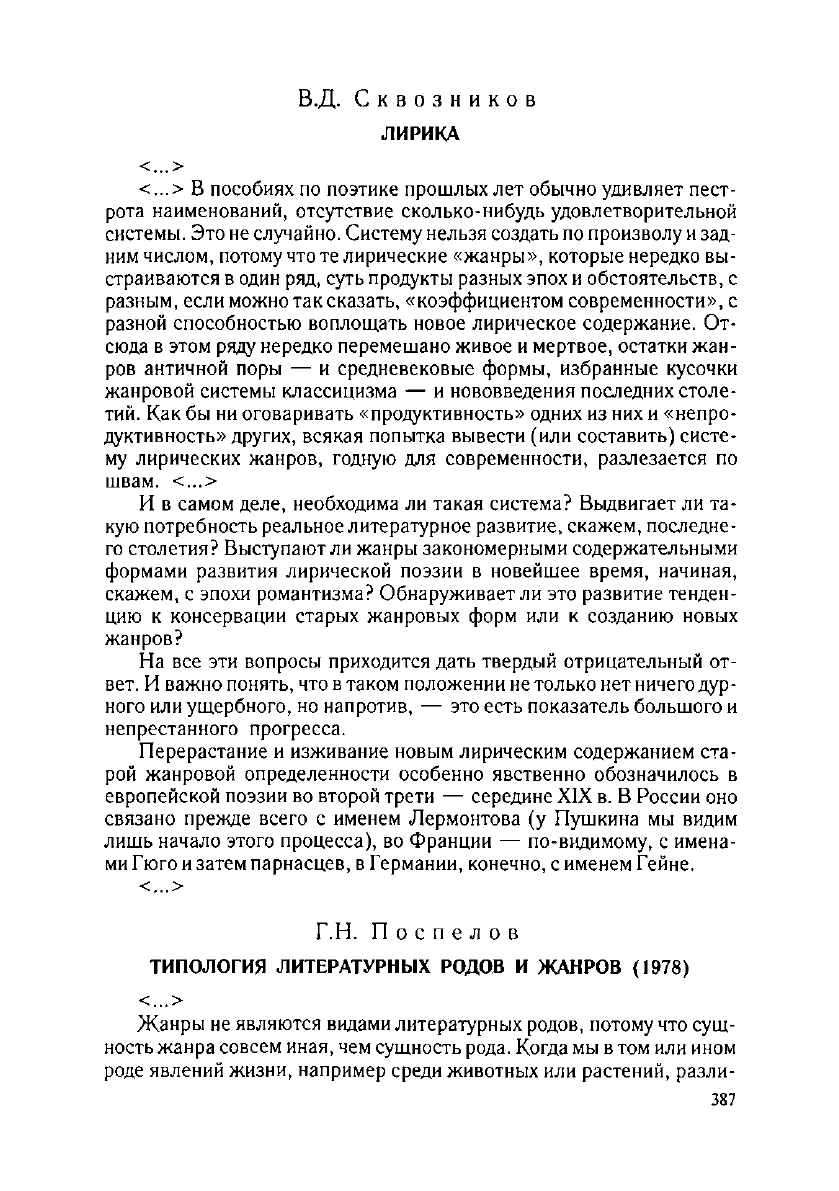
В.Д. Сквозников
ЛИРИКА
<...>
<...> В пособиях по поэтике прошлых лет обычно удивляет пест-
рота наименований, отсутствие сколько-нибудь удовлетворительной
системы. Это не случайно. Систему нельзя создать по произволу
и
зад-
ним числом, потому что те лирические «жанры», которые нередко вы-
страиваются в один ряд, суть продукты разных эпох
и
обстоятельств, с
разным, если можно так сказать, «коэффициентом современности», с
разной способностью воплощать новое лирическое содержание. От-
сюда в этом ряду нередко перемешано живое и мертвое, остатки жан-
ров античной поры — и средневековые формы, избранные кусочки
жанровой системы классицизма — и нововведения последних столе-
тий. Как бы ни оговаривать «продуктивность» одних из них
и
«непро-
дуктивность» других, всякая попытка вывести (или составить) систе-
му лирических жанров, годную для современности, разлезается по
швам. <...>
И в самом деле, необходима ли такая система? Выдвигает ли та-
кую потребность реальное литературное развитие, скажем, последне-
го столетия? Выступают
ли
жанры закономерными содержательными
формами развития лирической поэзии в новейшее время, начиная,
скажем, с эпохи романтизма? Обнаруживает ли это развитие тенден-
цию к консервации старых жанровых форм или к созданию новых
жанров?
На все эти вопросы приходится дать твердый отрицательный от-
вет. И важно понять, что в таком положении не только нет ничего дур-
ного или ущербного, но напротив, — это есть показатель большого и
непрестанного прогресса.
Перерастание и изживание новым лирическим содержанием ста-
рой жанровой определенности особенно явственно обозначилось в
европейской поэзии во второй трети — середине XIX в. В России оно
связано прежде всего с именем Лермонтова (у Пушкина мы видим
лишь начало этого процесса), во Франции — по-видимому, с имена-
ми Гюго
и
затем парнасцев, в Германии, конечно, с именем Гейне.
<...>
Г.Н. Поспелов
ТИПОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ РОДОВ И ЖАНРОВ (1978)
<...>
Жанры не являются видами литературных родов, потому что сущ-
ность жанра совсем иная, чем сущность рода. Когда мы в том или ином
роде явлений жизни, например среди животных или растений, разли-
387
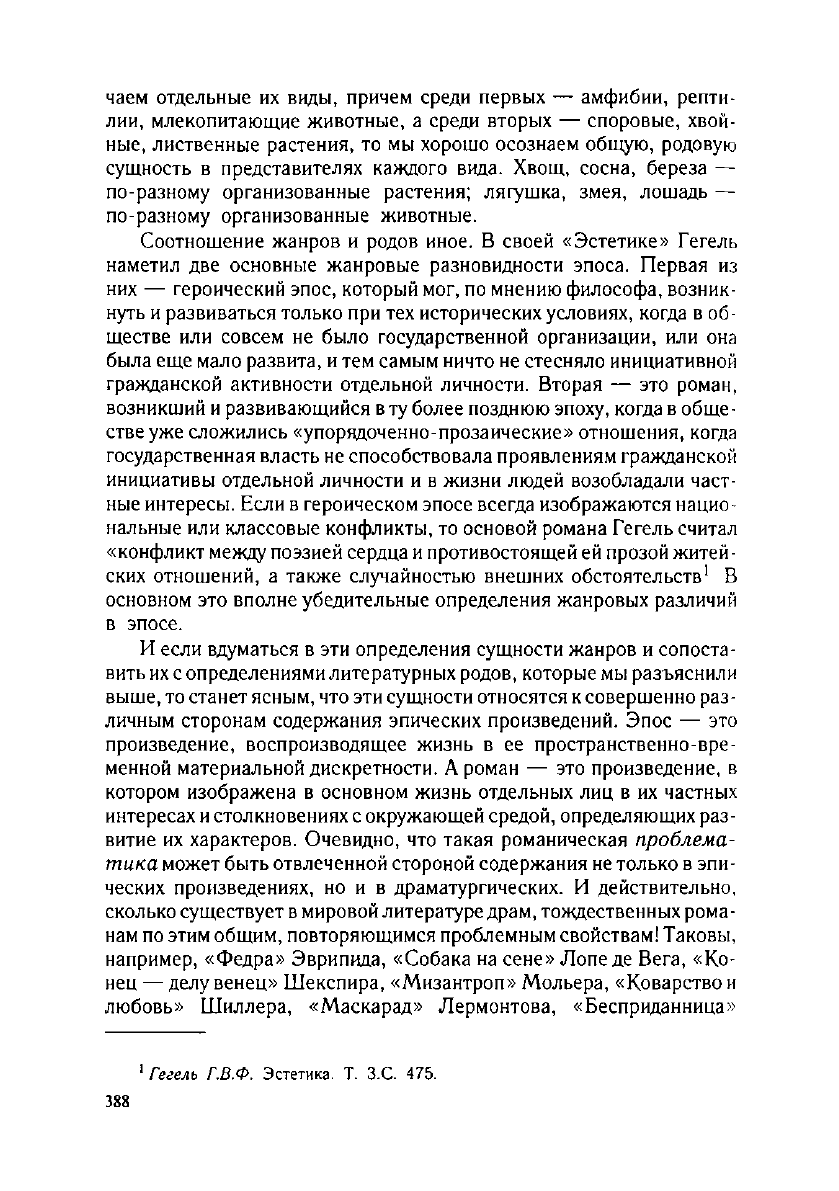
чаем отдельные их виды, причем среди первых — амфибии, репти-
лии, млекопитающие животные, а среди вторых — споровые, хвой-
ные, лиственные растения, то мы хорошо осознаем общую, родовую
сущность в представителях каждого вида. Хвощ, сосна, береза —
по-разному организованные растения; лягушка, змея, лошадь —
по-разному организованные животные.
Соотношение жанров и родов иное. В своей «Эстетике» Гегель
наметил две основные жанровые разновидности эпоса. Первая из
них — героический эпос, который мог, по мнению философа, возник-
нуть и развиваться только при тех исторических условиях, когда в об-
ществе или совсем не было государственной организации, или она
была еще мало развита,
и
тем самым ничто не стесняло инициативной
гражданской активности отдельной личности. Вторая — это роман,
возникший и развивающийся
в
ту более позднюю эпоху, когда в обще-
стве уже сложились «упорядоченно-прозаические» отношения, когда
государственная власть не способствовала проявлениям гражданской
инициативы отдельной личности и в жизни людей возобладали част-
ные интересы. Если в героическом эпосе всегда изображаются нацио-
нальные или классовые конфликты, то основой романа Гегель считал
«конфликт между поэзией сердца
и
противостоящей ей прозой житей-
ских отношений, а также случайностью внешних обстоятельств
1
В
основном это вполне убедительные определения жанровых различий
в эпосе.
И если вдуматься в эти определения сущности жанров и сопоста-
вить
их
с определениями литературных родов, которые мы разъяснили
выше, то станет ясным, что эти сущности относятся
к
совершенно раз-
личным сторонам содержания эпических произведений. Эпос — это
произведение, воспроизводящее жизнь в ее пространственно-вре-
менной материальной дискретности. А роман — это произведение, в
котором изображена в основном жизнь отдельных лиц в их частных
интересах
и
столкновениях с окружающей средой, определяющих раз-
витие их характеров. Очевидно, что такая романическая проблема-
тика может быть отвлеченной стороной содержания не только в эпи-
ческих произведениях, но и в драматургических. И действительно,
сколько существует в мировой литературе
драм,
тождественных рома-
нам по этим общим, повторяющимся проблемным свойствам! Таковы,
например, «Федра» Эврипида, «Собака на сене» Лопе де Вега, «Ко-
нец — делу венец» Шекспира, «Мизантроп» Мольера, «Коварство и
любовь» Шиллера, «Маскарад» Лермонтова, «Бесприданница»
1
Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т. 3.C. 475.
388
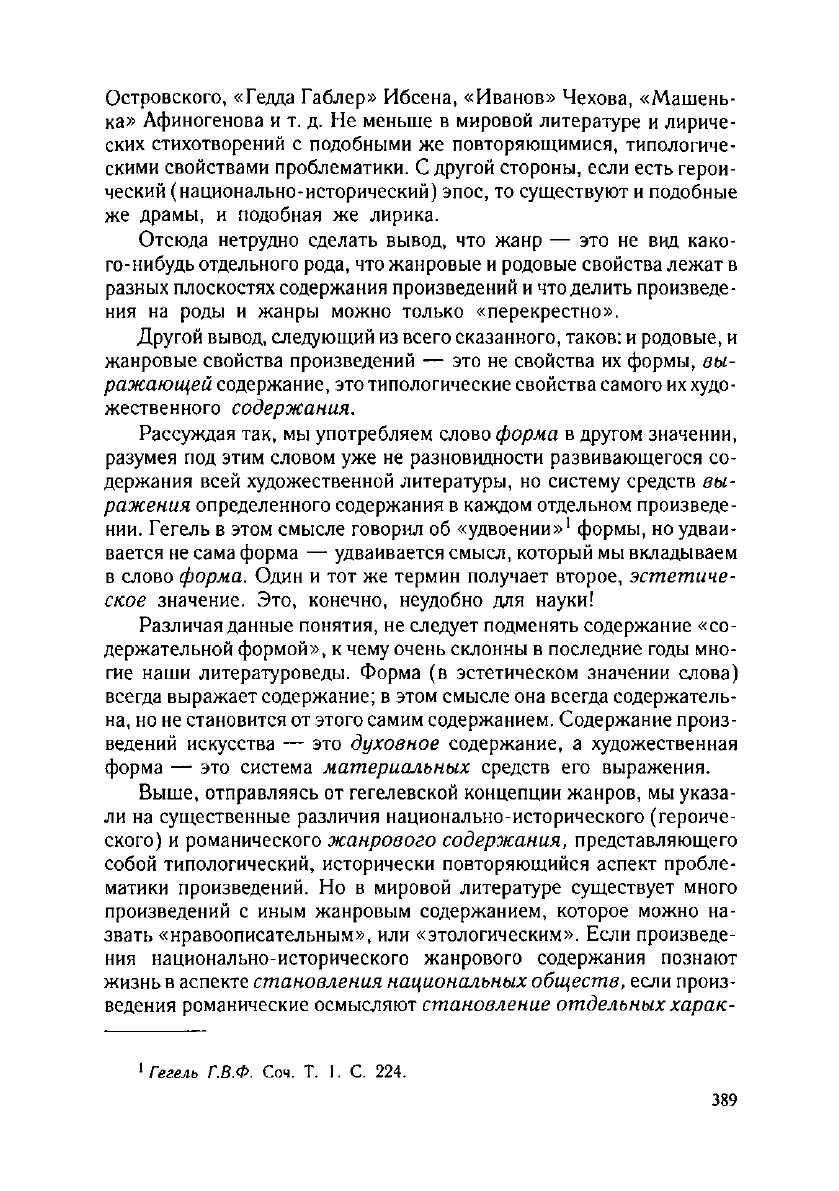
Островского, «Гедда Габлер» Ибсена, «Иванов» Чехова, «Машень-
ка» Афиногенова и т. д. Не меньше в мировой литературе и лириче-
ских стихотворений с подобными же повторяющимися, типологиче-
скими свойствами проблематики. С другой стороны, если есть герои-
ческий (национально-исторический) эпос, то существуют и подобные
же драмы, и подобная же лирика.
Отсюда нетрудно сделать вывод, что жанр — это не вид како-
го-нибудь отдельного рода, что жанровые и родовые свойства лежат в
разных плоскостях содержания произведений
и
что делить произведе-
ния на роды и жанры можно только «перекрестно».
Другой вывод, следующий из всего сказанного, таков: и родовые, и
жанровые свойства произведений — это не свойства их формы, вы-
ражающей содержание, это типологические свойства самого
их
худо-
жественного содержания.
Рассуждая так, мы употребляем слово форма в другом значении,
разумея под этим словом уже не разновидности развивающегося со-
держания всей художественной литературы, но систему средств вы-
ражения определенного содержания в каждом отдельном произведе-
нии. Гегель в этом смысле говорил об «удвоении»
1
формы, но удваи-
вается не сама форма — удваивается смысл, который мы вкладываем
в слово форма. Один и тот же термин получает второе, эстетиче-
ское значение. Это, конечно, неудобно для науки!
Различая данные понятия, не следует подменять содержание «со-
держательной формой», к чему очень склонны в последние годы мно-
гие наши литературоведы. Форма (в эстетическом значении слова)
всегда выражает содержание; в этом смысле она всегда содержатель-
на, но не становится от этого самим содержанием. Содержание произ-
ведений искусства — это духовное содержание, а художественная
форма — это система материальных средств его выражения.
Выше, отправляясь от гегелевской концепции жанров, мы указа-
ли на существенные различия национально-исторического (героиче-
ского) и романического жанрового содержания, представляющего
собой типологический, исторически повторяющийся аспект пробле-
матики произведений. Но в мировой литературе существует много
произведений с иным жанровым содержанием, которое можно на-
звать «нравоописательным», или «этологическим». Если произведе-
ния национально-исторического жанрового содержания познают
жизнь в аспекте становления национальных обществ, если произ-
ведения романические осмысляют становление отдельных харак-
1
Гегель Г.В.Ф. Соч. Т. 1. С. 224.
389

теров в частных отношениях, то произведения «этологического»
жанрового содержания раскрывают состояние национального об-
щества или какой-то его части. Таковы, например, «Буколики» Ови-
дия, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, «Похвала глупости» Эразма
Роттердамского, «Путешествия Гулливера» Свифта, «Путешествие
из Петербурга в Москву» Радищева, «История одного города» Щед-
рина, «Остров пингвинов» Франса, «Городок Окуров» Горького и
многие другие произведения. Подобно литературным родам нацио-
нально-исторические, этологические, романические жанры — это
форма развития художественной литературы.
Однако типологическими свойствами обладают не только назван-
ные особенности жанрового содержания, но и особенности выражаю-
щих
их
форм, которые должны иметь свои терминологические обозна-
чения. В разных национальных литературах исторически складыва-
лось несколько таких обозначений. Такова сказка как всякое фольк-
лорное, прозаическое эпическое произведение в отличие, с одной
стороны, от эпической песни как устного ритмически организованно-
го произведения, а с другой стороны, от повести (в широком смысле
слова) как всякого письменного прозаического произведения. Такова
поэма как всякое ритмически организованное письменное эпическое
произведение в его отличии от повести и эпической песни. Таков рас-
сказ как письменное, не ритмическое, эпическое произведение мало-
го объема в его отличии от повести как подобного же произведения
большого объема. Таково стихотворение как малая форма лирики в
его отличии
от
лирической поэмы как большой формы того же рода.
Таковы стихотворные и прозаические пьесы.
Несомненно, однако, что каждая из этих форм может выражать
различное жанровое содержание прежде всего в тех его трех основных
разновидностях, которые определены выше. Это идет вразрез с давни-
ми, исторически сложившимися представлениями, будто все эти фор-
мы выражения различного жанрового содержания также являются
жанрами. По традиции они осознаются нами как жанры. Мы говорим:
жанр сказки, песни, рассказа, поэмы, повести и т. д. Это вошло в тер-
минологический обиход
и
прочно закрепилось в сознании литературо-
ведов и критиков. Но чтобы верно решить проблему жанров, необхо-
димо отрешиться от этих представлений. Если национально-истори-
ческая, этологическая, романическая проблематика в своих типоло-
гических, исторически повторяющихся свойствах может быть
выражена
и
в сказке,
и
в эпической песне, и в повести,
и
в поэме, тогда
эти две группы понятий надо разъяснить
и
каждой дать свое обозначе-
ние. В книге «Проблемы исторического развития литературы» пред-
лагалось видеть в первой из этих групп категории «жанрового содер-
390
