Паламарчук Е.А. Социальная политика Третьего рейха
Подождите немного. Документ загружается.

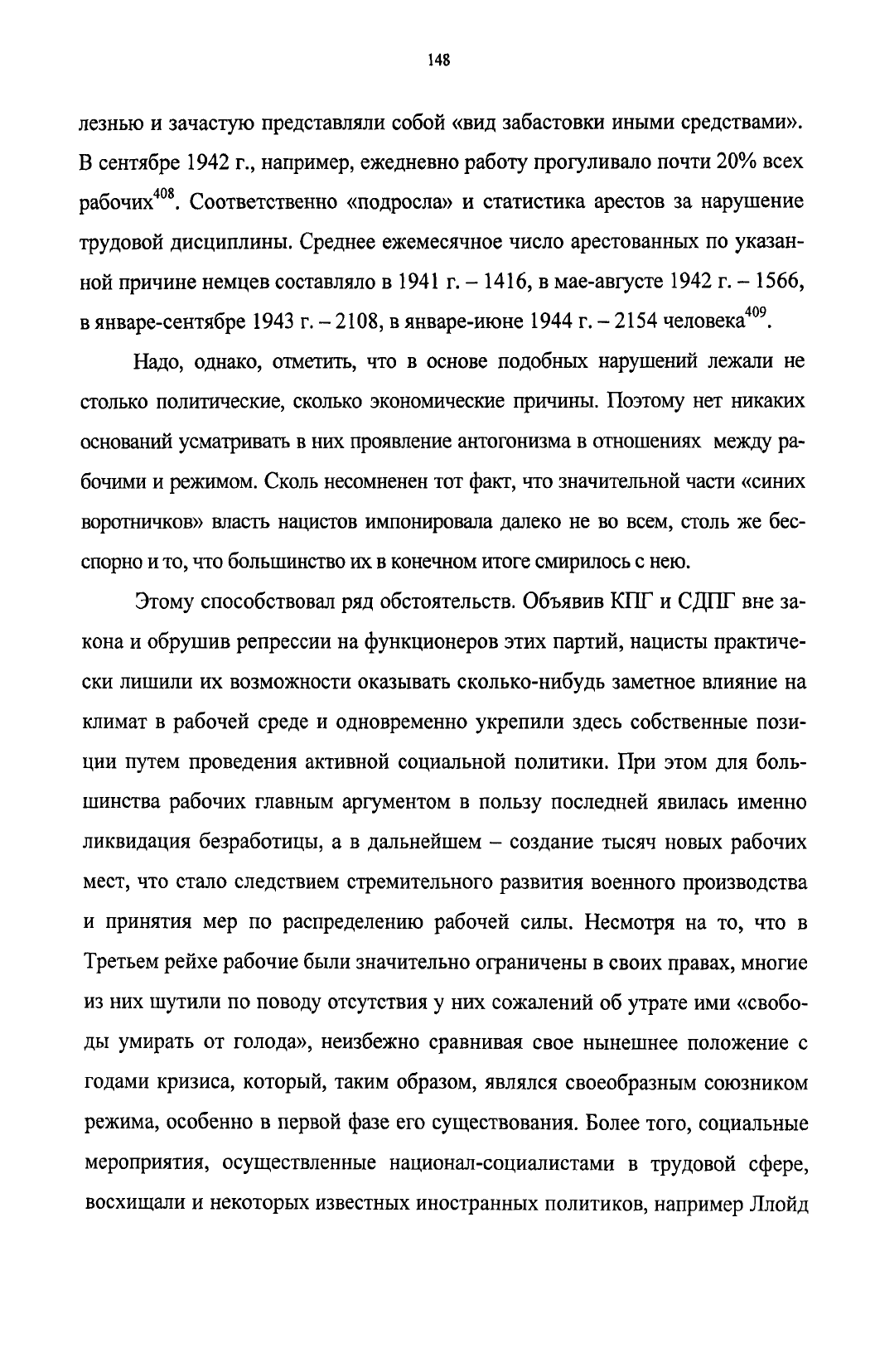
148
лезнью и зачастую представляли собой
«вид
забастовки иными средствами».
В сентябре 1942 г., например, ежедневно работу прогуливало почти 20%
всех
рабочих . Соответственно
«подросла»
и статистика арестов за нарушение
трудовой дисциплины. Среднее ежемесячное число арестованных по указан-
ной
нричине немцев составляло в 1941 г. - 1416, в
мае-августе
1942 г. - 1566,
в январе-сентябре 1943 г. - 2108, в январе-июне 1944 г. - 2154 человека'^^^.
Надо,
однако, отметить, что в основе подобных нарушений лежали не
столько политические, сколько экономические причины. Поэтому нет никаких
оснований усматривать в них проявление антогонизма в отношениях
между
ра-
бочими и режимом. Сколь несомненен тот факт, что значительной части «синих
воротничков» власть нацистов импонировала далеко не во всем, столь же бес-
спорно
и
то,
что большинство их в
конечном
итоге смирилось с нею.
Этому способствовал ряд обстоятельств. Объявив КПГ и СДПГ вне за-
кона
и обрушив репрессии на функционеров этих партий, нацисты практиче-
ски
лишили их возможности оказывать сколько-нибудь заметное влияние на
климат в рабочей среде и одновременно укрепили здесь собственные пози-
ции
путем проведения активной социальной политики. При этом для боль-
шинства рабочих главным аргументом в пользу последней явилась именно
ликвидация безработицы, а в дальнейшем - создание тысяч новых рабочих
мест, что стало следствием стремительного развития военного производства
и
принятия мер по распределению рабочей силы. Несмотря на то, что в
Третьем рейхе рабочие были значительно ограничены в своих правах, многие
из
них шутили по поводу отсутствия у них сожалений об
утрате
ими «свобо-
ды умирать от
голода»,
неизбежно сравнивая свое нынешнее положение с
годами кризиса, который, таким образом, являлся своеобразным союзником
режима, особенно в первой фазе его существования. Более того, социальные
мероприятия, осуществленные национал-социалистами в трудовой сфере,
восхищали и некоторых известных иностранных политиков, например Ллойд
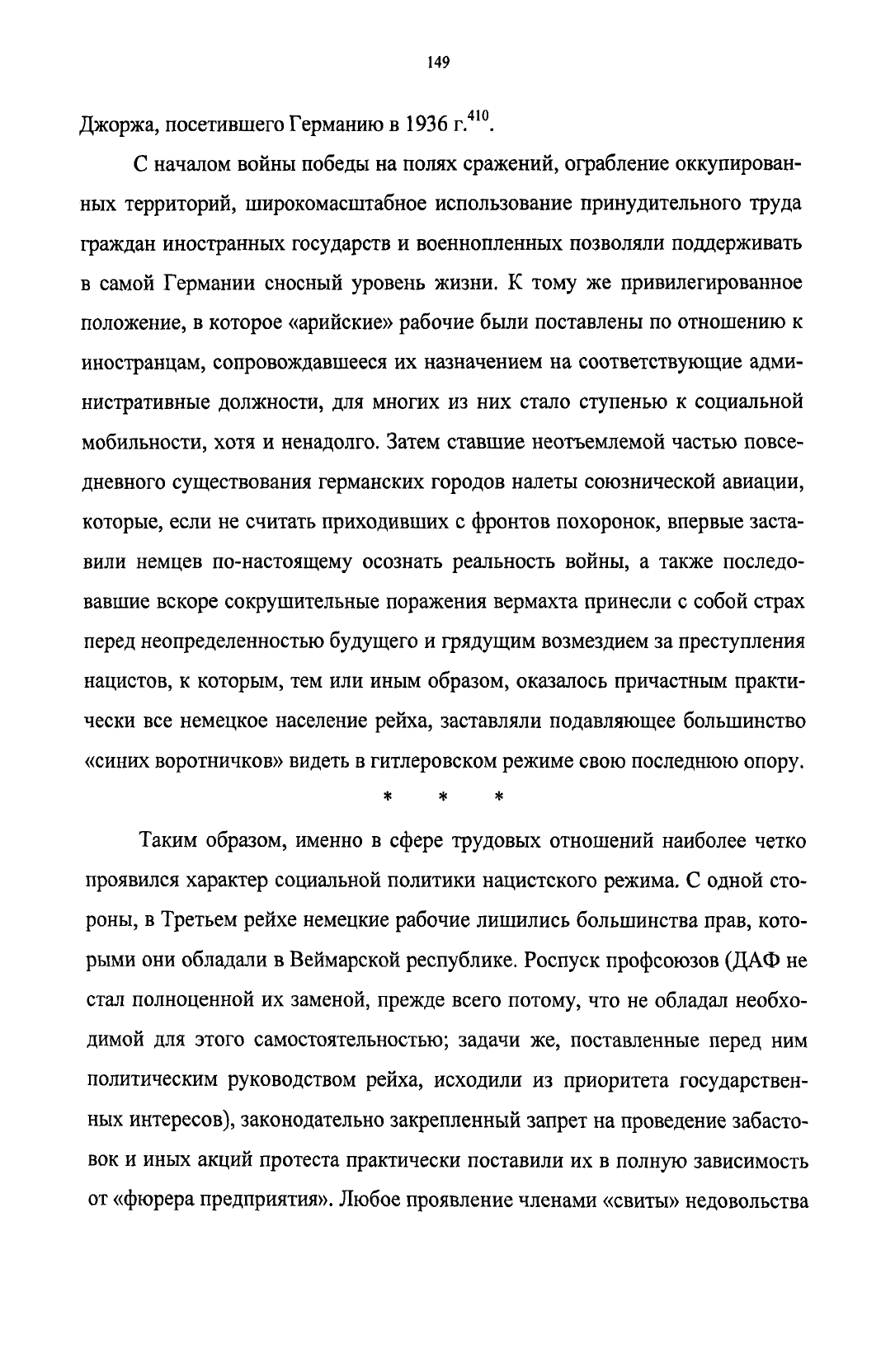
149
Джоржа, посетившего Германию в 1936 г/'°.
С
началом войны победы на полях сражений, ограбление оккупирован-
ных территорий, широкомасштабное использование принудительного
труда
граждан иностранных
государств
и военнопленных позволяли поддерживать
в
самой Германии сносный уровень жизни. К
тому
же привилегированное
положение,
в которое «арийские» рабочие были поставлены по отношению к
иностранцам,
сопровождавшееся их назначением на соответствующие адми-
нистративные должности, для многих из них стало ступенью к социальной
мобильности,
хотя
и ненадолго. Затем ставшие неотъемлемой
частью
повсе-
дневного суп];ествования германских городов налеты союзнической авиации,
которые, если не считать приходивших с фронтов похоронок, впервые заста-
вили
немцев по-настоящему осознать реальность войны, а также последо-
вавшие вскоре сокрушительные поражения
вермахта
принесли с собой
страх
перед неопределенностью
будущего
и грядущим возмездием за преступления
нацистов,
к которым, тем или иным образом, оказалось причастным практи-
чески все немецкое население
рейха,
заставляли подавляющее большинство
«синих воротничков» видеть в гитлеровском режиме свою последнюю опору.
Таким
образом, именно в сфере
трудовых
отношений наиболее четко
проявился
характер социальной политики нацистского режима. С одной сто-
роны,
в Третьем
рейхе
немецкие рабочие лишились большинства прав, кото-
рыми
они обладали в Веймарской республике. Роспуск профсоюзов (ДАФ не
стал полноценной их заменой, прежде всего потому, что не
обладал
необхо-
димой для этого самостоятельностью; задачи же, поставленные перед ним
политическим руководством
рейха,
исходили из приоритета государствен-
ных интересов), законодательно закрепленный запрет на проведение забасто-
вок
и иных акций протеста практически поставили их в полную зависимость
от
«фюрера
предприятия».
Любое
проявление членами
«свиты»
недовольства
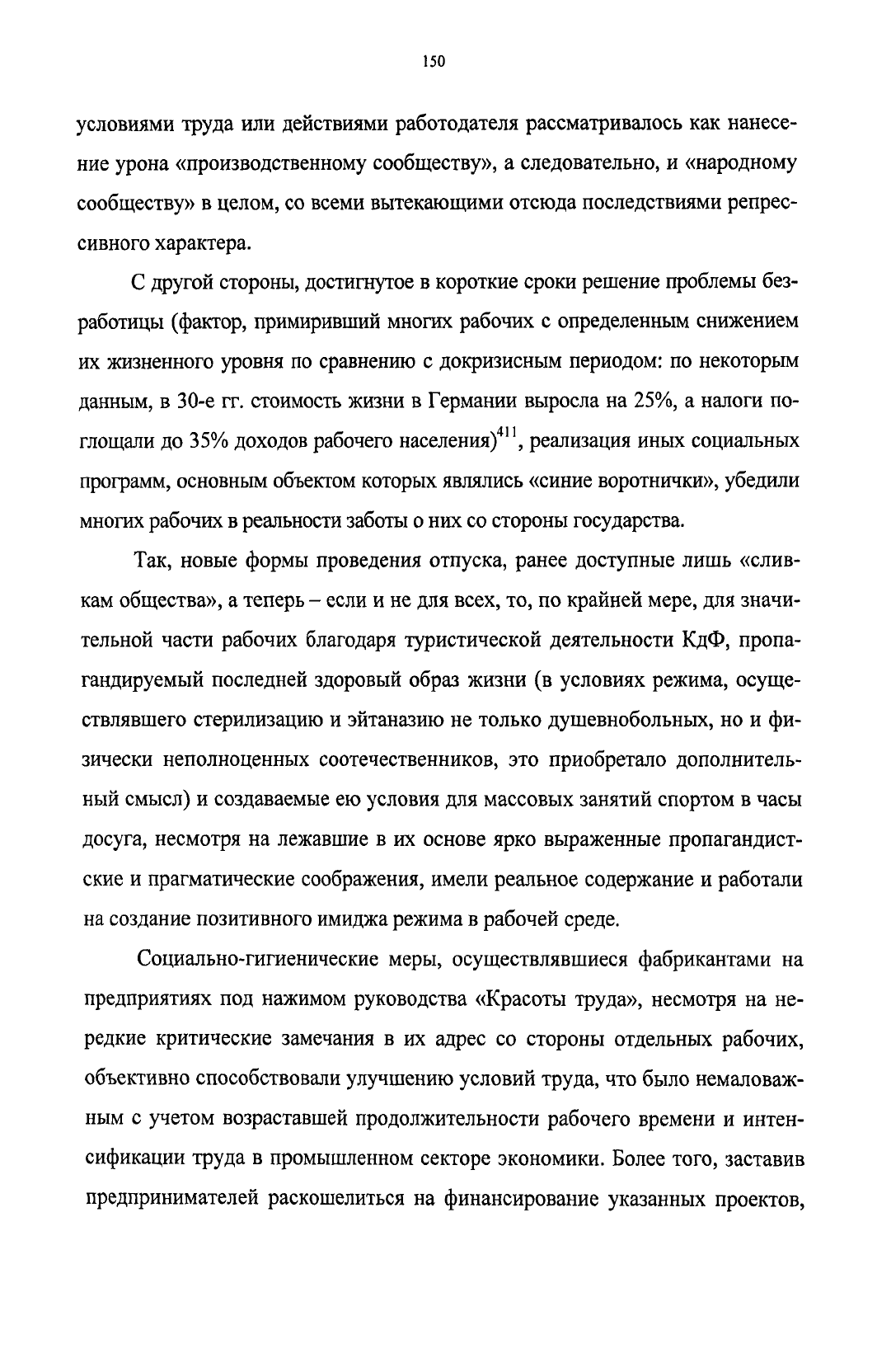
150
условиями
труда
или действиями работодателя рассматривалось как нанесе-
ние
урона «производственному сообществу», а следовательно, и «народному
сообществу»
в целом, со всеми вытекающими отсюда последствиями репрес-
сивного характера.
С
другой
стороны,
достигнутое в короткие сроки рещение проблемы без-
работицы (фактор, примиривший многих рабочих с определенным снижением
их жизненного уровня по сравнению с докризисным периодом: по некоторым
данным,
в 30-е гг. стоимость жизни в Германии выросла на 25%, а налоги по-
глощали до 35%
доходов
рабочего
населения)'*",
реализация иных социальных
программ, основным объектом которых являлись «синие воротнички», убедили
многих рабочих в реальности заботы
о
них со стороны
государства.
Так,
новые формы проведения отпуска, ранее доступные лишь «слив-
кам
общества», а теперь - если и не для
всех,
то, по крайней мере, для значи-
тельной части рабочих благодаря туристической деятельности КдФ, пропа-
гандируемый последней здоровый образ жизни (в условиях режима, осуще-
ствлявшего стерилизацию и эйтаназию не только душевнобольных, но и фи-
зически
неполноценных соотечественников, это приобретало дополнитель-
ный
смысл) и создаваемые ею условия для массовых занятий спортом в часы
досуга,
несмотря на лежавшие в их основе ярко выраженные пропагандист-
ские
и прагматические соображения, имели реальное содержание и работали
на
создание позитивного имиджа режима в рабочей среде.
Социально-гигиенические меры, осуществлявшиеся фабрикантами на
предприятиях под нажимом руководства «Красоты
труда»,
несмотря на не-
редкие критические замечания в их адрес со стороны отдельных рабочих,
объективно способствовали улучшению условий
труда,
что было немаловаж-
ным
с
учетом
возраставшей продолжительности рабочего времени и интен-
сификации
труда
в промышленном секторе
экономики.
Более того, заставив
предпринимателей раскошелиться на финансирование указанных проектов.
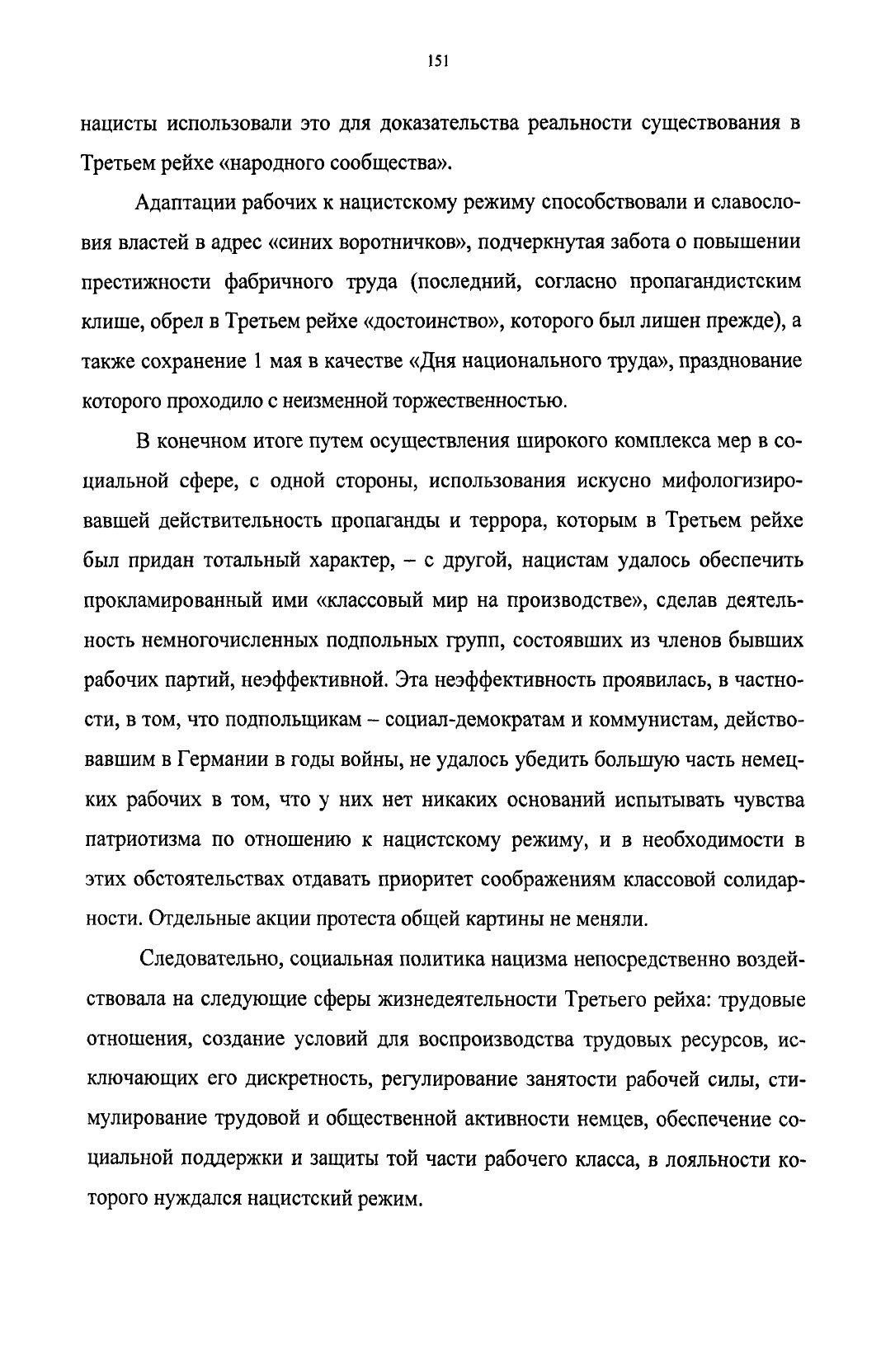
151
нацисты
использовали это для доказательства реальности существования в
Третьем рейхе «народного сообщества».
Адаптации рабочих к нацистскому режиму способствовали и славосло-
вия
властей в адрес «синих воротничков», подчеркнутая забота о повышении
престижности фабричного
труда
(последний, согласно пропагандистским
клише,
обрел в Третьем рейхе «достоинство», которого был лишен прежде), а
также сохранение 1 мая в качестве «Дня национального
труда»,
празднование
которого проходило с
неизменной
торжественностью.
В конечном итоге путем осуществления широкого комплекса мер в со-
циальной
сфере, с одной стороны, использования искусно мифологизиро-
вавшей действительность пропаганды и террора, которым в Третьем рейхе
был придан тотальный характер, - с другой, нацистам удалось обеспечить
прокламированный
ими «классовый мир на производстве», сделав деятель-
ность немногочисленных подпольных групп, состоявших из членов бывших
рабочих партий,
неэффективной.
Эта неэффективность проявилась, в частно-
сти,
в том, что подпольщикам - социал-демократам и коммунистам, действо-
вавшим в Германии в годы
войны,
не удалось
убедить
большую часть немец-
ких рабочих в том, что у них нет никаких оснований испытывать
чувства
патриотизма по отношению к нацистскому режиму, и в необходимости в
этих обстоятельствах отдавать приоритет соображениям классовой солидар-
ности.
Отдельные
акции
протеста общей картины не меняли.
Следовательно, социальная политика нацизма непосредственно воздей-
ствовала на следующие сферы жизнедеятельности Третьего рейха:
трудовые
отношения,
создание условий для воспроизводства
трудовых
ресурсов, ис-
ключающих его дискретность, регулирование занятости рабочей силы, сти-
мулирование трудовой и общественной активности немцев, обеспечение со-
циальной
поддержки и защиты той части рабочего класса, в лояльности ко-
торого нуждался
нацистский
режим.
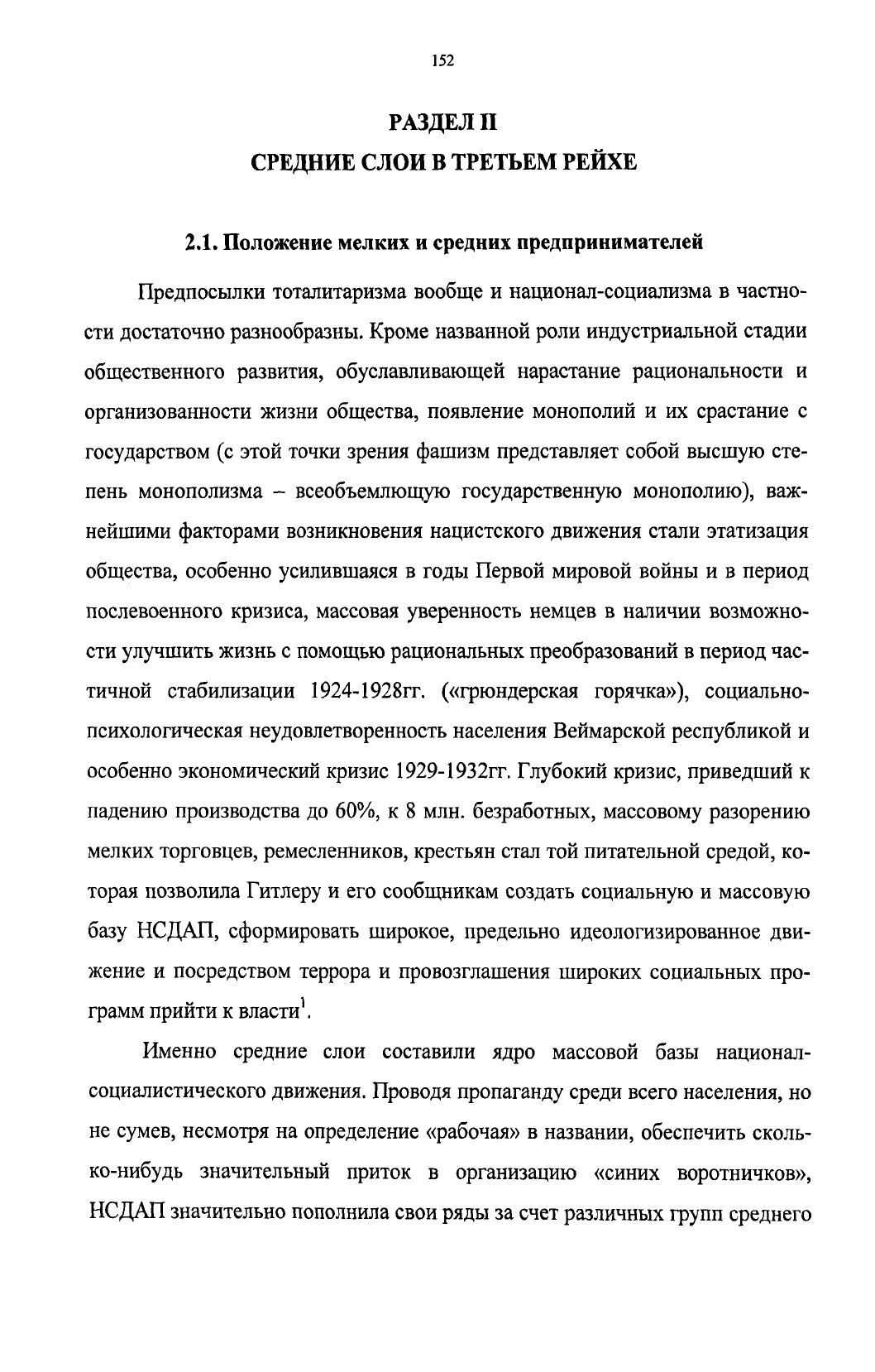
152
РАЗДЕЛ
II
СРЕДНИЕ
СЛОИ
В
ТРЕТЬЕМ
РЕЙХЕ
2.1.
Положение
мелких и средних нредиринимателей
Предпосылки тоталитаризма вообще
и
национал-социализма
в
частно-
сти достаточно
разнообразны.
Кроме названной роли индустриальной стадии
общественного развития, обуславливающей нарастание рациональности
и
организованности жизни общества, появление монополий
и их
срастание
с
государством
(с
этой точки зрения фашизм представляет собой
высшую
сте-
пень
монополизма
-
всеобъемлющую
государственную
монополию),
важ-
нейшими
факторами возникновения нацистского движения стали этатизация
общества, особенно усилившаяся
в
годы
Первой мировой войны
и в
период
послевоенного кризиса, массовая уверенность немцев
в
наличии возможно-
сти
улучшить
жизнь
с
помощью рациональных преобразований
в
период час-
тичной стабилизации
1924-1928гг.
(«грюндерская горячка»), социально-
психологическая неудовлетворенность населения Веймарской республикой
и
особенно экономический кризис
1929-1932гг.
Глубокий кризис, приведший к
падению производства до 60%,
к 8
млн, безработных, массовому разорению
мелких торговцев, ремесленников, крестьян
стал
той питательной средой, ко-
торая позволила
Гитлеру
и его сообщникам создать социальную
и
массовую
базу
ПСДАП, сформировать широкое, предельно идеологизированное
дви-
жение
и
посредством террора
и
провозглашения широких социальных про-
грамм прийти к власти'.
Именно
средние слои составили ядро массовой базы национал-
социалистического движения. Проводя пропаганду среди
всего
населения, но
не
сумев, несмотря на определение
«рабочая»
в
названии, обеспечить сколь-
ко-нибудь значительный приток
в
организацию «синих воротничков»,
НСДАП значительно пополнила свои ряды за
счет
различных групп среднего
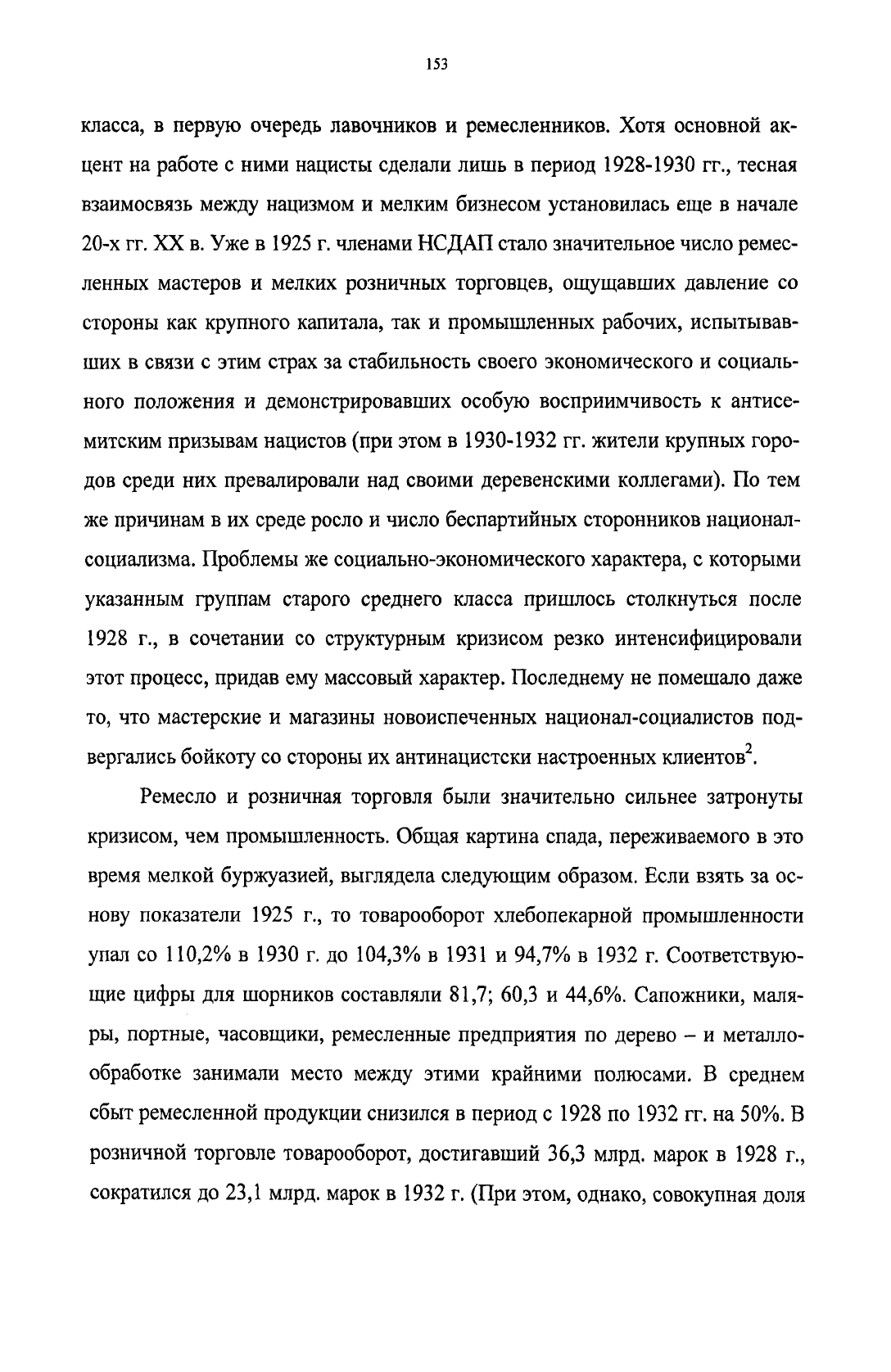
153
класса, в
первую
очередь лавочников и ремесленников.
Хотя
основной ак-
цент на работе с ними нацисты сделали лишь в период
1928-1930
гг., тесная
взаимосвязь
между
нацизмом и мелким бизнесом установилась еще в начале
20-х гг. XX
в.
Уже в 1925 г. членами НСДАП стало значительное число ремес-
ленных мастеров и мелких розничных торговцев, ощущавших давление со
стороны как крупного капитала, так и промышленных рабочих, испытывав-
ших в связи с этим
страх
за стабильность своего экономического и социаль-
ного положения и демонстрировавших
особую
восприимчивость к антисе-
митским призывам нацистов (при этом в
1930-1932
гг. жители крупных горо-
дов среди них превалировали над своими деревенскими коллегами). По тем
же причинам в их
среде
росло и число беспартийных сторонников национал-
социализма. Проблемы же социально-экономического характера, с которыми
указанным группам старого среднего класса пришлось столкнуться после
1928 г., в сочетании со структурным кризисом резко интенсифицировали
этот процесс, придав ему массовый характер. Последнему не помешало
даже
то, что мастерские и магазины новоиспеченных национал-социалистов под-
вергались бойкоту со стороны их антинацистски настроенных клиентов^.
Ремесло и розничная торговля были значительно сильнее затронуты
кризисом,
чем промышленность. Общая картина спада, переживаемого в это
время мелкой буржуазией, выглядела следующим образом. Если взять за ос-
нову показатели 1925 г., то товарооборот хлебопекарной промышленности
упал
со
110,2%
в 1930 г. до 104,3% в 1931 и 94,7% в 1932 г. Соответствую-
щие цифры для шорников составляли 81,7; 60,3 и
44,6%.
Сапожники, маля-
ры,
портные, часовщики, ремесленные предприятия по дерево - и металло-
обработке занимали место
между
этими крайними полюсами. В среднем
сбыт ремесленной продукции снизился в период с 1928 по 1932 гг. на 50%. В
розничной
торговле товарооборот, достигавший 36,3 млрд. марок в 1928 г.,
сократился до 23,1 млрд. марок в 1932 г. (При этом, однако, совокупная доля
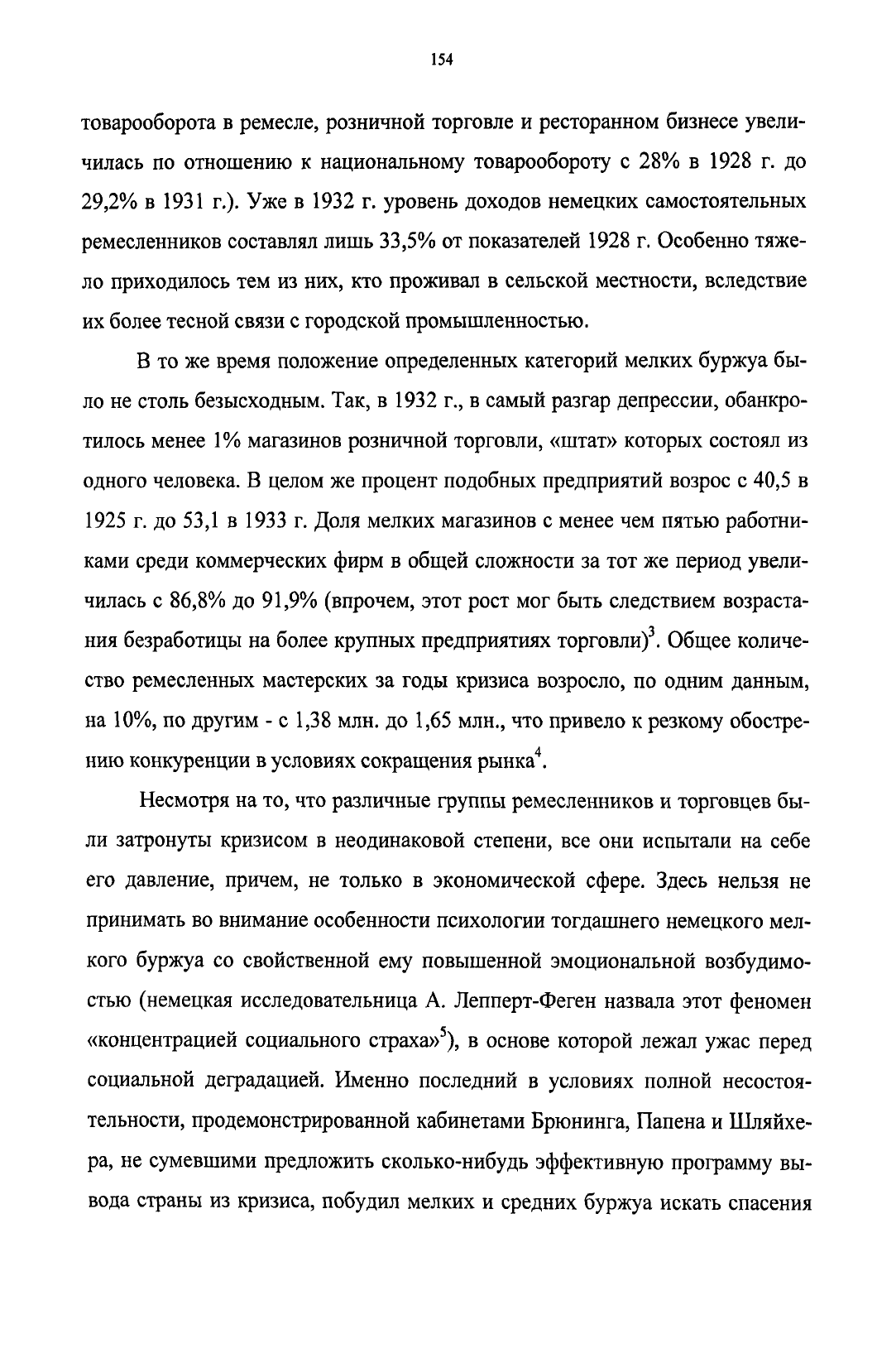
154
товарооборота в ремесле, розничной торговле и ресторанном бизнесе увели-
чилась по отношению к национальному товарообороту с 28% в 1928 г. до
29,2% в 1931 г.). Уже в 1932 г. уровень
доходов
немецких самостоятельных
ремесленников
составлял лишь 33,5% от показателей 1928 г. Особенно тяже-
ло приходилось тем из них, кто проживал в сельской местности, вследствие
их более тесной связи с городской промышленностью.
В то же время положение определенных категорий мелких
буржуа
бы-
ло не столь безысходным. Так, в 1932 г., в самый разгар депрессии, обанкро-
тилось менее 1% магазинов розничной торговли,
«штат»
которых состоял из
одного человека. В целом же процент подобных предприятий возрос с 40,5 в
1925 г. до 53,1 в 1933 г. Доля мелких магазинов с менее чем пятью работни-
ками
среди коммерческих фирм в общей сложности за тот же период увели-
чилась с 86,8% до 91,9% (впрочем, этот рост мог быть следствием возраста-
ния
безработицы на более крупных предприятиях торговли)^. Обш,ее количе-
ство ремесленных мастерских за
годы
кризиса возросло, по одним данным,
на
10%, по
другим
- с 1,38 млн. до 1,65 млн., что привело к резкому обостре-
нию
конкуренции в условиях сокращения
рынка'*.
Несмотря
на то, что различные группы ремесленников и торговцев бы-
ли
затронуты кризисом в неодинаковой степени, все они испытали на
себе
его давление, причем, не только в экономической сфере. Здесь нельзя не
принимать
во внимание особенности психологии тогдашнего немецкого мел-
кого
буржуа
со свойственной ему повышенной эмоциональной возбудимо-
стью
(немецкая исследовательница А. Лепперт-Феген назвала этот феномен
«концентрацией социального
страха»^),
в основе которой
лежал
ужас
перед
социальной
деградацией. Именно последний в условиях полной несостоя-
тельности, продемонстрированной кабинетами Брюнинга, Папена и Шляйхе-
ра, не сумевшими предложить сколько-нибудь эффективную программу вы-
вода
страны из кризиса, побудил мелких и средних
буржуа
искать спасения
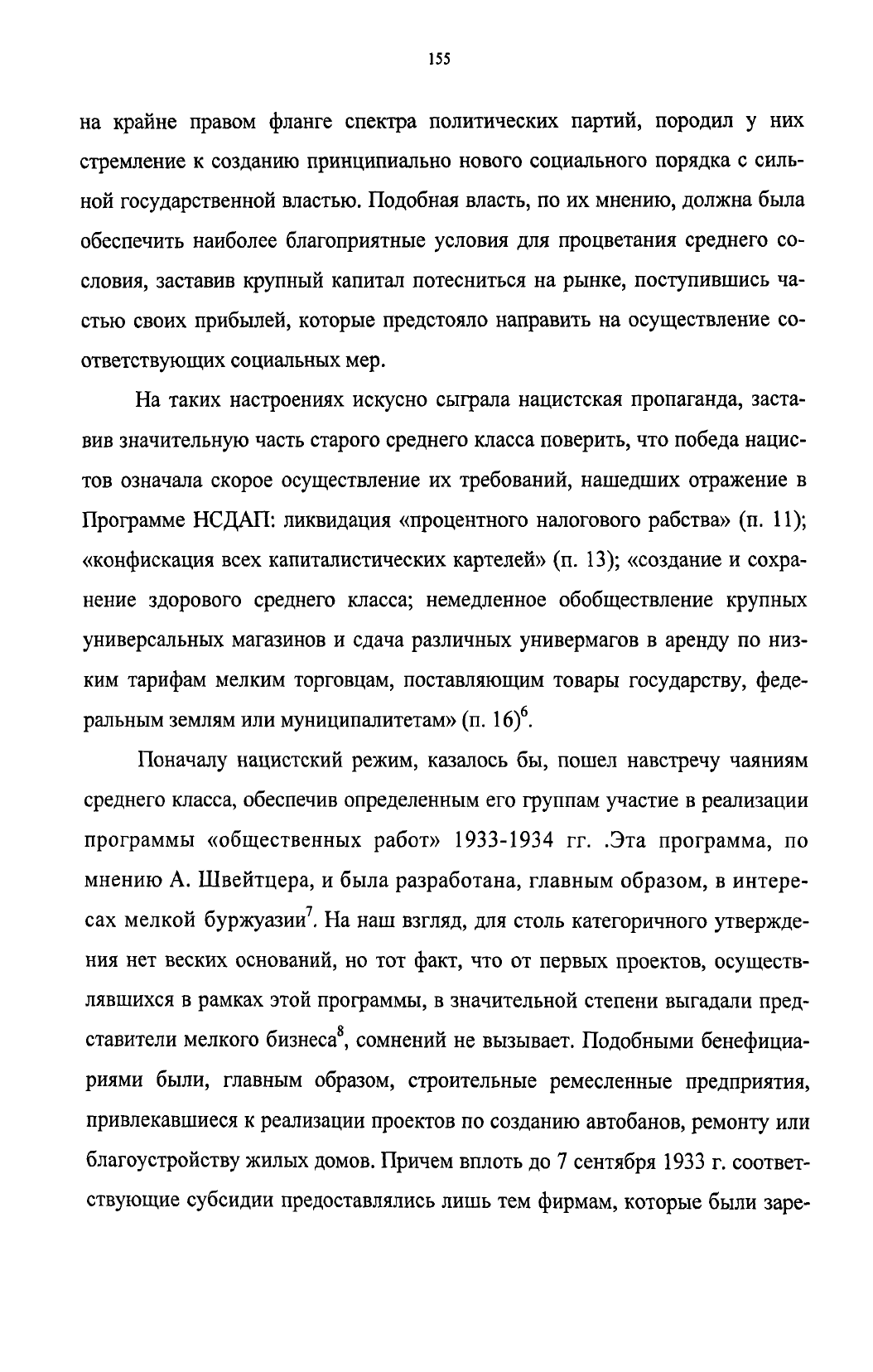
155
на
крайне правом фланге спектра политических партий, породил у них
стремление к созданию принципиально нового социального порядка с силь-
ной
государственной властью. Подобная власть, по их
мнению,
должна была
обеспечить наиболее благоприятные условия для процветания среднего со-
словия,
заставив крупный капитал потесниться на рынке, поступившись ча-
стью своих прибылей, которые предстояло направить на осуществление со-
ответствующих социальных мер.
Па
таких настроениях искусно сыграла нацистская пропаганда, заста-
вив значительную часть старого среднего класса поверить, что победа нацис-
тов означала скорое осуществление их требований, нашедших отражение в
Программе ПСДАП: ликвидация «процентного налогового
рабства»
(п. 11);
«конфискация
всех
капиталистических картелей» (п. 13); «создание и сохра-
нение
здорового среднего класса; немедленное обобществление крупных
универсальных магазинов и сдача различных универмагов в аренду по низ-
ким
тарифам мелким торговцам, поставляющим товары
государству,
феде-
ральным землям или муниципалитетам»
(п.
16)^.
Поначалу нацистский режим, казалось бы, пошел навстречу чаяниям
среднего класса, обеспечив определенным его группам участие в реализации
программы «общественных
работ»
1933-1934
гг. .Эта программа, по
мнению
А. Швейтцера, и была разработана, главным образом, в интере-
сах мелкой буржуазии^. Па наш взгляд, для столь категоричного
утвержде-
ния
нет веских оснований, но тот факт, что от первых проектов, осуществ-
лявшихся в рамках этой программы, в значительной степени выгадали пред-
о
ставители мелкого бизнеса , сомнений не вызывает. Подобными бенефициа-
риями
были, главным образом, строительные ремесленные предприятия,
привлекавшиеся к реализации проектов по созданию автобанов, ремонту или
благоустройству жилых домов. Причем вплоть до 7 сентября 1933 г. соответ-
ствующие субсидии предоставлялись лишь тем фирмам, которые были заре-
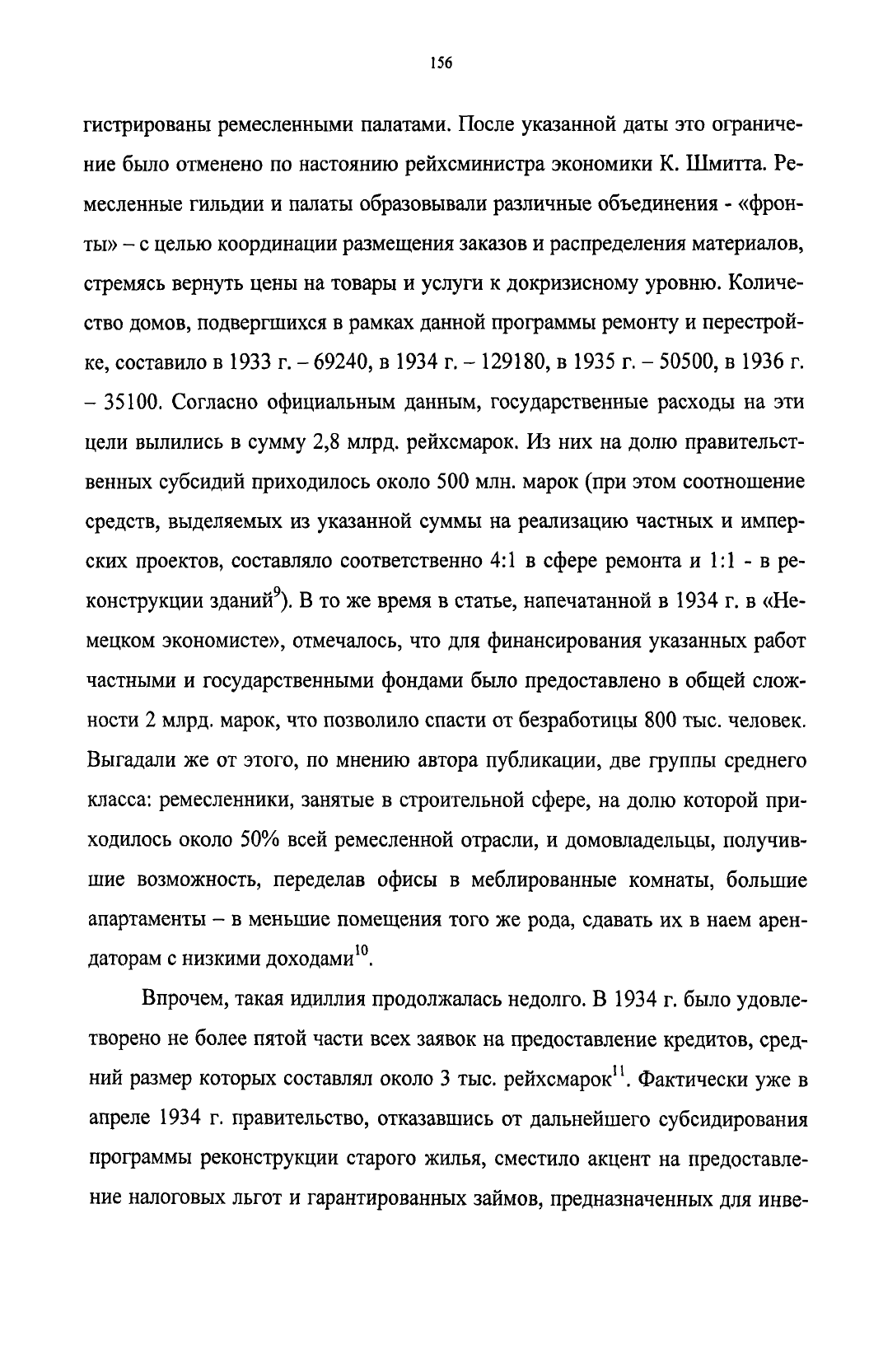
156
гистрированы ремесленными палатами. После указанной
даты
это ограниче-
ние
было отменено по настоянию рейхсминистра
экономики
К. Шмитта. Ре-
месленные гильдии и палаты образовывали различные объединения - «фрон-
ты» - с целью
координации
размещения заказов и распределения материалов,
стремясь вернуть цены на товары и
услуги
к докризисному уровню. Количе-
ство домов, подвергшихся в рамках данной программы ремонту и перестрой-
ке,
составило в 1933 г. -
69240,
в 1934 г. -
129180,
в 1935 г. -
50500,
в 1936 г.
-
35100.
Согласно официальным данным, государственные
расходы
на эти
цели вылились в
сумму
2,8 млрд. рейхсмарок. Из них на
долю
правительст-
венных субсидий приходилось около 500 млн. марок (при этом соотношение
средств, выделяемых из указанной суммы на реализацию частных и импер-
ских проектов, составляло соответственно 4:1 в сфере ремонта и 1:1 - в ре-
конструкции
зданий^).
В то же время в статье, напечатанной в 1934 г. в «Не-
мецком
экономисте», отмечалось, что для финансирования указанных работ
частными и государственными фондами было предоставлено в общей слож-
ности
2 млрд. марок, что позволило спасти от безработицы 800 тыс. человек.
Выгадали
же от этого, по мнению автора публикации, две группы среднего
класса: ремесленники, занятые в строительной сфере, на
долю
которой при-
ходилось около 50% всей ремесленной отрасли, и домовладельцы, получив-
шие возможность, переделав офисы в меблированные комнаты, большие
апартаменты - в меньшие помещения
того
же рода,
сдавать
их в наем арен-
даторам с
низкими
доходами'°.
Впрочем, такая идиллия продолжалась недолго. В 1934 г. было
удовле-
творено не более пятой части
всех
заявок на предоставление кредитов, сред-
ний
размер которых составлял около 3 тыс. рейхсмарок'^ Фактически уже в
апреле 1934 г. правительство, отказавшись от дальнейшего субсидирования
программы реконструкции старого жилья, сместило акцент на предоставле-
ние
налоговых
льгот
и гарантированных займов, предназначенных для инве-
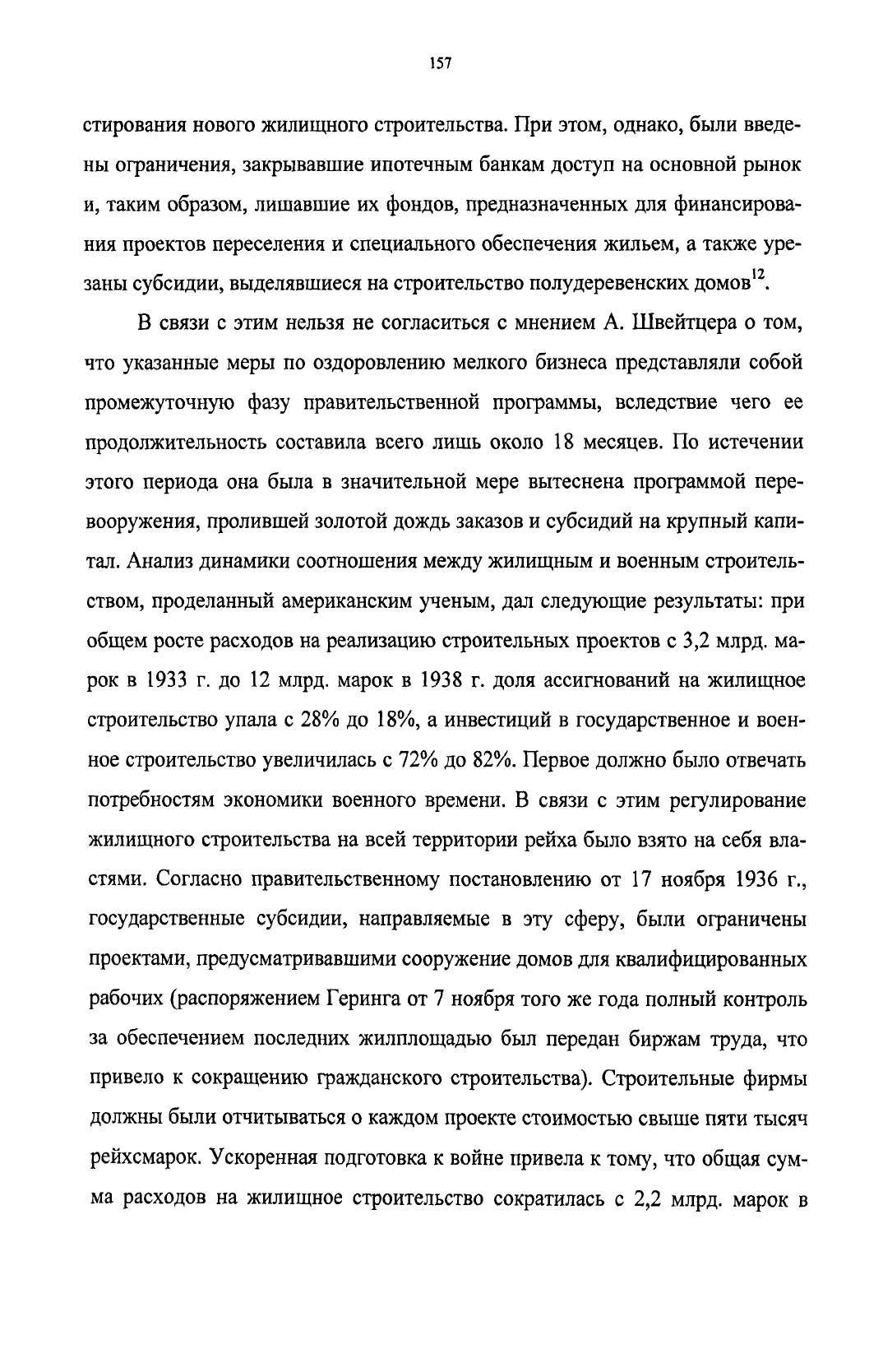
157
стирования
нового жилищного строительства. При этом, однако, были введе-
ны
ограничения, закрывавшие ипотечным банкам
доступ
на основной рынок
и,
таким образом, лишавшие их фондов, предназначенных для финансирова-
ния
проектов переселения и специального обеспечения жильем, а также уре-
заны
субсидии, выделявшиеся на строительство полудеревенских домов'^.
В связи с этим нельзя не согласиться с мнением А. Швейтцера о том,
что указанные меры по оздоровлению мелкого бизнеса представляли собой
промежуточную фазу правительственной программы, вследствие
чего
ее
продолжительность составила всего лишь около 18 месяцев. По истечении
этого периода она была в значительной мере вытеснена программой пере-
вооружения, пролившей золотой
дождь
заказов и субсидий на крупный капи-
тал. Анализ динамики соотношения
между
жилищным и военным строитель-
ством, проделанный американским ученым, дал
следующие
результаты:
при
общем росте
расходов
на реализацию строительных проектов с 3,2 млрд. ма-
рок
в 1933 г. до 12 млрд. марок в 1938 г. доля ассигнований на жилищное
строительство
упала
с 28% до 18%, а инвестиций в государственное и воен-
ное
строительство увеличилась с 72% до 82%. Первое должно было отвечать
потребностям экономики военного времени. В связи с этим регулирование
жилищного строительства на всей территории
рейха
было взято на себя вла-
стями.
Согласно правительственному постановлению от 17 ноября 1936 г.,
государственные субсидии, направляемые в эту сферу, были ограничены
проектами,
предусматривавшими сооружение домов для квалифицированных
рабочих (распоряжением Геринга от 7 ноября
того
же
года
полный контроль
за обеспечением последних жилплощадью был передан биржам
труда,
что
привело к сокращению гражданского строительства). Строительные фирмы
должны были отчитываться о каждом проекте стоимостью свыше пяти тысяч
рейхсмарок. Ускоренная подготовка к войне привела к
тому,
что общая сум-
ма
расходов
на жилищное строительство сократилась с 2,2 млрд. марок в
