Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2
Подождите немного. Документ загружается.

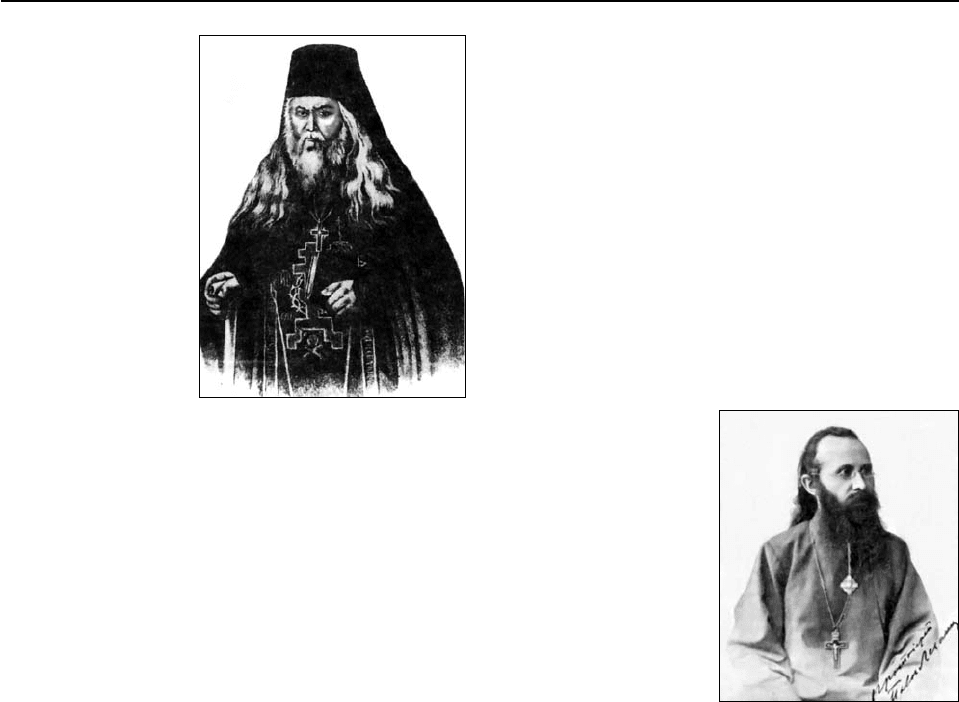
161ЛЕВАШЕВ П. Н.
тейский опыт, кото
рый пригодился ему
в годы его старчество
вания, когда приходи
ли к нему люди за ду
ховными советами.
В 1797 преподоб
ный оставил мир
и вступил в число бра
тии Оптиной пустыни
при игум. Авраамии,
а через 2 года перешел
в Белобережскую пус
тынь, где с 1804 стал
настоятелем.
В 1829 прп. Лев
вместе с 6 учениками
вернулся в Оптину пус
тынь. Настоятель прп.
Моисей, зная духовную
опытность прп. Льва, поручил ему окормлять братию и бо
гомольцев. Вскоре в Оптину прибыл и прп. Макарий. Еще
иноком Площанской пустыни он познакомился
с прп. Львом и теперь пришел под его духовное руководст
во. Он становится ближайшим учеником, сотаинником
и помощником во время старчествования прп. Льва.
Прп. Лев обладал многими духовными дарованиями.
Был у него и дар исцелений. Приводили к нему многих
бесноватых. Одна из них как увидела старца, упала перед
ним и закричала страшным голосом: «Вот этот-то седой
меня выгонит: был я в Киеве, в Москве, в Воронеже, ни
кто меня не гнал, а теперь-то я выйду!» Когда преподоб
ный прочитал над женщиной молитву и помазал маслом
из лампадки, горевшей пред образом Владимирской Бого
матери, бес вышел.
Победа над бесами, конечно, была одержана прп.
Львом только после победы над своими страстями. Никто
не видел его возмущенным от страшного гнева и раздра
жения, не слышал от него слов нетерпения и ропота. Спо
койствие и христианская радость не оставляли его. Прп.
Лев все время творил Иисусову молитву, внешне пребывая
с людьми, внутренне всегда пребывал с Богом. На вопрос
своего ученика: «Батюшка! Как вы приобрели такие ду
ховные дарования?» — преподобный ответил: «Живи про
ще, Бог и тебя не оставит и явит милость Свою».
Старчество прп. Льва продолжалось двенадцать лет
и принесло великую духовную пользу. Чудеса, совершае
мые преподобным, были бесчисленны: толпы обездолен
ных стекались к нему, окружали его, и всем им как мог по
могал преподобный. Иером. Леонид (будущий наместник
Троице-Сергиевой лавры) писал, что простой люд говорил
ему о старце: «Да он для нас, бедных, неразумных, пуще
отца родного. Мы без него, почитай, сироты круглые».
Не без скорби приближался прп. Лев к концу своей
многотрудной жизни, о близости которого имел предчув
ствие. В сентябре 1841 он начал заметно слабеть, перестал
вкушать пищу и ежедневно причащался Святых Христо
вых Таин. В день кончины преподобного служили все
нощную в память Святых Отцев VII Вселенского Собора.
А сам день праздника встретил прп. Лев уже на небесах.
Память прп. Льву отмечается 11/24 окт.
ЛЕВАШЕВ, о. Павел Никанорович (17.12.1866—
9[22].12.1937), протоиерей. Сын псаломщика Троицкого
собора г. Котельнич Вятской губ. Окончил в 1880 Нолин
ское духовное училище, в 1886 — Вятскую духовную се
минарию, в 1890 — Петербургскую духовную академию.
Кандидат богословия, диссертация на тему «История
праздника Пасхи (преимущественно со стороны Литур
гической)». В 1890—91 — преподаватель арифметики
в Вятском епархиальном женском училище, в 1891—93 —
преподаватель догматического богословия в Вятской ду
ховной семинарии. В 1893 переехал в Петербург, до 1895
занимал должность эконома в духовной академии.
В 1895—1902 законоучитель и священник церкви Учили
ща лекарских помощниц и фельдшериц, в 1901 организо
вал при церкви и барачном лазарете Братство Святого
Креста. С 4 окт. 1902 священник церкви Великомученика
и Победоносца Георгия при Генеральном и Главном шта
бе. Активно занимался проповеднической и миссионер
ской деятельностью, с 1906 издавал по благословению
о. Иоанна Кронштадтско
го народно-просветитель
ские Листки для народа
и войск под названием
«Правда и знание». С 1909
член Общества в память
о. Иоанна Кронштадтско
го, в котором с 1911 был
товарищем председателя
и пожизненным членом,
с 1912 был почетным чле
ном Братства Св. Иоаса
фа Белгородского. О. Па
вел был весьма известным
священником в Петер
бурге, он был членом
епархиального миссио
нерского совета с 1910, членом Училищного совета при
Св. Синоде с 1910, членом учебного комитета при Св. Си
ноде с 1913. Он подвизался и на ниве журналистики:
в 1906—11 был издателем и редактором еженедельного
журнала «Доброе слово», сотрудничал в «Новом времени»,
«Церковных ведомостях», «Церковном вестнике», «Рус
ском паломнике», «Душеполезном чтении», «Колоколе»,
«Вестнике Русского Собрания» и др. органах печати.
С 1903 о. Левашев состоял членом РС, активно участ
вовал в деятельности организации, был назначен первым
законоучителем гимназии РС: преподавал Закон Божий
в гимназии в 1907—10 и с 1913. Зимой 1910 он вел специ
альные религиозно-нравственные чтения в РС. Был
участником 4-го Всероссийского съезда Объединенного
русского народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907, выступал
на 1-м Всероссийском съезде представителей правой рус
ской печати, который проходил 29 апр. 1907 в рамках
Четвертого Съезда. По окончании Съезда под псевд.
«Г. П.» выпустил брошюру «Под впечатлением Москов
ского съезда «Объединенного Русского Народа»», в кото
рой проводил мысль о том, что Черная сотня является
наследницей идей славянофилов: «Известно, что наши
знаменитые славянофилы — братья Киреевские, Хомя
ков, Аксаков, Достоевский — как бы в каком-то молит
венном экстазе нередко предсказывали, что близко вре
Прп. Лев Оптинский.
Левашев П. Н.

162 ЛЕВИЦКИЙ ФЕОДОСИЙ
мя, когда наша Святая Русь скажет миру свое великое
слово, и мир пойдет за ней или погибнет. Мы чувствуем,
мы верим, мы видим, что этот момент близок к нам, вот
он уже наступает. И Русь Святая, наша, родная скажет
свое слово, скажет устами Объединенного Русского На
рода. Скажет, должна сказать, — теперь или никогда!»
О. Павел принимал также участие и в славянском движе
нии, состоя с 1915 членом Петроградского Славянского
благотворительного общества.
После революции он служил в Москве, где 10 дек. 1937
был арестован. Обвинение было стандартным — руковод
ство контрреволюционной фашистской группой церков
ников. Осужден тройкой УНКВД по Московской обл.
20 дек. 1937, приговорен к расстрелу. Принял мученичес
кую кончину на Бутовском полигоне, где и захоронен.
Соч.: Вера во Христа Иисуса, как сила, побеждающая мир.
СПб., 1895; Краткое историко-географическое описание мест
ности, занимаемой ныне Санкт-Петербургом. СПб., 1903; Се
мья и школа по А. С. Хомякову. Речь. СПб., 1904; Под впечатле
нием московского Съезда Объединенного Русского Народа.
СПб., 1907; Прот. Иоанн Ильич Сергеев (Кронштадтский) как
пастырь по завету Христа. СПб., 1908; Благодатная сила молит
вы о. Иоанна и вселенское значение его молитвенного подвига.
(Читано в РС 2 февр. 1909). СПб., 1909; Замечательный случай
Божьего милосердия по молитвам о. Иоанна Кронштадтского
в наши лукавые дни. (Исцеление Павла Афанасьевича Ильино
ва, 16-летнего мальчика при гробнице о. И. И. Сергеева). М.,
1910; Памяти доброго русского пастыря, прот. Иоанна Ильича
Сергеева. СПб., 1911; Зачем так много у нас обрядов. По мыслям
лучших русских людей. СПб., 1915; М., 1997.
Лит.: XLVII курс Петроградской Духовной Академии. Био
графический словарь. Пг., 1916. А. Степанов
ЛЕВИЦКИЙ Феодосий, священник. Овдовев в 1818, напи
сал послание о близости Страшного суда, которое отправил
в Петербург, после чего был вызван имп. Александром
и оставлен служить в петербургской церкви и проповедо
вать о близкой кончине мира. После наводнения 1824 по
зволил в своих проповедях критику правительства, за что
был сослан в Коневский монастырь. В 1827 ему было разре
шено вернуться из ссылки. Местные скопцы за мистичес
кий образ мыслей считали Левицкого «своим».
ЛЕВКИЙ, преподобный (ск. ок. 1492). Ученик прп.
Пафнутия Боровского, основатель Успенского Левкиева
монастыря Московской епархии. Из чудес преподобного
особенно известна его помощь во время чумы 1771.
Его св. мощи почивали под спудом в соборном храме
Успенского Левкиева монастыря, который был разрушен
в 1930-е. Сейчас на месте погребения прп. Левкия уста
новлен крест.
В храме с. Пески Московской епархии находится гроб
ница от мощей, а также икона с изображением прп. Левкия.
«ЛЕГЕНДА О ГРАДЕ КИТЕЖЕ», памятник древнерус
ской литературы. «Легенда о граде Китеже» была очень
популярным сюжетом в отечественной литературе, особо
почитаемым в среде старообрядцев, — именно в старооб
рядческой «Книге, глаголемой летописец» до нас дошел
наиболее древний вариант этой легенды. В своем окон
чательном виде «Книга, глаголемая летописец» сложи
лась в XVIII в., хотя корни ее восходят к веку XIII.
Сама «Книга» состоит из двух частей. В первой части
повествуется о вел. князе Владимирском и Суздальском
Георгии (Юрии) Всеволодовиче (1188–1238), который по
гиб во время битвы с войсками Батыя на р. Сити (позднее
он был причислен к лику святых). По легендарной вер
сии, именно кн. Георгий княжил в Малом Китеже
на Волге и основал Большой Китеж близ оз. Светлояр.
Во время нашествия Батыя Георгий сначала укрывался
в Малом Китеже, а затем перешел в Большой Китеж.
Здесь князь был убит, а город разорен. И тогда Большой
Китеж стал невидим и исчез.
Интересно, что легендарные сведения имеют под со
бой вполне историческую основу. С 1216 по 1219, еще
до занятия великокняжеского стола, Георгий Всеволодо
вич и вправду был удельным князем в землях, где распо
лагался Малый Китеж. А в 1237 кн. Георгий укрывался
от татар в Ярославских землях, в пределах которых и на
ходились оба города, Большой и Малый Китеж, и где со
стоялась проигранная русскими битва.
Вторая часть — «Повесть и взыскание о граде сокро
венном Китеже» — это легендарное повествование
об исчезнувшем Большом Китеже, лишенное уже всяко
го исторического фона. По своей форме это повествова
ние принадлежит к типу апокрифических памятников,
рассказывающих о «земном рае».
Невидимый Китеж — это место, которое Господь «со
крыл» от «гибели» во время Батыева нашествия. Именно
в Китеже покоренная татарами и «погибшая» Русь все же
сохранила свою святость и свою красоту, укрыв, по Бо
жией воле, и то и др. в «сокровенном» граде. «И сей град
Больший Китежь невидим бысть и покровен рукою Бо
жиею», — говорится в легенде.
Однако образ града Китежа приобрел в сознании
древнерусских людей гораздо более широкое значение —
он превратился в символ русской святости вообще. Ви
димо, и не могло быть иначе. Ведь если татаро-монголь
ское нашествие рассматривалось как Божия кара за гре
хи русского народа, то, следовательно, русская святость
должна быть укрыта не только от иноземных захватчи
ков, но и от русской же греховности.
Поэтому и утверждается в легенде, что град Китеж
никогда не будет доступен людям гордым, корыстным,
развратным, лживым, Более того, по причине извечной
греховности человека, град останется невидим до конца
земной истории: «И не видим будет Больший Китежь да
же и до пришествия Христова».
И тем не менее град Китеж открывает свои врата —
для тех немногих, кто хочет и желает спастись всем серд
цем, кто «никакова помысла» не имеет «лукава и развра
щенна, и мятущего ум и отводящаго в места оного мысли
человека того хотящаго итти». Поэтому в невидимом гра
де пребывают лишь праведники, гонимые злым миром,
но собравшиеся в одном месте в ожидании Второго При
шествия Христа. Праведники молятся за всех искренне
жаждущих спасения и приемлют всякого, кто достоин
избранного пути: «Молят же ся и о хотящих спастися ис
тинным сердцем, а не ложнымъ обещанием. И хотящим
спастися и молитися, который человек обратитися к ним
и аще кто откуду обратился, таковаго приемлет с радос
тию, яко от Бога наставляема».
Итак, невидимый град Китеж — это символ русской
святости, образ «земного рая», в который может попасть
каждый человек, всем сердцем верующий в Бога и жажду
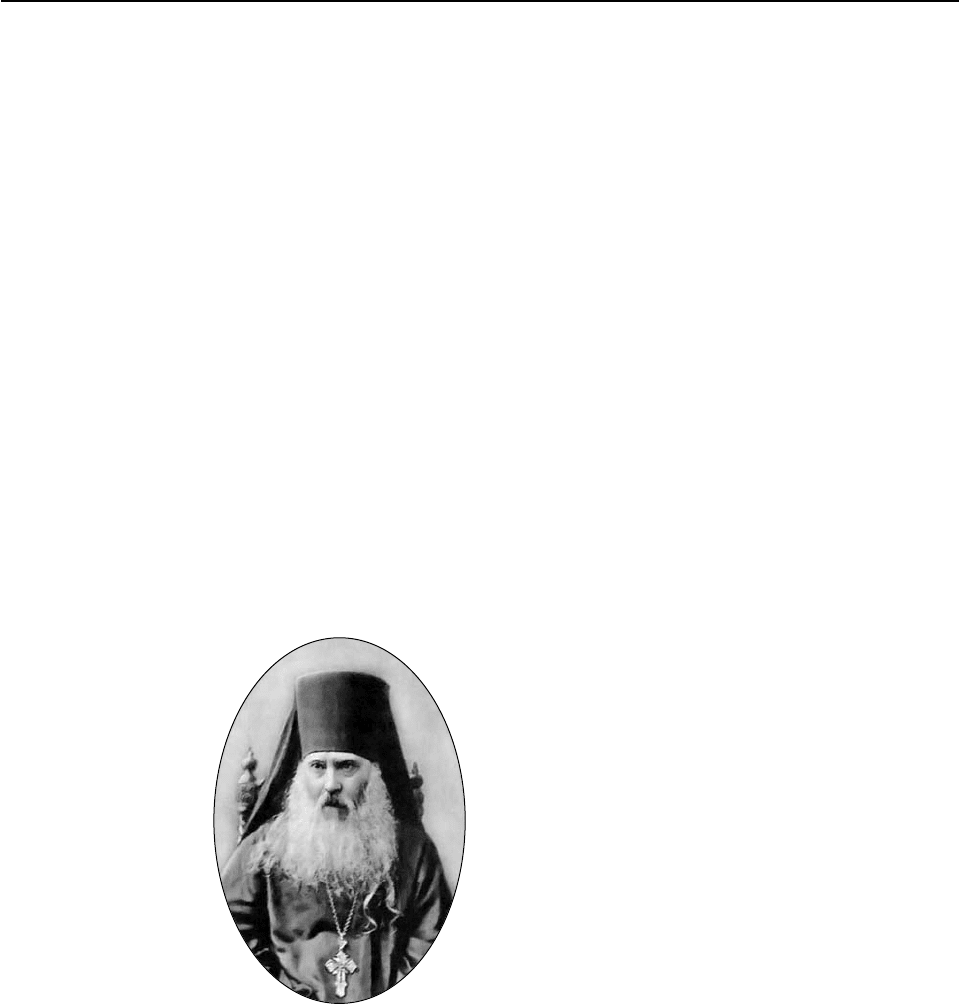
163ЛЕОНИД (КАВЕЛИН)
щий спасения души. И в этом смысле «Легенда о граде Ки
теже» отразила и выразила очень важную черту как русско
го самосознания вообще, так и русской религиозно-фило
софской мысли — мечту о рае на земле, желание устроить
Царство Небесное уже в земной жизни. С. Перевезенцев
ЛЕКТОРСКИЙ Михаил (ск. 28.10[10.11].1920), прото
иерей станицы Ново-Татаринская Кубанской обл.
В 1920, во время десанта войск ген. Врангеля в районе
Приморско-Ахтырской, о. Михаил вместе с др. казаками
был взят большевиками в качестве заложника. Заключен
ные полтора месяца томились в тяжелейших условиях,
и 49-летний о. Михаил превратился в еле передвигающе
гося старика. По просьбе казаков он исповедовал их и на
ставил в скорбный час. «А кровью вы приобщитесь своею.
Теперь же простите меня, в чем я повинен», — так сказал
батюшка последнее слово.
Когда он служил молебен, палачи принялись изби
вать заключенных прикладами, затем им связали руки и,
побросав в арбы, повезли на свалку. О. Михаила подвер
гли страшным истязаниям. После пыток всех заложни
ков расстреляли.
Канонизирован Русской Церковью за Рубежом в 1981.
ЛЕНЬКОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро
дицы — см.: «СПАСИТЕЛЬНИЦА УТОПАЮЩИХ».
ЛЕОНИД (в миру Лев Александрович Кавелин)
(20.02[4.03].1822 по др. сведениям — 19.02[3.03] или
22.02[6.03].1822—22.10[3.11].1891), архимандрит; исто
рик, археограф-славист, библиограф, переводчик, автор
стихов, мемуарной и очерковой прозы. Родился
в с. Спас-Волженское Вяземского у. Смоленской губ.
Из 4-го класса Калужской гимназии определился в 1-й
Московский кадетский
корпус (1835—40), о ко
тором оставил теплые
воспоминания в своем
очерке о преподавателях
«В. Ф. Святловский
и А. П. Хрущов» (опубл.:
«Русский Архив». 1878.
Кн. 3). «За отличные ус
пехи» выпущен офице
ром в лейб-гвардии Во
лынский полк, где про
служил 12 лет.
Первое литературное
выступление — очерк
о военных маневрах, по
священных юбилею Бо
родинского сражения,
«Письмо из Бородина»
(«Журнал для чтения
воспитанникам воен
но-учебных заведений.
1839. № 81); тогда же сочинил стихотворение «Бородин
ское поле» (опубл.: «Маяк». 1845. Кн. 38). В 1843—46
сблизился с С. А. Бурачком и А. П. Башуцким, сотрудни
чал в журналах «Маяк» и «Иллюстрация», публикуя про
никнутые христианским благочестием, но не отмечен
ные оригинальным дарованием стихи (в т. ч. «Скорбной
матери на смерть ее сына» — «Маяк». 1845. Кн. 41), про
зу, в которой общий нравоучительный пафос ослабляет
сюжетное начало (в т. ч. «Предчувствие. Рассказ докто
ра» — Там же. Кн. 44), переводы, преимущественно
с польского (в т. ч. «Вилия» — отрывок из поэмы «Конрад
Валленрод» А. Мицкевича («Иллюстрация». 1846. № 17);
«Душа в чахотке. Отрывок из записок доктора» («Маяк».
1844. Кн. 33 и 34, с подзаголовком «Записки Карла Козе
нице»); назидательный рассказ-переделка «Езоп и Рафа
эль. Воспоминания юности» («Маяк». 1845. Кн. 43),
очерки («Очерки Ораниенбаума» — «Иллюстрация».
1845. № 15), воспоминания («Отрывок из дневника закав
казского офицера. Дербент» — «Маяк». 1845. Кн. 37), ли
тературно-биографическое исследование «А. Е. Измай
лов» («Иллюстрация». 1846. № 17, 18). В 1847 опублико
вал очерк об известном святостью монастыре Оптина
Пустынь, которую знал с детства: «Историческое описа
ние Козельской Введенской Оптиной Пустыни…» (ч. 1—
2. СПб.; 4-е изд. М., 1885). В одобрительной рецензии
М. П. Погодин отметил, что описание очень подробно
и «все источники… употреблены в дело рукою искусною»
(«Москвитянин». 1848. № 4).
Испытав в разные годы духовное влияние Игнатия
(Брянчанинова), старца Макария Оптинского (позже о нем
написал книгу «Сказание о жизни и подвигах… старца
Оптиной Пустыни иеросхимонаха Макария». М., 1861),
а также И. В. Киреевского, в 1852 оставил армию и стал
послушником Оптиной Пустыни; в 1857 пострижен в мо
нахи с именем Леонида. В 1857—59 член Иерусалимской
православной миссии; с 1863 архимандрит, начальник
Российской духовной миссии в Иерусалиме; свои впе
чатления изложил в ряде очерков (в т. ч. «Старый Иеруса
лим и его окрестности» — «Душеполезное чтение». 1870.
№ 1—12; 1871. № 1, 3—6, 9—12; отд. изд. — М., 1873; др.
очерки — «Душеполезное чтение». 1870—73). В 1865 пе
реведен настоятелем посольской церкви в Константино
поле, где познакомился с К. Н. Леонтьевым. Неоднократно
ездил на Балканы в славянские земли, работал в южно
славянских древлехранилищах. В 1867 сопровождал вел.
кн. Алексея Александровича на Афон для исторического
объяснения тамошних святынь. С 1869 настоятель Вос
кресенского ставропигиального монастыря (иначе назы
ваемого Новым Иерусалимом); будучи знатоком палестин
ских, византийских, славянских и русских древностей,
возобновил архитектурный ансамбль монастыря в перво
начальном виде (XVII в.); составил его «Историческое
описание…» (М., 1886, 1894).
Учено-литературная деятельность архим. Леонида
чрезвычайно обширна и разнообразна: изыскания в об
ласти славяно-русской древней письменности, в т. ч.
«О родине и происхождении глаголицы и об ее отношении
к кириллице» (СПб., 1891), исследования о древнерус
ских писателях, в т. ч. «Дьякон Луговской, по Татищеву
писатель XVII в. и его соч. «О суде над патриархом Нико
ном» «(СПб., 1885), «Благовещенский иерей Сильвестр
и его писания» (ЧОИДР. 1874. Кн. 1; начата Д. П. Голохвас
товым; Толстой писал архим. Леониду: «Очень много
благодарен Вам за столь любопытное и прекрасное ис
следование о Сильвестре» [авторе «Домостроя»] — LXII,
161), публикации (с исследовательским вступлением)
ценных памятников древней славянской и русской словес
ности, в т. ч. «Житие и чудеса Св. Николая Мирликий
ского и Похвала ему» (СПб., 1881), «Житие преподобного
Леонид (Кавелин),
архимандрит, наместник ТСЛ.
Кон. XIX в. (ГИМ).

164 ЛЕОНИД (КРАСНОПЕВКОВ Л. В.)
Власия Мниха. Памятник словено-болгарской письмен
ности IX в.» (СПб., 1887) и «Два памятника древнерусской
киевской письменности XI и XII в.», подробные истори
ческие описания многих монастырей, в т. ч. «Абхазия
и в ней Ново-Афонский… монастырь» (Ч. 1—2. М., 1885).
Архим. Леонид известен как видный библиограф;
описания многих частных и монастырских библиотек;
«основательная, ставшая уже классической» книга
по русской агиографии «Святая Русь, или Сведения
о всех святых и подвижниках благочестия на Руси
(до XVIII в.)…» (СПб., 1891); капитальный труд «Систе
матическое описание славяно-российских рукописей со
брания гр. А. С. Уварова» (Ч. 1—4. М., 1893—94).
Ист.: О. Афанасий (Гумеров). Леонид Кавелин // Русские пи
сатели 1800—1917. Т. 3. М., 1994. С. 320—321.
ЛЕОНИД (в миру Краснопевков Лев Васильевич), архи
епископ Ярославский и Ростовский (16[29].02.1817–
15[28].12.1876). Происходил из старинного дворянского
рода. Родился в Петербурге. Отец его, Василий Васильевич
Краснопевков, занимал должность товарища герольд
мейстера и имел собственный дом на Васильевском о-ве.
Мать его, Анна Ивановна (урожд. Ломова), была дворян
кой Московской губ. Семейство Краснопевковых состо
яло из 2 сыновей и 3 дочерей. Лев был старший. В 2 года
он опасно заболел. Измученная горем мать отправилась
с больным ребенком в Троице-Сергиеву пустынь около
Петербурга и там, перед чудотворной иконой прп. Сер
гия, молила угодника Божия или прекратить его жизнь,
или исцелить и принять под свой покров. Преподобный
внял молитвам молодой матери: младенец выздоровел.
Первоначальное образование Лев Краснопевков получил
в английском, затем французском пансионе. Великолеп
но знал французский, немецкий и английский языки.
В 1829–32 учился в Горном кадетском корпусе. В февр.
1834 он определился юнкером на Балтийский флот и по
сле сдачи специального экзамена в морском кадетском
корпусе в 1836 был произведен в мичманы. Служа
во флоте, Л. В. Краснопевков познакомился с архим.
Игнатием Брянчаниновым, значительно повлиявшим
на окончательный жизненный выбор молодого человека.
Происходит и личное знакомство с митр. Филаретом
(Дроздовым). Особенно теплое участие проявит Москов
ский первосвятитель к Краснопевкову в 1840, после по
следовавшей смерти его отца. В 1838 с благословения
Филарета Краснопевков поступил в число студентов Пе
тербургской духовной академии, а в 1840 переехал в Трои
це-Сергиеву лавру, поступив на высшее богословское от
деление академии. В 1842, закончив академический курс
со званием магистра, Краснопевков назначен преподава
телем в Вифанскую семинарию. Тема его магистерской
диссертации: «Жизнь Св. Филиппа, митрополита Мос
ковского и всея России». С некоторыми изменениями
она будет напечатана в 1861. Биограф и друг о. Леонида
архиеп. Савва впоследствии вспоминал: «Плодом все
стороннего изучения жизни Св. Филиппа было глубокое
чувство благоговения, которое сохранял автор во всю
свою жизнь к сему великому святителю-исповеднику».
В 1845 в Троице-Сергиевой лавре Краснопевков постри
жен в монахи с именем Леонида. 1 окт. 1845 митр. Фила
рет рукоположил его в иеромонахи. В 1848 иеромонах
Леонид назначен бакалавром патристики в Московскую
духовную академию. В 1849 — ректор Вифанской семина
рии и настоятель Московского Златоустова монастыря.
В 1853 был ректором Московской семинарии. С 1854 —
настоятель Заиконоспасского монастыря. В 1859 архим.
Леонид хиротонисан в епископа Дмитровского с предо
ставлением ему в управление Саввино-Сторожевского
монастыря. Как викарий митр. Филарета еп. Леонид
выполнял подчас весьма сложные поручения своего вла
дыки. Обладая незаурядным проповедническим даром,
епископ Дмитровский Леонид снискал себе славу мос
ковского златоуста. Проповеди и статьи его регулярно
публиковались в «Московских Ведомостях», «Душеполез
ном Чтении» и др. изданиях. Особенно он был популярен
в патриотически настроенных аристократических и ин
теллигентских кругах Москвы. Еп. Леонид вел обшир
ную духовную переписку, до сих пор, к сожалению,
до конца не собранную и не изученную. Оказывал под
держку славянофильским кругам. Был также близок
к окружению М. Н. Каткова. Многолетняя дружба связы
вала его с героем Кавказской войны генералом Н. П. Слеп
цовым. К еп. Леониду в сложную пору жизненного выбора
обратился за советом кн. В. П. Мещерский, получивший
благословение на издание газеты-журнала «Гражданин».
Много делал владыка Леонид для организации помощи
сиротам и попавшим в беду людям. Он состоял членом
многих ученых учреждений и обществ. Активно участво
вал в работе Комитета по строительству Храма Христа
Спасителя в Москве. «Человек, который может оказать
помощь и сделать добро, но не оказывает и не делает —
есть жалкое и вместе недостойное существо» — любил
повторять еп. Леонид. 15 мая 1876 он был высочайшим
Указом назначен Ярославским и Ростовским архиеписко
пом 15 дек. этого же года архиеп. Леонид скоропостижно
скончался в Николо-Бабаевском монастыре во время од
ной из своих многочисленных архипастырских поездок
по Ярославской епархии.
Соч.: Жизнь святого Филиппа, митрополита Московского
и всея России // Душеполезное Чтение. 1861. № 5.; Из записок
высокопреосвященного Леонида, архиепископа Ярославского //
Душеполезное Чтение. 1907. № 8–11; Воспоминания о кадетской
жизни генерала Слепцова // Н. П. Слепцов. Покоритель Чечни
и Дагестана. Пг., 1916.; Письма из Ярославля к родным. М., 1879.
Лит.: Законоучитель. Черта из жизни архиепископа Леонида //
Душеполезное Чтение. 1877. № 1; Павел, иеромонах. Воспомина
ния о высокопреосвященном Леониде, бывшем архиепископе
Ярославском и Ростовском. Ярославль, 1877; Савва, еп. Харьков
ский. Воспоминания о высокопреосвященном Леониде, архиепис
копе Ярославском и Ростовском. Харьков, 1877. Ю. Климаков
ЛЕОНИД УСТЬНЕДУМСКИЙ, иеромонах (1551–
17.07.1654). В одной из деревень на Вологодской земле
жил благочестивый крестьянин, который 50 лет от роду
решил поступить в монастырь. В это время, в видении,
ему было повелено самому основать монастырь на бли
жайшей Туринской горе и перенести туда из одного мо
настыря икону Пресвятой Богородицы «Одигитрии».
Не доверяя своему видению, преподобный сам поступил
в этот монастырь и постригся там с именем Леонид.
Но видение повторилось, и монастырские старцы при
знали его истинным. Они дали святому икону и благо
словили его созидать новую обитель. Но недобрые люди
прогнали его с Туринской горы, и преподобному при
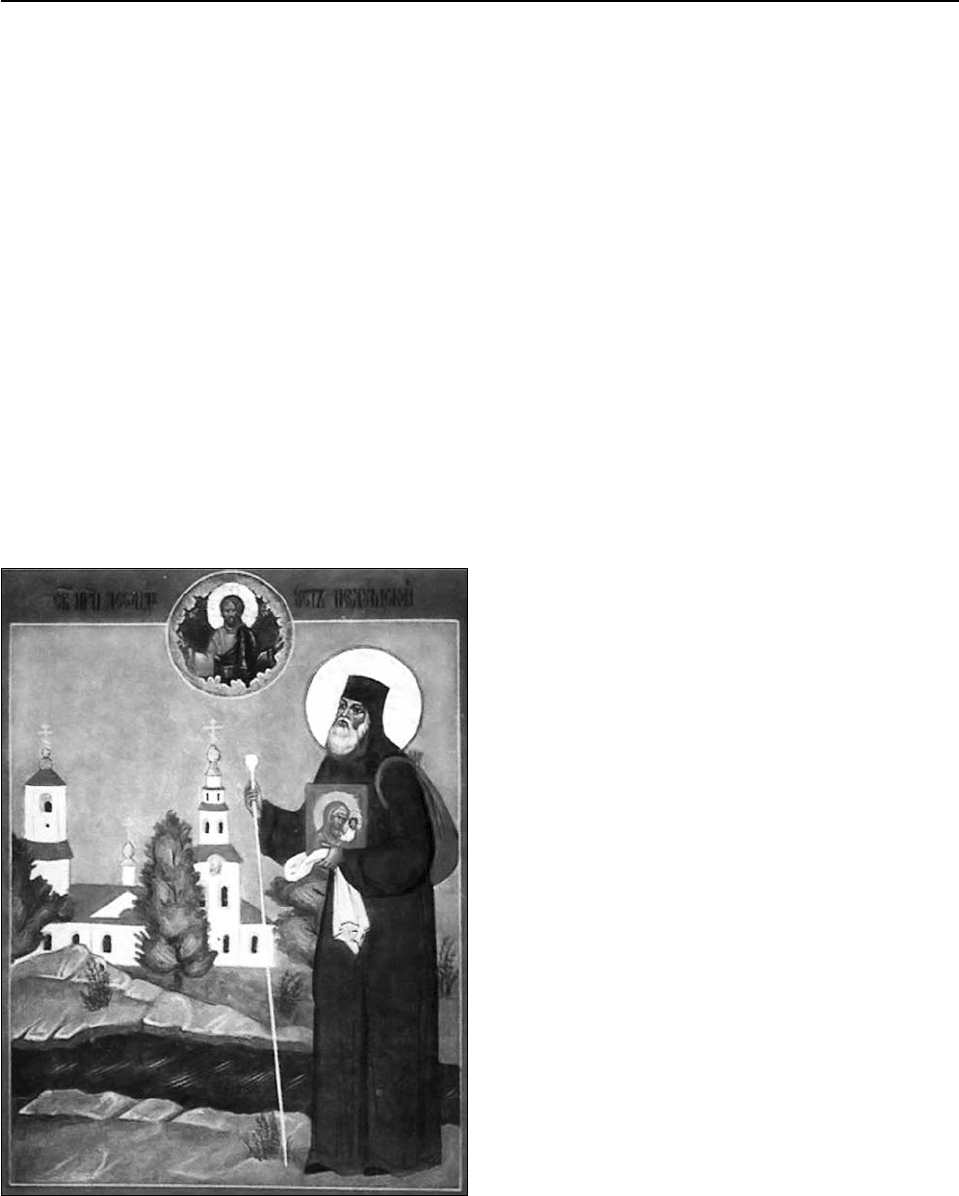
165ЛЕОНТИЙ КАРПОВИЧ
шлось переселиться в непроходимые болота, где он осу
шал их, копая каналы. Во время этих трудов его ужалила
змея. Тогда, вооружившись молитвой против всех ухищ
рений бесовских и злобы человеческой, прп. Леонид по
ставил себе за правило — не думать обо всем этом, а пре
дать себя воле Божией. Он даже не стал лечиться и боль
ше никогда не болел. Бог помогал ему во всем. Свой по
следний осушительный канал святой назвал «Неду
мой-рекою», а обитель его стала называться Усть-Недум
ским монастырем Пресвятой Богородицы. Скончался св.
Леонид в глубокой старости и был погребен в монастыр
ской Введенской церкви (сейчас храм возобновлен как
приходской в с. Озерском). На реке оборудована «ку
пальня» — дощатый мостик на берегу довольно широкой
канавы, тянущейся по болотистому лугу. Вода здесь чу
дотворная, о чем свидетельствуют многочисленные ис
целения. Исцелялись паломники не только от воды,
но и от раки преподобного, и от его власяницы. В 1960-е,
времена борьбы с Церковью, когда милиции не удава
лось прекратить паломничество к канавке, чтобы пре
кратить многолюдные молебны на Недуме, канавку буль
дозерами завалили землей в самой ее горловине,
у оз. Святого. Потом пригнали экскаватор и вырыли др.
канавку в др. месте. Но вода по новой канавке не пошла,
свернув в старое русло. И поток богомольцев до сих пор
не «пересыхает».
Память прп. Леониду отмечается 17/30 июля.
ЛЕОНТИЙ, старец, в 1701–02 путешествовал по поруче
нию поповщины на Восток с целью узнать, какова вера
у греков. Его «Дневник», дышащий искренностью и прос
тодушием, напечатан в «Русском Архиве» (1863) с именем
священника Ивана Лукьянова. Последний, однако, не был
его автором, а только исправлял и направлял Леонтия.
ЛЕОНТИЙ, паломник по святым местам, впоследствии
архимандрит и настоятель посольской церкви в Конс
тантинополе, где во время первой Русско-турецкой вой
ны вместе со всем русским посольством был заточен
турками в Семибашенный замок. В 1763 Леонтий пред
принял путешествие по святым местам Востока и оста
вил описание его в 13 томах. По способу описания
и манере изложения, по количеству предметов, затрону
тых в описании, по художественному во многих местах
изложению и по тому юмору, которым отличаются мно
гие страницы, труд Леонтия близок к «Странствовани
ям» Василия Григоровича-Барского. Во многих местах
своего описания Леонтий упоминает о последнем как
о предшественнике своем и учителе по путешествию,
именуя себя младшим его братом, и даже описание свое
называет «Младший Григорович».
Лит.: Попов А. П. Младший Григорович. Новооткрытый па
ломник по святым местам XVIII века. Кронштадт, 1911.
ЛЕОНТИЙ, преподобный, исповедник (ск. в 1972). Был
назначен патр. Тихоном настоятелем Суздальского Спа
со-Евфимиева монастыря. В 1930-е святой был арестован
и многие годы провел в лагерях, страдая за веру. С 1955
и до самой смерти в 1972 служил в храме Архангела Ми
хаила в с. Михайловское Фурмановского р-на Иванов
ской обл. Чудеса, которые не раз происходили по его мо
литвам при жизни, продолжаются по сей день. На его
могилу, находящуюся на сельском кладбище с. Михай
ловское, приезжало много народа. Вскоре после кончи
ны исповедника летом 1972, которое было на редкость
засушливым, неподалеку от его могилы забил целебный
источник. Открытие этого источника предсказал сам
святой, сказав на смертном одре: «Когда помру, много
из меня воды потечет».
ЛЕОНТИЙ (Леонт), митрополит Киевский (Х в.). Упоми
нается в одной редакции Церковного устава как первый
Киевский митрополит, в др. — как второй. В Никонов
ской летописи он представлен преемником митр. Михаи
ла, который по церковному преданию считался первым
Киевским митрополитом. См.: Митрополиты русские.
ЛЕОНТИЙ (Леон Бобылинский) (ск. не ранее 1700), рус
ский летописец, иеромонах Выдубицкого, затем Ильин
ского Троицкого монастыря в Чернигове. Автор хроники
«Летописец сей есть Кроника», завершенной в 1699
в Чернигове. Она содержит сведения о борьбе русского
народа, в т. ч. малороссийского казачества, против ту
рецких захватчиков в 1670-х.
ЛЕОНТИЙ КАРАХОВСКИЙ, преподобный (ск. 18.07.1492).
Основатель Караховского монастыря около Новгорода.
Мощи его почивали в церкви созданного им монастыря,
позже ставшей приходской (Новгородской епархии).
Память его празднуется в день преставления.
ЛЕОНТИЙ КАРПОВИЧ, архимандрит (ок. 1520—1620),
духовный писатель. Родился на Пинщине в семье шлях
тича. Служил писарем, затем старшим печатником
и корректором в типографии Виленского православного
Леонид Устьнедумский. Икона. ХХ в.
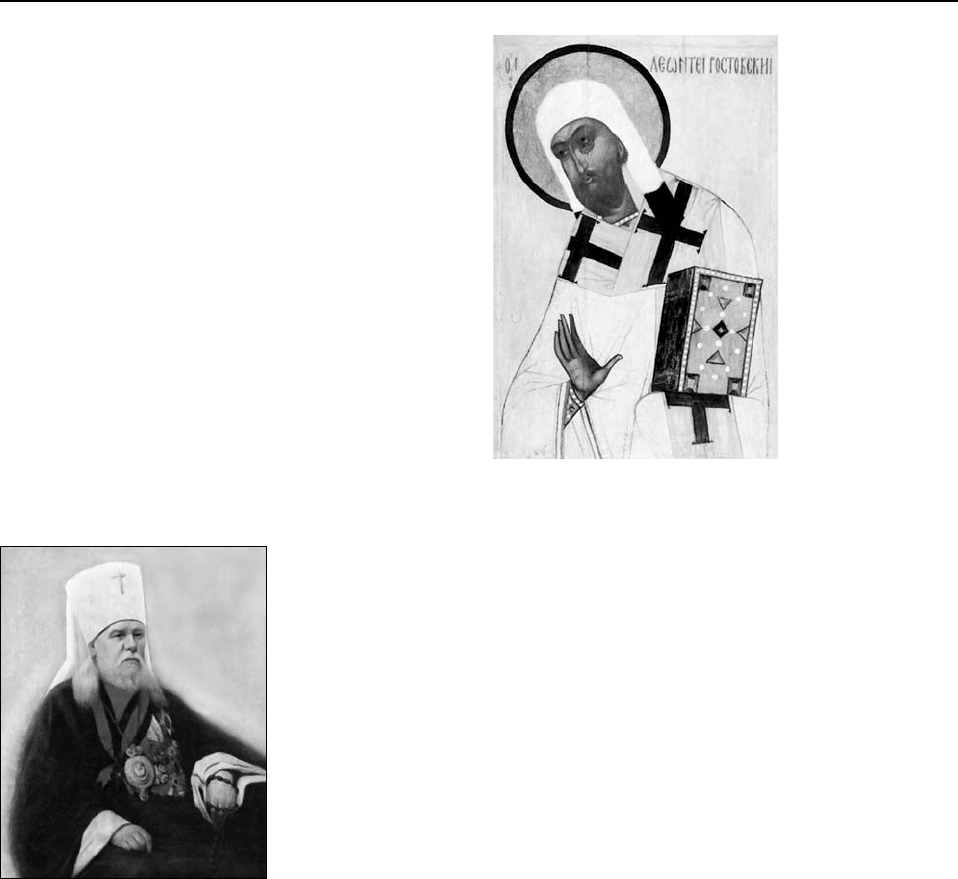
166 ЛЕОНТИЙ КОНОПЛЯННИК
братства. В 1610 за издание знаменитого «Фриноса»
М. Смотрицкого польские власти заточили Леонтия Кар
повича на 2 года в тюрьму. Будучи архимандритом Вилен
ского Свято-Духова монастыря, Леонтий Карпович воз
главил борьбу Виленского братства против Брестской
церковной унии (1596), против католицизма и полониза
ции, насаждаемых на белорусской и малорусской землях.
Леонтию Карповичу принадлежат поучения, послания,
сказания и др. Пафос его религиозно-полемических про
изведений, отмеченных высокими для того времени ли
тературными достижениями, — в защите Православия
против католицизма и униатства: «Казанье двое» (1615),
«Сказание вкратце о ересях тридесяти и четырех» и др.
Его красноречие современники сравнивали с «витийст
вом» Иоанна Златоуста.
Соч. в кн.: Коршунаў А. Хрэстаматыя па старажытнай лiта
ратуры. Мiнск, 1959. В. Борисенко
ЛЕОНТИЙ КОНОПЛЯННИК, народное название дня
обретения мощей свт. Леонтия, епископа Ростовского
(1164) 23 мая/5 июня.
Св. Леонтий прославился обращением в христианство
язычников в окрестностях Ростова. В его день крестьяне
начинали высевать коноплю и молили святого о помощи.
В конопляные семена клали пасхальное яйцо, а скорлупу
от него разбрасывали по полю, чтобы конопля была бе
лой, как яйцо. В некоторых местах св. Леонтия звали Огу
речником, потому что
в этот день сеяли по
следние огурцы.
ЛЕОНТИЙ (Лебедин
ский), митрополит
(1822–1893), проповед
ник, магистр Петер
бургской духовной ака
демии. Был викарием
Петербургского митро
полита, архиепископом
Подольским, Херсон
ским, Холмско-Вар
шавским и с 1891 —
митрополитом Мос
ковским и Коломен
ским. Основные сочи
нения: «Слова и речи»
(СПб., 1888); «Из лек
ций по нравственному
богословию» (Сергиев
Посад, 1892).
ЛЕОНТИЙ РОСТОВСКИЙ, епископ, священномученик
(ск. 1073), родился в н. XI в. в Константинополе. Промыс
лом Божиим будущий просветитель Ростовской земли
принял монашеский постриг в Киево-Печерском монас
тыре, где проходил послушание под духовным руковод
ством прпп. Отцов — Антония и Феодосия. Свт. Леонтий
был первым епископом, вышедшим из Киево-Печерско
го монастыря, воспитавшего многих святителей Русской
земли. В 1040-х он был возведен в епископскую кафедру.
В Ростовской земле, населенной в те времена финскими
племенами, еще не просвещенными светом веры Хрис
товой, свт. Леонтий встретил жестокое сопротивление
язычников. Два его предшественника — епп. Феодор
и Иларион — были
изгнаны из Ростова.
Невзирая на опас
ность, свт. Леонтий
ревностно пропове
довал христианство
местному населе
нию. Он однажды
был избит и изгнан
из города, но не оста
вил своей паствы
и поселился недале
ко от Ростова, воз
двигнув храм во имя
Архистратига Михаи
ла. Сюда к святителю
стекалось окрестное
население. Видя ус
пех святого, язычес
кие волхвы подгова
ривали доверявших
им жителей убить
свт. Леонтия. Собрав
толпу, они пришли
исполнить свой замысел. Свт. Леонтий, выйдя в облаче
нии и с крестом, своим бесстрашием остановил их.
А слово его, обращенное к народу, заставило многих рас
каяться и принять св. крещение. Но в 1073 прав. епископ
принял мученическую кончину. Тело свт. Леонтия было
погребено в церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Мощи свт. Леонтия были обретены нетленными в 1164.
До 1609 мощи почивали открыто в этом соборе, в драго
ценной золотой гробнице. Поляки, опустошившие Рос
тов, похитили золотую раку; с тех пор мощи святителя
Леонтия почивают под спудом (в Успенском соборе,
у южной стены южного Леонтиевского придела, бывше
го пещерным). В 1660, когда в Ростове строился новый
храм на месте сгоревшего, был найден гроб с нетленны
ми мощами свт. Леонтия.
У русских крестьян этот святой назывался Огуречни
ком, т. к. день его памяти считался временем, подходя
щим для высаживания огурцов.
Память свт. Леонтию отмечается 23 мая/5 июня
(обретение мощей).
ЛЕОНТИЙ (Стасевич), преподобный, архимандрит
(20.03.1884–9.02.1972). Родился в крестьянской семье
Люблинской губ. В 1910 поступил в Яблочинский Онуф
риев монастырь. В 1914, с началом войны, из этого мо
настыря он был эвакуирован в Москву и определен
в Богоявленский монастырь, а в 1922 назначен намест
ником Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря.
Многие из братии этого монастыря сочувствовали об
новленческому расколу. Новый наместник принялся
за наведение порядка, но столкнулся с враждебным от
ношением братии. О. Леонтия всячески поносили, об
зывали, злословили. Некоторые из монахов даже под
нимали на своего настоятеля руку, жестоко избивая его
и пытаясь заставить покинуть монастырь. Но простые
люди — паломники и жители Суздаля, полюбили
о. Леонтия за его кротость, доброту и искреннюю веру.
О. Леонтий сохранял верность патр. Тихону.
Леонтий (Лебединский),
митрополит Московский и
Коломенский. Портрет.
(ТСЛ. Патриаршие покои).
Леонтий Ростовский.
Икона. XVII в.
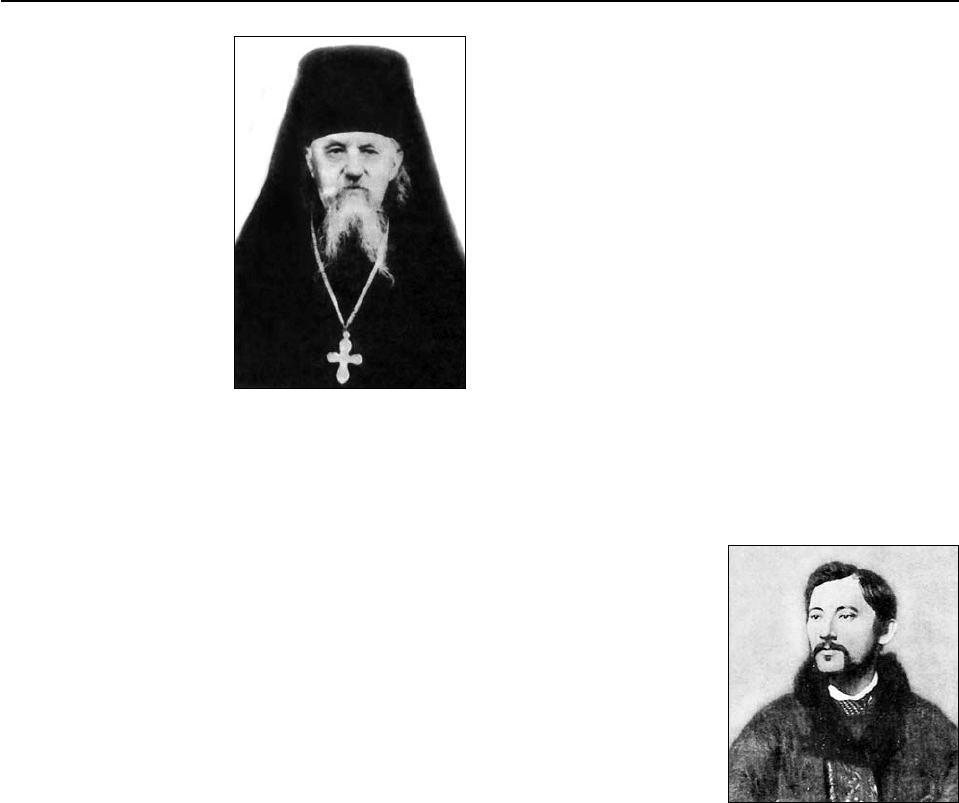
167ЛЕОНТЬЕВ К. Н.
За время своего служе
ния в Суздале батюшка,
несмотря на сложные усло
вия, привлек к Церкви
многих людей. Его имя
стало широко известным
среди верующих. И в 1930
о. Леонтий был арестован.
Он вызвал озлобление
местных властей тем, что
препятствовал антирели
гиозной пропаганде еже
дневным совершением бо
гослужения и своими про
поведями. Поводом же
к аресту послужили любовь
о. Леонтия к колокольному
звону. Позже он вспоминал
об этом так: «... звон тогда
был запрещен. А мне... так
захотелось Господа прославить звоном. Залез на коло
кольню и давай звонить. Долго звонил. Спускаюсь с ко
локольни, а меня уже встречают с наручниками». Заклю
чение о. Леонтий отбывал в Коми. После возвращения
из заключения он снова был арестован и отправлен в Ка
рагандинские лагеря.
В лагере о. Леонтия, как священника, пытались «пе
ревоспитать». Однажды в пасхальную ночь охранники
потребовали, чтобы батюшка отрекся от Бога. Он отка
зался это сделать. Тогда коммунисты привязали его к ве
ревке и с головой опустили в уборную. Через некоторое
время поднимают его и кричат: «Отрекаешься?», а он
им — «Христос воскресе, ребята!» Так долго издевались
над ним, но отречься от Бога заставить не смогли.
Батюшка как-то рассказывал: «... часто нам не давали
по целым ночам спать. Только ляжешь — кричат: «Подъем,
на улицу строиться», а на улице холодно и дождь. Начина
ют мучить: «Лечь, встать, лечь, встать!», а падаешь прямо
в грязь, в лужу. Скомандуют отбой, только начнешь согре
ваться, и опять кричат: «Подъем, строиться!» И такая про
цедура до утра, а утром на тяжелую работу».
Когда о. Леонтию жаловались на скорби, то он гово
рил: «Это не скорби, а мы, бывало, в тюрьме откушаем,
а нас выведут, поставят в ряд и говорят: «Сейчас будем
расстреливать». Прицелятся уже, попугают, а потом
опять в казарму гонят».
Все тюремные скорби батюшка переносил с большим
терпением.
В 1950 о. Леонтий был арестован в третий раз. За 3
дня до ареста он внезапно начал раздавать духовным ча
дам и своим прихожанам все свое имущество, включая
келейные иконы. Деньги о. Леонтий раздавал и налич
ными, и отправлял почтовыми переводами.
Во время допросов он говорил: «... в своих проповедях
при богослужении я призывал верующих, посещающих
храм Божий, преданно верить Богу, исполнять все запове
ди, регулярно посещать храм». Один из свидетелей по де
лу показывал при допросе: «Сам Стасевич... служит
по монастырскому уставу, старается хранить веру в чисто
те и прививать ее путем церковных служб и проповедей.
Он всегда требует исполнения всех духовных заповедей».
Обвинительное заключение гласило: «... Обвиняемый
Стасевич в течение 47–50 годов, проводя Богослужения
в церкви в своих проповедях распространял антисовет
ские измышления о якобы приближающихся «Страшном
Суде» и «Кончине мира», истолковывая религиозные пи
сания в антисоветском духе» (сохранена орфография
подлинника)». По приговору безбожной власти старец
получил еще 10 лет лагерей.
О. Леонтию, бывшему в преклонных годах, приходи
лось трудно, но заключенные, видя святость его жизни
и силу веры, уважали старца. Батюшка был посажен в ка
меру с вором-рецидивистом; зайдя в камеру, он сделал
земной поклон, а когда пришло начальство с осмотром,
то оно увидело, что вор стоит на коленях и плачет, а свя
щенник утешает его. Заключенные охотно делились едой
и теплой одеждой с батюшкой, а когда начальство обижа
ло его, то заключенные грозились поднять бунт в лагере.
После выхода из заключения о. Леонтия ждали новые
испытания. 2 местных священника в корыстных целях
оклеветали его. Но неправда скоро открылась, и винов
ные были наказаны Богом.
Прп. Леонтий молился за своих недругов. Он гово
рил: «Люди, за что вы меня гоните? Вы же всю ночь спи
те, а я не сплю, молюсь за вас».
ЛЕОНТЬЕВ Константин Николаевич (13.01.1831—
12.11.1891), православный писатель, философ и социо
лог. Окончил медицинский
факультет Московского
университета. Во время
Крымской войны служил
военным врачом. С 1863
по 1873 — на дипломати
ческой службе в Турции.
В сер. 1870-х, дав обет
в случае выздоровления
после тяжелой болезни по
святить свою жизнь Богу,
Леонтьев по нескольку ме
сяцев жил в монастырях —
на Афоне, в Нико
ло-Угрешской обители под
Москвой, в Георгиевском монастыре г. Мещовска,
в Оптиной пустыни (близ Козельска). В последней он
и поселился в марте 1887. В Оптиной пустыни 23 авг. 1891
тяжело больной Леонтьев принял тайный постриг. 30 авг.,
чтобы быть ближе к медицинской помощи, перебрался
в Сергиев Посад, где и скончался от воспаления легких.
Похоронен в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры.
Как русский мыслитель Леонтьев развивался в духов
ной, религиозно-крепкой русской среде — среде церков
ного традиционализма и подлинного благочестия.
Во многих своих духовных исканиях Леонтьев шел па
раллельно славянофилам и Н. Я. Данилевскому. Личная
жизнь его была полна неудач, что внесло определенную
горечь в диалектику его мысли. Умственная работа Ле
онтьева шла в границах его религиозного сознания.
Ключ к идейной диалектике Леонтьева следует искать
в его антропологии, которая оказалась в решительной
оппозиции к оптимистическому пониманию человека
в секулярной идеологии, к вере в человека. Он не раз очень
остро восстает против «антрополатрии» — «новой веры
Прп. Леонтий (Стасевич).
Леонтьев К. Н.

168 ЛЕОНТЬЕВ К. Н.
в земного человека и в земное человечество, — в идеаль
ное, самостоятельное, автономическое достоинство лица…
(Все это есть выражение) того индивидуализма, того обо
жания прав и достоинств человека, которое воцарилось
в Европе с к. XVIII в.». «Европейская мысль теперь покло
няется человеку потому только, что он — человек». Это
восстание против абсолютизирования человека в совре
менной культуре попадает, конечно, в центральную точку
секуляризма, который отвергает Церковь во имя самодос
таточности человека. Для Леонтьева для такого возвеличи
вания человека нет ни эмпирических, ни метафизических
данных. Он пишет: «Если я смирился, то никак не потому,
что я в свой собственный разум стал меньше верить, а во
обще в человеческий разум». «Разлитие рационализма (др.
словами, распространение больших, против прежнего,
претензий на воображаемое понимание) приводит к воз
буждению разрушительных страстей». «Наивный и покор
ный авторитетам человек, — отмечает Леонтьев, — оказы
вается, при строгой проверке, ближе к истине, чем само
уверенный и заносчивый человек». «Свободный индиви
дуализм («который фактически подменяется отвратитель
ным атомизмом») губит современные общества».
Неверие в человека, в человеческий разум, в современ
ную культуру с ее «поэзией изящной безнравственности»
тем сильнее у Леонтьева, что он в своей собственной жиз
ни пережил действие «таинственных и непонятных» сил.
«Я нахожу, что самый глубокий, блестящий ум ни к чему
не ведет, если нет судьбы свыше». Любимой мыслью Ле
онтьева становится «исторический фатализм», признание
«невидимых сил, таинственных и сверхчеловеческих».
«Тяжкие, тернистые высоты христианства» впервые бро
сают надлежащий свет на человека, на его путь, — и имен
но христианство кажется Леонтьеву решительно несоеди
нимым с культом человека, с верой в человека. Леонтьев
с небывалой силой в русской литературе ставит вопрос
о спасении, — хотя сам он постоянно подчеркивает, что
понимает его в смысле трансцендентном, потустороннем.
Вместе с тем Леонтьев отказывается трактовать проблему
человека, проблему его жизни лишь в отношении к отрез
ку его земной жизни. Он глубоко живет сознанием, что
человек живет и в потустороннем мире и что его жизнь
там зависит от жизни здесь. Это коренное христианское
убеждение, со времени перелома целиком проникающее
в мысль и душу Леонтьева, определяет его отношение
к ходячей утилитарной морали, к буржуазному идеалу.
Отвращение к духовному мещанству, к внешнему равне
нию определяется и его эстетическим отталкиванием
от современности.
Леонтьев пылал «философской ненавистью» к совре
менной культуре, т. е. не одним только эстетическим от
талкиванием, но и «философским» отвержением ее, т. е.
отвержением ее «смысла», построяемого вне идеи спасе
ния, вне идеи вечной жизни. Современность, заполнен
ная суетливыми заботами о том, как на земле, и только
на земле, устроить жизнь, отрывающая дух от мысли о веч
ной жизни, стала чужда Леонтьеву прежде всего религиоз
но. Эстетическая мизерность упоения здешней жизнью
могла открыться только христианскому сознанию, и если
Леонтьев с его настойчивым приматом проблемы спасе
ния остался мало услышанным, то все же должно признать
всю силу и глубину его религиозного сознания. Идея спа
сения есть по существу своему чисто этическая идея, толь
ко обращенная не к одной земной, но и загробной жизни.
Леонтьев отталкивался от современности, от совре
менного человека не столько во имя эстетического идеа
ла, сколько, наоборот, его эстетическая «придирчивость»
определялась слишком высоким представлением религи
озного порядка о «настоящем» человеке. В антропологии
Леонтьева мы видим борьбу религиозного понимания че
ловека с тем обыденным в секуляризме его пониманием,
которое не ищет высоких задач для человека, не измеря
ет его ценности в свете вечной жизни, а просто поклоня
ется человеку вне его отношения к идеалу. В антрополо
гии этическая и эстетическая придирчивость Леонтьева
определяется именно его религиозной установкой.
Леонтьев решительно различает «любовь к ближнему»
и «любовь к дальнему» (к человечеству вообще). В первой
идет дело о реальном живом человеке, а не о «собиратель
ном и отвлеченном человечестве» с его «многообразными
и противоречивыми потребностями и желаниями». Пер
вую любовь (к человеку) Леонтьев горячо защищает, вто
рую (к человечеству) страстно высмеивает — за ее наду
манность и неправду, за непонимание «непоправимого
трагизма жизни». В отношении любви к «ближнему» Ле
онтьеву чужда всякая «близорукая сентиментальность» —
он считает страдание неизбежным и очень часто цели
тельным моментом жизни. Леонтьев едко высмеивает то
«утешительное ребячество», которое успокаивает себя
в благодушном оптимизме, он зовет обратиться к «суро
вому и печальному пессимизму, к мужественному смире
нию перед неисправимостью земной жизни».
Для понимания этических воззрений Леонтьева
очень существенно его учение о любви. Восхваляя лич
ное милосердие, Леонтьев категорически утверждает, что
«та любовь к людям, которая не сопровождается страхом
перед Богом, не зиждется на Нем, — такая любовь не есть
чисто христианская». Без страха Божия любовь к людям
теряет свой глубокий источник, легко превращается
в сентиментальность, в поверхностную жалость. Эта «ес
тественная» доброта — субъективна, часто — ограничена,
поэтому только та любовь к людям, которая питается
из религиозного родника, ценна и глубока, — и доступна
даже черствым натурам, если они живут верой в Бога».
По Леонтьеву, следует различать любовь моральную
и любовь эстетическую — первая и есть подлинное мило
сердие, а вторая просто «восхищение». Для Леонтьева
любовь к дальнему (лежащая в основе всего европейско
го гуманизма с его идеалом всеобщего благополучия) есть
как раз мечтательное восхищение перед «идеей человека
вообще», — ни к чему не обязывающее и ни к чему не зо
вущее поклонение человечеству. Тут вовсе и нет добра,—
оттого в новейшем гуманизме есть много пылкости, пе
реходящей в революционизм, но нет подлинного добра.
Леонтьев глубоко почувствовал мечтательность в идеале
«всеобщего» благополучия и никакой подлинно мораль
ной ценности в этом идеале он не видел. Критика Пуш
кинской речи Достоевского у Леонтьева основана на том,
что «лихорадочная забота о земном благе грядущих поколе
ний» есть упрощение трагической темы истории. В гума
низме нового времени Леонтьев чувствовал «психологизм»,
сентиментальность; сам же он чувствовал «потребность
более строгой морали». Внутренняя суровость, присущая

169ЛЕОНТЬЕВ К. Н.
действительно Леонтьеву после его религиозного перело
ма, совсем не означает выпадения морали, а определяет
ся сознанием, что в моральном сознании нового времени
скрыто много подлинной (хотя и «изящной») безнравст
венности. Моральные идеи Леонтьева пронизаны созна
нием испорченности современного человека и современ
ной культуры (с ее «позицией изящной безнравствен
ности»). Леонтьев гораздо более моралист, чем эстетизи
рующий мыслитель (как его изображают), но его мораль,
суровая, окрашенная сознанием трагичности жизни, вы
текала из его религиозного восприятия современности.
В генезисе историософских воззрений Леонтьева
имел громадное значение тот факт, что он был натура
листом. Когда в его сознании окончательно сформирова
лась идея «триединого процесса», то это было простым
перенесением на историческое бытие его воззрений как
натуралиста. С др. стороны, такой знаток воззрений Ле
онтьева, как Розанов, охарактеризовал его историософ
ские взгляды как «эстетическое понимание истории».
Сам Леонтьев однажды написал: «Эстетика спасла во мне
гражданственность»; это значит, что красоты жизни нет
там, где нет иерархической структуры, где нет «силы».
Леонтьев обладал несомненным интересом к политической
стороне в истории; это не было этатизмом в современном
смысле слова, т. к. Леонтьев не подчинял Церковь госу
дарству, не возводил государственность в высший прин
цип. Культ государственности у Леонтьева означал то са
мое «скрепляющее» начало, какое он усваивал моменту
«формы» в онтологии красоты («форма есть деспотизм
внутренней идеи, не дающий материи разбегаться»). Го
сударственность обеспечивает жизнь и развитие народа
или народов, но сама сила государственности зависит
от духовного и идеологического здоровья его населения.
Вырождение государственности и духовное вырождение
народов идут параллельно одно другому, — и тут натура
лист в Леонтьеве подсказал ему мысль о «космическом
законе разложения», он же подсказал ему идею «триеди
ного процесса». Леонтьев приглашает всех «вглядеться
бесстрашно, как глядит натуралист на природу, в законы
жизни и развития государственности». По его мнению,
один и тот же закон определяет ступени в развитии и рас
тительного, и животного, и человеческого мира, — и мира
истории: всякий организм от исходной простоты восхо
дит к «цветущей сложности», от которой через «вторич
ное упрощение» и «уравнительное смешение» идет
к смерти. «Этот триединый процесс, — пишет здесь Ле
онтьев, — свойствен не только тому миру, который зовет
ся собственно органическим, но, может быть, и всему,
существующему в пространстве и времени». Особенно
важным и существенным было для Леонтьева то, что
«триединый процесс» имеет место и в историческом бы
тии, т. е. в жизни племен, государственных организмов
и целых культурных миров». Леонтьев чрезвычайно вы
соко ценил эту свою идею, которая далеко выходит
за пределы органического мира, из которого она извлече
на. В формуле Леонтьева одинаково важны 2 момента:
с одной стороны, уяснение закона, которому подчинена
в своем развитии всякая индивидуальность», — и здесь
выступает у Леонтьева та же тема «борьбы за индивиду
альность», тема персонализма. С др. стороны, в формуле
Леонтьева договаривается до конца то перенесение кате
гории органической жизни на историческое бытие, кото
рое до него было уже с достаточной силой развито
Н. Я. Данилевским в его кн. «Россия и Европа». Данилев
ский первый в русской философии начал тему о подчи
ненности исторического бытия тем же законам, каким
подчинена природа (в органической сфере), — и его значе
ние, его бесспорное влияние на русскую историософию
относится не столько к учению о «культурно-исторических
типах», сколько именно к вопросу о единстве законов
природы и истории. Леонтьев, глубоко занятый вопро
сом о цветении индивидуальности, о законах ее расцвета
и угасания, не ощущал различия природы и истории
и всецело подчинял человека и историческое бытие тем
же законам, какие господствуют в мире органическом.
Здесь лежит ключ и к «эстетическому» пониманию ис
тории у Леонтьева. Применение именно эстетического,
а не морального принципа к историософским явлениям
есть неизбежное следствие натурализма в историософии.
Если в природе нет места моральной оценке, значит нет
места моральному моменту и в диалектике исторического
бытия. Моральное начало в истории (при таком понима
нии ее) вносится в нее свыше, силою Бога, Его Промыслом,
но стихийные процессы истории, «естественная» законо
мерность в ней стоит вне морального начала. С присущим
мысли Леонтьева бесстрашием он извлекает из этого прин
ципа выводы, не боясь того, что эти выводы шокируют на
ше моральное сознание. Он со всей силой вооружается
против идеала равенства, т. к. равенство («эгалитарное на
чало») чуждо природе — «эгалитарный процесс везде раз
рушителен». Натуралистическая и эстетическая точки зре
ния тождественны для Леонтьева — вот историософская
формулировка этого: «гармония не есть мирный унисон,
а плодотворная, чреватая творчеством, по временам жесто
кая борьба». Гармония в природе покоится на борьбе; гар
мония в эстетическом смысле есть «деспотизм формы»,
приостанавливающий центробежные силы. Во всем этом
нет места морали, как таковой: «в социальной видимой не
правде, — пишет Леонтьев, — и таится невидимая социаль
ная истина — глубокая и таинственная органическая исти
на общественного здравия, которой безнаказанно нельзя
противоречить даже во имя самых добрых и сострадатель
ных чувств. Мораль имеет свою сферу и свои пределы».
Не трудно понять смысл последних слов: мораль подлин
ная и даже высшая ценность в личности, в личном созна
нии, но тут-то и есть ее предел: историческое бытие подчи
нено своим законам (которые можно угадывать, руково
дясь эстетическим чутьем), но не подчинено морали.
Общие принципы своей историософии Леонтьев про
веряет на Европе, на проблемах России. Он критикует со
временную европейскую культуру. В его критике 2 основ
ных тезиса: демократизация, с одной стороны, развитие
национализма, с др. стороны, — все это суть проявления
«вторичного упрощения, упростительного смешения»,
т. е. явные признаки биологического увядания и разложе
ния в Европе. Леонтьев очень остро подмечает все тре
вожные признаки «умирания» Европы, в которой страсть
к «разлитию всемирного равенства и к распространению
всемирной свободы» ведет к тому, чтобы «сделать жизнь
человеческую на земном шаре совсем невозможной». Так
же жестка у Леонтьева и эстетическая критика современ
ной культуры. «Культура тогда высока и влиятельна, —
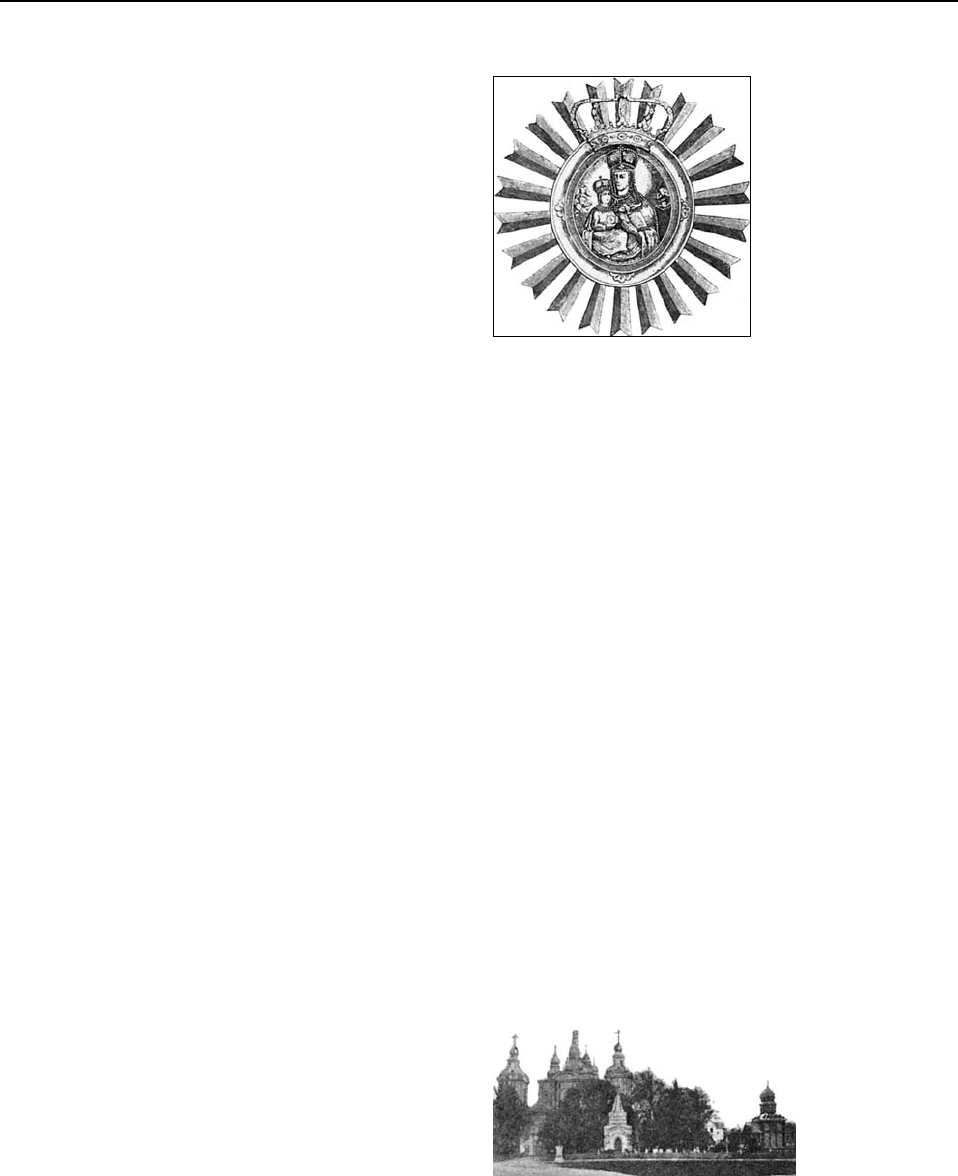
170 ЛЕОХНОВСКАЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ
пишет Леонтьев, — когда в развертывающейся перед на
ми исторической картине много красоты, поэзии, — а ос
новной закон красоты есть разнообразие в единстве».
«Будет разнообразие, будет и мораль: всеобщее равнопра
вие и равномерное благоденствие убило бы мораль».
Леонтьев защищает суровые меры государства, вос
певает «священное право насилия» со стороны государ
ства. «Свобода лица привела личность только к большей
безответственности»; толки о равенстве и всеобщем бла
гополучии, это — «исполинская толчея, всех и все толку
щая в одной ступе псевдо-гуманной пошлости и прозы…
Приемы эгалитарного прогресса — сложны; цель — гру
ба и проста по мысли. Цель всего — средний человек,
буржуа, спокойный среди миллионов таких же средних
людей, тоже покойных». Ненависть, отвращение к «серо
му» идеалу равномерного благоденствия диктуют Ле
онтьеву постоянно самые острые, непримиримые фор
мулы. «Не следует ли ненавидеть не самих людей, —
спрашивает он в одном месте, — заблудших и глупых, —
а такое будущее их?» «Никогда еще в истории до нашего
времени не видали такого уродливого сочетания умст
венной гордости перед Богом и нравственного смирения
перед идеалом однородного, серого рабочего, только ра
бочего, и безбожно бесстрастного всечеловечества».
Идейная диалектика Леонтьева заканчивается утвер
ждением примата религиозно-мистического понимания
человека и истории. Леонтьев до последней точки ощу
тил внутренний аморализм современности, утрату «стра
ха Божия», т. е. сознания надмирного источника жизни
и правды. Он воспринял в своем религиозном переломе
христианское откровение о спасенности мира во Христе
со всей серьезностью, но столь же глубоко он стал и пе
ред вопросом о христианском смысле культуры и исто
рии, о христианских путях истории.
Однако неполнота христианского сознания не дала
Леонтьеву возможности из религиозных принципов раз
вить положительную программу исторического делания.
Он даже однажды (в письме к Розанову) высказал среди
«безумных своих афоризмов» такую мысль: «более или
менее удачная повсеместная проповедь христианства»
ведет к «угасанию эстетики жизни на земле, т. е. к угаса
нию самой жизни». Леонтьев стал в этом остром пункте
на сторону христианства во имя его «трансцендентной»
правды — т. е. остался в трагическом тупике, в котором
оказался в силу неполноты его религиозного сознания,
неумения понять то, что христианство есть спасение
жизни, а не спасение от жизни.
Соч.: Собр. соч. Т. 1–9. СПб., 1912–1913.
Лит.: Русские писатели 1800-1917. Биографический сло
варь. Т. 3. М., 1994. Прот. В. Зеньковский
ЛЕОХНОВСКАЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ мужская пустынь,
Новгородская губ. Находилась в окрестностях оз. Ильмень
у с. Леохново. Основана прп. Антонием Леохновским
в 1550-х. Предание говорит, что однажды в праздник Воз
несения ему явился ангел и приказал идти на место, назы
ваемое Леохново. Там он нашел иеромонаха Тарасия, кото
рый постриг его в монахи, не меняя имени. Они основали
в Леохнове монастырь, где прп. Антоний стал настоятелем.
Монастырь был упразднен в 1764. Мощи прп. Антония по
чивают под спудом в Преображенской церкви, сохранив
шейся до сих пор в с. Леохнове.
ЛЕСНИНСКАЯ (Леснянская), чудотворная икона Пре
святой Богородицы. Находилась в с. Лесне Бельского у.
Гродненской губ.,
в церкви открытой
в 1885 православной
женской общины.
По преданию, явилась
она 14 сент. 1683 рус
ским пастухам в лесу
на груше и была постав
лена в православной
церкви с. Буковичи,
в 2 верстах от Лесны.
От нее начали совер
шаться многие чудотво
рения, что привлекло
к ней большое число
богомольцев. Вскоре
икона была похищена католиками, но возвращена право
славным после воссоединения холмских униатов с Пра
вославной Церковью. На Леснинской иконе изображение
Божией Матери и Богомладенца Иисуса вырезано релье
фом на темно-красном овальном камне.
В 1885 в Лесне была создана женская монашеская об
щина, где Леснинская икона стала главной святыней.
В авг. 1915 весь монастырь был эвакуирован, а чудот
ворная икона отправлена в Петербург, на Леснинское по
дворье, устроенное в столице на Черной речке по благосло
вению св. Иоанна Кронштадтского в 1902. Революционная
смута 1917 в Петрограде вынудила Леснинское сестричест
во переселиться в Вознесенский Шабский монастырь Ки
шиневской епархии, а в 1920 сестры Леснинской обители
были вынуждены уежать в Югославию, где их приняли
с большим почетом. Здесь Леснинской чудотворной иконе
предстояло безмятежно пробыть более 20 лет, вплоть
до оккупации Югославии германской армией в 1941.
В 1943, монахини были изгнаны в Белград (Сербия),
где вместе со святыней были помещены в старческом
приюте на окраине сербской столицы — Сеньяке. После
установления коммунистического режима сестры уехали
во Францию.
В 1950 с большими трудностями были получены до
кументы, разрешающие выезд обители во Францию.
Там в 1950 монастырь, а с ним вместе и чудотворная
икона еще несколько раз меняли местопребывание.
В 1967 Свято-Богородицкий Леснинский монастырь
водворился в д. Провемон. Именно там и была помеще
на чудотворная икона. Она пребывает в бывшем костеле
французского провинциального селения.
Празднуется 14/27 сент.
ЛЕСНИНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ монастырь, Грод
ненская губ. На
ходился в Бельс
ком уезде в с. Лес
не. Основан на
месте явления Лес
нинской иконы Бо
гоматери. В 1686
католики обманом
и насилием отняли
у православных св.
Леснинская (Леснянская)
икона Пресвятой Богородицы.
Леснинский Богородицкий
монастырь.
