Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2
Подождите немного. Документ загружается.


181ЛИТЕРАТУРА СВЯТОЙ РУСИ
соблазн были следующие слова Владимира: «Как же вы
иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы
Бог любил вас и ваш закон, не были бы вы рассеяны по чу
жим землям. Или и нам того же хотите?» Русский князь
отверг иудейский закон, не ведая еще о его немыслимой
жестокости в отношении к другим народам. В Ветхом За
вете во Второй книге Царств (12, 31) говорится о чудовищ
ной расправе царя израильского Давида над покоренным
народом: «А народ, бывший в нем (в городе), он вывел
и положил их под пилы, под железные молотилки, под же
лезные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он
поступил со всеми городами Аммонитскими». Пора
жающая жестокость ветхозаветных героев объясняется
богословами в качестве смягчающего обстоятельства то
дикостью нравов того древнего времени, то метафоричес
ким духовным смыслом, заключенным в злодеянии, вроде
того, как истреблением собственных страстей истолковы
ваются слова псалма 136: «Блажен, кто возьмет и разобьет
младенцев твоих о камень!» Говоря об отличии Нового За
вета от Ветхого Завета, митр. Иларион видит величайшее
благо для Руси в распространении христианского света
на ней, воздает хвалу кн. Владимиру, крестившему Русь.
И главным направлением древнерусской литературы
становится утверждение ценностей, связанных с христи
анской этикой и христианским государством. В «Повес
ти временных лет» (XII в.) летописца Нестора события
рассматриваются с религиозной точки зрения, повество
вание проникнуто чувством патриотизма, единства Руси.
Многое для понимания древнерусского характера от
крывает «Поучение Владимира Мономаха» (XII в.). Владимир
Мономах — образец целостности характера древнерусского
человека, при, казалось бы, несовместимых качествах: ис
тинный христианин, пример благочестия, милосердия, по
печения о людях, об «убогих» (он даже простил убийцу сво
его сына), и вместе с тем он положил конец княжеским
усобицам, при нем Киевская Русь стала могущественным
государством, а его именем половцы устрашали детей в ко
лыбели. Это был русский век «силы и отваги», древнерус
ским людям было свойственно религиозное понимание
мужества: «Умирать побежденным значило бы поступить
в рабство к победителю на том свете» (И. Забелин).
Целостность характера при религиозной основе, нераз
рывность слова и поведения стали в тысячелетней русской
литературе принципом человеческого бытия, обретя свое
концентрированное выражение в философии «целостнос
ти» славянофилов, прежде всего И. В. Киреевского. Схожие
характеры, неразложимые в своих, казалось бы, противопо
ложных качествах, перекликаются через тьму столетий.
Не видим ли мы те же черты, что у Владимира Мономаха,
и в великом русском полководце Суворове? Любопытно
вспомнить, как русский резидент в Константинополе писал
Суворову: «Один слух о бытии вашем на границах сделал
и облегчение мне в делах, и великое у Порты впечатление».
И этот же полководец, одно имя которого наводит страх
на противную сторону, говорил: «Если вы хотите истинной
славы, следуйте по стопам добродетели». Суворов, глубоко
религиозный человек, учил солдат: «Сегодня молиться, зав
тра поститься, послезавтра — победа или смерть».
Отважный полководец, разбивший тевтонских рыца
рей, отразивший натиск на Русь католического Запада,
Александр Невский говорит: «Бог не в силе, но в правде»
(из «Жития Александра Невского», XIII в.). Эти слова —
как нравственная основа мужества — раскрываются
в русской литературе на протяжении столетий (начиная
от «Жития Александра Невского», «Сказания о Мамаевом
побоище» до «Войны и мира» Л. Н. Толстого, где русские
в Бородинском сражении одерживают, по словам писате
ля, нравственную победу над французами).
Уникальное, пожалуй, явление в истории европейской
агиографии (жизнеописание святых) появление на Руси
«Сказания о Борисе и Глебе» (XII в.) — о первых канонизиро
ванных русских святых, юных князьях Борисе и Глебе, при
нявших смерть от своего старшего брата Святополка Ока
янного. С пронзительной силой заявила здесь о себе идея
кротости, смирения, добровольного приятия мученичества
во имя Христа. Из этого события, как из зерна, выросла на
ша многовековая история с ее трагедиями и загадками: бра
тоубийство, нескончаемое на протяжении веков (от розни
удельных князей, приведшей к монголо-татарскому завое
ванию Руси, от Смутного времени, церковного раскола —
до гражданской войны 1917–20). Не отсюда ли и покор
ность, терпение народа? Но есть и некая религиозная тайна
в этом смирении, жертвенности (образы страстотерпцев
Бориса и Глеба в одном из сказаний являются воинам Алек
сандра Невского, вдохновляя их в сражении с врагом).
При идеале смирения древнерусскому человеку в то
же время свойственно развитое чувство внутреннего дос
тоинства, различения ценностей истинных и мнимых
в человеке. Автор «Моления Даниила Заточника» (н. XIII в.)
обращается к своему господину: «Не смотри на внеш
ность мою, но посмотри каков я внутри… Ибо нищий
мудрый — что золото в грязном сосуде, а богатый разоде
тый да глупый — что шелковая подушка, соломой наби
тая». И уже спустя шесть столетий, в XIX в. славянофил
К. Аксаков в своих «Опытах синонимов. Публика — на
род», противопоставляя «публику» (представителей выс
шего сословия) — народу, скажет: «И в публике есть зо
лото и грязь и в народе есть золото и грязь, но в публике
грязь в золоте, в народе — золото в грязи».
В величайшем поэтическом творении «Слово о полку
Игореве» (XII в.), повествующем о неудачном походе
на половцев князя Новгорода Северского Игоря Святос
лавича, патриотическое чувство безвестного автора слито
с горечью сознания губительности для Руси княжеских
усобиц, со страстным призывом к единству русских зе
мель. Образ Ярославны как бы предваряет нравственно
цельный тип русской женщины в нашей литературе.
Феврония в «Повести о Петре и Февронии» (к. XV в.),
Ульяния Осорьина в «Повести об Иулиании Осорьиной»,
написанной ее сыном в н. XVII в., Марковна в «Житии
протопопа Аввакума», Татьяна в «Евгении Онегине»
Пушкина, Лиза в «Дворянском гнезде» Тургенева и т. д.).
Созданное незадолго до нашествия татар «Слово о пол
ку Игореве» было как бы предупреждением о величайшей
опасности для Руси княжеской розни. И беда пришла: раз
дробленная Русь оказалась под монголо-татарским игом.
Но как говорит историк В. О. Ключевский (в своей речи
«Значение преподобного Сергия для русского народа и го
сударства»): «Одним из отличительных признаков велико
го народа служит его способность подниматься на ноги по
сле падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но про
бьет урочный час, он соберет свои растерянные нравствен

182 ЛИТЕРАТУРА СВЯТОЙ РУСИ
ные силы и воплотит их в одном человеке или в нескольких
великих людях, которые и выведут его на покинутую им
временно историческую дорогу». Таким человеком, кото
рый вдохнул в русское общество «чувство нравственной
бодрости, духовной крепости», и был Сергий Радонежский.
Он, по словам историка «поднял упавший дух родного на
рода, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдох
нул веру в свое будущее». И он же благословил кн. Дмит
рия Донского на подвиг перед Куликовской битвой. В «Жи
тии Сергия Радонежского» Епифания Премудрого (XV в.)
образ прп. Сергия неотделим от Святой Троицы. Еще до по
явления его на свет было знамение, означавшее, что «будет
ребенок учеником Святой Троицы». «И не только сам будет
веровать благочестиво, но и других многих соберет и на
учит веровать в Святую Троицу». Во имя Святой Троицы
была освящена Варфоломеем (будущим Сергием) срублен
ная им небольшая церковка в чаще леса. Став по воле Бо
жией игуменом монастыря, Сергий, «наставляя братию,
немногие речи говорил. Но гораздо больше пример пода
вал братии своими делами». Обретая силы в безграничном
источнике любви — в живоначальной Троице, Сергий вно
сил мир и согласие не только в жизнь, в души монашеской
братии, но и в мирское общество. Он примирял враждую
щих князей, под его влиянием удельные князья объедини
лись перед Куликовской битвой вокруг Дмитрия Донского.
К словам историка о способности народа «подни
маться на ноги после падения» можно добавить и то, что
христианский свет никогда не угасал в лучших русских
людях. Святостью супружеской жизни в миру отмечена
«Повесть о Петре и Февронии». В образе Февронии, ря
занской крестьянки, ставшей женой муромского князя
Петра, прославляется сила, красота все преодолевающей
женской любви, ее бессмертие. Повесть эта оказала боль
шое влияние на формирование легенды о граде Китеже,
широко распространенной среди старообрядцев (город
Китеж при нашествии татар, скрываясь от них, опускает
ся на дно озера, продолжая чудесное существование
до лучших времен). Любопытен записанный писателем
Ю. Олешей рассказ о немецком офицере, который услы
шав в России, во время войны, легенду о Китеже, пришел
в смятение, не веря, что такой красоты легенду мог со
творить народ «низшей расы»).
Яркое представление о духовном мире русского че
ловека, оказавшегося на чужбине, дает «Хожение за три
моря» Афанасия Никитина (2-я пол. XV в.). Очутив
шись после всех злоключений в Индии, тверской купец
Афанасий Никитин живо всматривается в новую для
него, чужеземную жизнь, в быт, нравы, обычаи мест
ных жителей, в их религиозные обряды и т. д. Порази
тельна поистине художническая зоркость автора,
напр., в описании выезда молодого султана в день му
сульманского праздника (невольно приходит на память
такая же удивительная выразительность во «Фрегате
«Паллада» И. А. Гончарова, когда подробно описывает
ся японская церемониальность в сцене приема русских
путешественников нагасакским губернатором). Черта
характерно русская, свидетельствовавшая об универ
сальности русского мировосприятия.
Находясь вдалеке от своей родной земли, среди индусов
и «бесерменов» (мусульман), Афанасий Никитин постоян
но думает о ней, «печалится по вере христианской». Когда
его ограбили в устье Волги, пропали церковные книги,
а сам он потерял черед праздников христианских. «А когда
Пасха, праздник воскресения Христова, не знаю: по приме
там гадаю — наступает Пасха раньше бесерменского байра
ма на девять или десять дней», «И молился я Христу Вседер
жителю, Кто сотворил небо и землю, а иного Бога именем
не призывал». «Уже прошло четыре Пасхи, как я в бесер
менской земле, а Христианства я не оставил».
Русский и православный — синонимы (так же как,
по словам Ф. М. Достоевского, синонимы — язык и на
род). Церковь учит свою паству бдительности в распоз
навании врагов «внешних» и «внутренних». Внешним
врагом, грозившим с помощью военной силы уничто
жить православную Русь, окатоличить ее, были псы ры
цари-иезуиты, разгромленные Александром Невским.
В к. XV в. появился еще более опасный для Православия
враг — враг внутренний, грозивший изнутри разложить
Православие, заменить его человеконенавистнической
иудейской верой. Это были жидовствующие (или как их
еще называют иудействующие). Еврей Схария, попав
ший в Новгород из Литвы, и пятеро его единокровных
сообщников положили начало секте, которая не призна
вала в Христе Бога, не верила в Таинство причастия, была
против поклонения иконам (т. е. отвергалось христианст
во). Свив свое гнездо в Новгороде, секта вскоре проникла
в Москву, где среди ее сторонников оказалось множество
духовных лиц вплоть до митр. Зосимы, людей из окружения
вел. кн. Ивана III, да и сам он первое время поддерживал
разных приверженцев секты, пока не обнаружилась вся
исходящая от нее опасность для Церкви и государства.
Растлевающее влияние оказывала эта секта на нравы,
мораль общества. В 6-м томе «Памятников литературы
древней Руси (к. XV — 1-я пол. XVI вв.) отмечается, что
«вопрос о содомии (гомосексуализме)… особенно остро
встал во времена Филофея, когда ересь жидовствующих
распространила этот порок и среди светских лиц (у ере
тиков, по предположениям некоторых историков, он вы
полнял роль ритуального действа)».
Борьбу с жидовствующими возглавил архиепископ
Новгородский Геннадий, который энергично взялся ис
коренять зло и в 1490 добился созыва Собора, отлучив
шего еретиков. В «Житии святого Геннадия, архиеписко
па Новгородского», рассказывается, как Геннадий, «что
бы видел народ, каковы были сеятели пагубных плевел, ..
велел за сорок верст от города сажать их на вонючие сед
ла, лицом к хвосту конскому… чтобы смотрели на запад —
темное царство вечных мук; на головы их надели остро
конечные шлемы из бересты с мочальными или соломен
ными венцами наподобие бесовских и с надписью: «Се
сатанино воинство…».
Сподвижником Геннадия в борьбе с жидовствующи
ми был Иосиф Волоцкий. Блестящий оратор, он своими
тяжкими обличениями принудил митр. Зосиму оставить
московскую кафедру. Тринадцать «слов» против жидов
ствующих составили его сочинение «Просветитель».
В XV в. произошли события, которые оказали огром
ное влияние на формирование русского национального
самосознания. Не имея сил для противостояния турец
ким завоевателям и надеясь получить помощь от Запада,
Византия заключает с ним унию (Флорентийская уния,
1439). Унию самовольно подписал и представитель

183ЛИТЕРАТУРА СВЯТОЙ РУСИ
от Русского государства Московский митрополит Иси
дор, грек по национальности, по возвращении в Москву
он был за измену Православию арестован, но спасся бег
ством в Литву. Уния не спасла Византию, Запад не при
шел к ней на помощь, и в мае 1453 со взятием турками
Константинополя Византийская империя пала.
Гибель Византии произвела глубочайшее впечатление
на Руси, которую тесно связывали с нею церковно-куль
турные традиции. Вместе с тем, с утратой мирового пра
вославного центра в русском сознании возникает мысль
о Москве как преемнице Константинова-града, как о но
вом мировом центре Православия. Идея «Москва — Тре
тий Рим» выражена в послании старца псковского Спа
со-Елеазарова монастыря Филофея вел. московскому
кн. Василию III (н. XVI в.). Первый Рим пал из-за ересей.
Второй Рим (Константинов-град) покорен турками
(за грехи соглашательства с латинством). Опорой чисто
го Православия в мире становится Москва. Обращаясь
к вел. кн. Василию III старец Филофей говорит: «все
христианские царства сошлись в одно твое… два Рима
пали, а третий стоит, четвертому же не бывать».
Обращенная к Василию III идея Филофея получает
свое полное развитие и осуществление при сыне Васи
лия III — Иване Грозном (кстати, к нему и обращено од
но из последних посланий старца), когда складывается
мощное русское централизованное государство с при
соединенными к нему Казанью, Астраханью, Сибирью,
а Москва заявляет о себе действительно как мировой
центр Православия. Литературно-идеологическим памят
ником эпохи Ивана Грозного свойственна монументаль
ность идеи и формы. Это относится к таким творениям,
как «Великие Четьи-Минеи», «Стоглав», «Домострой».
Четьи Минеи (в 12 томах, по числу месяцев), составленные
митр. Макарием и коллективом его многочисленных
сотрудников, — это, по словам историка В. О. Ключев
ского, целая «энциклопедия древнерусской письмен
ности». По его счету, в них 1300 житий, в том числе
40 житий русских святых, большинство которых было
канонизировано на соборах 1547 и 1549. Установление
всецерковного чествования целого сонма русских свя
тых около сер. XVI в. означало углубление историчес
ки-церковного сознания в русском обществе, растущего
интереса к отечественным подвижникам, ослабление
зависимости от Восточной Церкви.
В 1551 царем Иваном Грозным был созван церков
ный Собор в обстановке, когда обнаружились признаки
ослабления духа веры, упадка религиозно-церковной
жизни Древней Руси. Деяния этого Собора были записа
ны в книге, разделенной на 100 глав и получившей на
звание «Стоглав». В него вошли речи царя, его вопросы
и ответы Собора, касающиеся Церкви, религии, падения
нравственности, древнего благочестия. «Стоглав» дает
богатейший материал для знакомства с нравами и обы
чаями того времени.
«Домострой» вобрал в себя из предшествующей
древнерусской литературы все духовно ценное, тради
ционное, отвечающее самой сути миросозерцания рус
ских людей, коренным особенностям их национального
характера, немыслимого без православной основы.
Здесь свод наставлений о религиозных обязанностях
христианина по отношению к Богу и ближнему сменя
ется изложением наставлений относительно внутрисе
мейных отношений, воспитания детей, обязанностей
мужа и жены. Наконец, советы о порядке ведения до
машнего хозяйства — целая энциклопедия домашнего
быта и хозяйства на Руси XVI в.
Известно, каким пугалом в глазах «общественнос
ти» стремились представить «Домострой» прогрессис
ты и радикалы XIX в. и последующих времен. За «домо
строевщину» как знак невежественной старины, всего
косного, темного в ней выдавалась древнерусская се
мья, где муж непременно самодур, а жена — безмолв
ная рабыня. Между тем из «Домостроя» видно, какую
высокую роль играла женщина-хозяйка дома, дополняя
дело мужа как главы семьи своим влиянием на атмос
феру семейной жизни как любящая мать и жена, как
труженица, распорядительница порядка в доме. Главка
из «Домостроя» «Похвала женам» заставляет вспомнить
светлые образы древнерусских женщин, воссозданных
в таких работах, как «Идеальные женские характеры
Древней Руси» Ф. И. Буслаева, «Боярыня Морозова…»
И. Е. Забелина, «Добрые люди Древней Руси» (об Иули
ании Осорьиной) В. Ключевского.
Конечно, очень многое в «Домострое» воспринима
ется ныне именно как атрибутика литературного памят
ника, как давно ушедшее в прошлое, вроде мельчайшей
бытовой, семейной регламентации. Но есть в нем и то,
что имеет и современное значение. Каждый народ обла
дает тем своим особым качеством, которое принято на
зывать менталитетом. Напр., для японцев характерен
культ предков, национальных традиций, который и стал
в виде морального фактора одной из главных причин
«экономического чуда». У немцев-протестантов труд
становится как бы исполнением религиозного долга.
«Американская мечта» — стать миллионером. О корнях
еврейской монополии в банкирском деле А. С. Хомяков
писал: «Газеты недавно дразнили зависть читателей пе
речнем Ротшильдовых миллионов; но Ротшильд — явле
ние не одинокое в своем народе: он только глава много
миллионных банкиров еврейских. Своими семьюстами
миллионами, своим правом быть, так сказать, денежною
державою обязан он, без сомнения, не случайным обсто
ятельствам и не случайной организацией своей головы:
в его денежном могуществе отзывается целая история
и вера его племени. Этот народ без отечества, это потом
ственное преемство торгового духа древней Палестины,
и в особенности эта любовь к земным выгодам, которая
и в древности не могла узнать Мессию в нищете и уни
чижении. Ротшильд факт жизненный» (статья «О воз
можности русской художественной школы»).
В «Домострое» осуждается богатство, нажитое непра
ведно, не честным трудом. «Неправедное богатство не же
лать, законными доходами и праведным богатством жить
подобает всякому христианину; жить на прибыль от закон
ных средств». В истории России «праведное богатство»
и было на службе государственных интересов страны, спо
собствуя развитию ее экономики, производительных сил
(следует отметить особую роль в этом деле купцов и про
мышленников из старообрядцев в XIX в.).
Разговор о литературе эпохи Ивана Грозного закон
чим кратким словом о нем самом, как о писателе.
Адресатом двух его знаменитых посланий был князь

184 ЛИТЕРАТУРА СВЯТОЙ РУСИ
Курбский, потомок ярославского князя. В молодости
друг, советник Грозного, участник Казанского похода,
впоследствии тайно бежавший к литовцам и во главе
их отрядов воевавший против бывшей родины, Курб
ский выражал интересы бояр, не желавших отказы
ваться от участия во власти, готовых, как их предки —
удельные князья, разорвать Россию на части. В ответ
на обвинения Курбского в истреблении бояр, злоупот
реблении царем своей единодержавной властью, Иван
Грозный напоминает изменнику об установленности
«Божьим веленьем» царской власти, от ее имени он ка
рает тех, кто покушается на государственность, целос
тность Руси. «Господь наш Иисус Христос сказал:
«Если царство разделится, то оно не может устоять»,
кто же может вести войну против врагов, если его цар
ство раздирается междоусобием, распрями?! Как мо
жет цвести дерево, если у него высохшие корни? Так
и здесь: пока в царстве не будет порядка, откуда возь
мется военная храбрость?» Стиль и язык посланий
Грозного, в отличие от составленных по правилам ри
торики, лишенных индивидуальности посланий Курб
ского живо передают темперамент, необузданность ха
рактера царя, свободу, беспорядочность в выражении
им своих мыслей и чувств. Элементы языка книжного
(свидетельствующего о богословском образовании ав
тора) сочетаются с ярким разговорным языком, пере
сыпанным меткими выражениями, «кусательной» иро
нией, грубыми, язвительными издевательствами над
противником. Язык Ивана Грозного в его двух писани
ях Курбскому можно назвать предтечей языка прото
попа Аввакума (который, кстати, ссылался в своей
борьбе с Никоном на Ивана Грозного как на ревностно
го защитника Православия: «Миленький царь Иван
Васильевич скоро бы указ сделал такой собаке»).
Издревле свойственный русской литературе исто
ризм проявляется во многих произведениях литерату
ры XVII в. Таково, прежде всего, «Сказание» Авраамия
Палицына, келаря Троице-Сергиева монастыря, о 16-ме
сячной осаде этого монастыря поляками и литовцами
(1608–10). Автор повествует о героизме защитников
святой обители — монахов, крестьян, называет реаль
ные имена, связанные с тем или иным конкретным по
двигом. Возникают моменты, в которых можно уви
деть предвестие ситуации «брат на брата» в будущей
русской литературе. «Троицкий же слуга Данило Селе
вин, которого поносили из-за бегства его брата Оськи
Селевина, не желая носить на себе изменнического
имени, сказал перед всеми людьми: «Хочу за измену
брата своего жизнь на смерть променять!» И со своей
сотней пошел пешим к колодцу чудотворца Сергия
на врага. Данило храбро бился с захватчиками, многих
посек, но и сам был сильно ранен. И его, подхватив,
отнесли в монастырь, и он преставился во иноческом
образе». С беспощадной реалистичностью (вплоть
до натуралистического нагнетания) описываются бедст
вия, ужасы мора и массовых смертей в стане осажден
ных. И на протяжении всей осады, во всех обстоятель
ствах защитников обители не покидает являющийся
им великий чудотворец Сергий, который «расхрабри
вает их» (придает им храбрости) в сражении, укрепля
ет их волю в тягчайших испытаниях.
К XVII в. относятся записи духовных стихов, хотя су
ществовали они задолго до этого. Исполнителями, а за
частую и создателями этих стихов были калики перехо
жие, слепые певцы, которые бродили по деревням, пели
на ярмарках, на монастырских дворах и т. д. Содержани
ем духовных стихов служат ветхозаветные, евангельские
сюжеты, апокрифы, истории из житий святых, о правед
никах и грешниках, представления о мироздании, его
начале и судьбах и т. д. Известный ученый Ф. И. Буслаев
отмечал «глубину мысли и высокое поэтическое твор
чество» лучших духовных стихов, их возвышенный,
христианский настрой.
Сколько в духовных стихах, в лучших из них — уми
лительного и вместе с тем глубокого («Голубиной книгой»,
т. е. Глубокой книгой, называется духовный стих о миро
здании, о Божьих тайнах его).
А вот «Об исходе души из тела»:
Душа с телом расставалась, как птенец со гнездом.
Возлетает и выходит в незнакомый мир…
Оставляет все житейское попечение,
Честь и славу, и богатство маловременное,
Забывает отца, и мать, и жену, и чад своих.
Переселяется во ин век бесконечный…
Тамо зрит лица и вещи преужасные,
Добрых ангел и воздушных духи темные.
Вопрошают душу ангелы об делах ея,
Не дают ей ни малейшего послабления:
«Ты куда, душе, быстро течешь путем своим?
Ты должна здесь во всех делах оправдатися.
Вспомни, как на оном свете во грехах жила, —
Здесь грехами твоими, как сетьми, свяжут тя».
«Вы помилуйте, помилуйте, вы, добрии ангели.
Не отдайте мя, несчастную, в руки злых духов,
Но ведите мя ко Господу милосердному.
Я при смерти в делах своих покаялась,
В коих волен, милосердный Бог простит меня.
Вы же что, мои друзи, ближние сродницы,
Остояще гроб и тело лобызаете?
Вы почто меня водой омываете,
Не омывшегося слезами перед Господом?»
Здесь даже слишком обытовлена потусторонняя тай
на, но сколько пронзительного (как будто это наши
умершие матери) в стенании трепетной души, умоляю
щей ангелов не отдавать ее, несчастную, в «руки злых ду
хов», а вести скорее ко Господу, в милосердие которого
она верит, и вдруг это обращение к земной родне своей,
оплакивающей умершего, вызывающее светлую улыбку,
укор сродникам с простодушным заискиванием перед
Господом. В этом духовном стихе выражена народная ве
ра в милосердие горних сил к нашим грешным душам
(кстати, так же, как и в рублевских фресках о Страшном
суде во Владимирском Успенском соборе).
По своему содержанию к духовным стихам может
быть отнесена и «Повесть о Горе-Злочастии» — о злок
лючениях молодца, ушедшего из родительского дома,
пожелавшего жить своим умом, по своей воле, кото
рый после житейских мытарств, душевных терзаний
уходит в монастырь.
В 1660-х появляется первый в русской литературе
опыт романа — «Повесть о Савве Грудцыне», принадле
жащий безвестному автору. Это история о том, как сын

185ЛИТЕРАТУРА СВЯТОЙ РУСИ
богатого купца Саввы, ставший рабом исступленной
страсти к молодой жене старого купца, закладывает ду
шу дьяволу, дабы вернуть любовь прельстившей его
женщины. Уже здесь, можно сказать, видны зачатки то
го психологизма «темных страстей», которое получит
такое углубленное развитие в позднейшей литературе
(Рогожин в «Идиоте» Ф. М. Достоевского, молодой ку
пец Петр в пьесе А. Н. Островского «Живи не так, как
хочется»). Савве во всех обстоятельствах жизни сопут
ствует «мнимый брат» — бес, он же ведет его в «град ве
лик», к престолу «отца» своего, которому Савва вручает
написанное под диктовку беса письмо о своей готовнос
ти служить дьяволу. И этот постоянный спутник ге
роя — бес предстает собственно как двойник Саввы, не
даром и возникает он на пути его сразу же, как только
герой «мысль положи во уме своем», что «аз бы послу
жил диаволу», если бы тот восстановил любовную связь.
Двойничество в русской литературе станет обычно яв
лением разорванного безрелигиозного сознания (напр.,
разговор Ивана Карамазова с чертом у Достоевского).
Одурманенность страстью доходит у Саввы до того,
что он ни во что ставит (и даже смеется над ними) пись
ма матери к нему, которая умоляет его бросить «непоря
дочное житие» и возвратиться домой. Материнское про
клятие не трогает его, что было беспримерным для того
времени нравственным падением. (Можно вспомнить
историю, когда сам молодой царь Михаил Романов, не
смотря на то, что его поддерживал отец, митр. Филарет,
вынужден был отказаться от женитьбы на любимой
из-за несогласия матери.) То, о чем еще сто лет назад
на церковном Соборе с его «Стоглавом» говорилось
в сдержанной форме (об ослаблении духа веры, древнего
благочестия), теперь вырывалось в литературе греховны
ми страстями людей, для которых уже нет сдерживающих
пут «Домостроя». Новые веяния носились в воздухе,
и не только в сугубо плотских проявлениях. Дух новизны
тонко уловлен В. Ф. Одоевским, автором «Русских но
чей», и в атмосфере европейской жизни примерно той же
эпохи (жена Баха испытывает смятение, когда впервые
слышит исполняемую гостем новую, светскую музыку —
после привычной для нее величавой, «вечной» музыки
мужа, трепетом отзываются в ней страстные мирские
звуки). Но «Повесть о Савве Грудцыне» заканчивается
в духе псалма 61: «Только в Боге успокаивается душа
моя». От погибели его избавляет милосердие Богороди
цы, по повелению Ее он становится иноком.
В сер. XVII в. в русской православной церковной
жизни произошел раскол, ставший нашей националь
ной трагедией. К этому времени более чем вековая идея
«Москва — Третий Рим» (от падения Византии) стала
восприниматься уже не теоретически, а как вполне осу
ществимая на практике. Но для того, чтобы Русская
Церковь стала вселенски православной, необходимо было
сблизить ее с греческой церковью, устранить различия
между русскими и греческими церковными книгами.
Это и стало предметом церковной реформы, проведен
ной царем Алексеем Михайловичем и патр. Никоном.
Нововведение вызвало мощное сопротивление привер
женцев старины во главе с вождем старообрядцев прото
попом Аввакумом. Написанное им о себе в земляной
тюрьме Пустозерска на берегу Ледовитого океана «Жи
тие» (1673) — венчая отроги древнерусской литературы
как одна из главных ее вершин, открывает вместе с тем
новые пути русского слова. Почему до сих пор, спустя
три с лишним столетия, так действует на нас слово Авва
кума? Потому, что за этим словом стоит сам автор, обжи
гающая правда, подлинность всего пережитого им, его
готовность пойти за веру на костер (чем и закончилась
его героическая, мученическая жизнь). В своем слове он
«дышит тако горящею душою», употребляя его собст
венное выражение. Вот уж где поистине: «Как живу, так
и пишу. Как пишу, так и живу» (как впоследствии опре
делял принцип своего жизненного поведения один
из русских писателей). Эта целостность, неразрывность
слова и дела стали и этическим заветом славянофилов,
ставивших во главу угла писательской личности нравст
венные качества (И. В. Киреевский: поставить «чистоту
жизни над чистотой слога»).
Аввакум — не писатель в общепринятом «профессио
нальном» значении слова, писательство для него — необ
ходимое средство борьбы. «По нужде ворчу, — писал
он, — понеже, докучают. А как бы не спрашивали, я бы
и молчал больше». Но в этом «ворчании» — какой худож
ник слова! Какое богатство жизненно психологических
связей протопопа с миром (царь Алексей Михайлович,
патриарх Никон, боярин Ртищев, Симеон Полоцкий, боя
рыня Морозова, воевода Пашков, священники, паства
и т. д.) и какая, иногда в нескольких словах, изобрази
тельная сила в показе человеческих характеров, какое
разнообразие интонаций (от язвительной по отношению
к Никону до задушевной — с женой Марковной)! И со
вершенно уникальный, «природно русский», разговор
ный народный язык («принципиально непереводимый»
на европейские языки, по Достоевскому).
Религиозно-церковное сознание Аввакума, при всей
своей догматичности, насыщено, драматизировано
«страстьми», переживаниями, которые вносят в познание
им сущего элемент сердечного всеведения (подобно тому,
как для его современника Паскаля только с «болью серд
ца» достигается полнота истины). Обличитель «отступни
ческой блудни», готовый «перепластать на четверти» ни
кониан (хотя сам отвергает жестокость в делах веры:
«Мой Христос не приказал нашим апостолам так учить,
еже бы огнем, да кнутом, да вислицею в веру приводить»),
Аввакум как христианин и страдает и сострадает, он ис
пытывает «печаль», ему «горько зело», он «плачет» за лю
дей, ему их жаль и т. д. В религиозном опыте Аввакума
и в самой судьбе его выразилось то предощущение катас
трофичности бытия, которое будет постоянно сопровож
дать историю России вплоть до настоящего времени.
Второй раскол ожидал Россию при сыне царя Алексея
Михайловича — Петре I, реформы которого раскололи
нацию на европеизированный образованный слой и на
родную массу. Петровские реформы стали предметом дли
тельного исторического спора между их сторонниками
и противниками. Но даже и славянофилы, которых запад
ники необоснованно обвиняют в огульном отрицании этих
реформ, в действительности признавали их историческую
необходимость, целесообразность, как освобождение,
по словам К. С. Аксакова, от «исключительной националь
ности», как выход в мир, в активные взаимоотношения
с Европой, что позволило русскому народу полнее реали

186 ЛИТИЯ
зовать свои потенциальные духовные силы, утверждать
свое призвание в мире. Но при этом славянофилы
не принимали таких радикальных реальностей Петров
ских реформ, как разрыв с духовно-культурным наследи
ем Древней Руси, с многовековыми народными, культур
ными традициями. Неблагоприятные последствия имели
церковные преобразования. Петр покончил с патриар
шеством, в 1721 был учрежден Святейший Синод, что
привело к зависимости Церкви от государства, к обмир
щению церковной власти. М. Лобанов
ЛИТИЯ (греч.: молитва), в православном богослужении:
1) часть всенощного бдения, 2) молитва за усопших.
ЛИТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена в XIV в. в начале
правления Гедимина. Ольгерду стоило много труда, пока
он добился у Константинопольского патриарха признания
за Литовской митрополией независимости (1355). Вскоре
после этого между Литовским митр. Романом и Москов
ским Алексием возникли споры, которые кончились тем,
что в 1364 Литовская митрополия была закрыта. В 1375
по настоянию Ольгерда она была снова открыта и мит
рополитом назначен Киприан. Однако же борьба про
должалась до 1389, когда Киприан стал общерусским мит
рополитом. В 1416 Витовт снова восстановил Литовскую
митрополию в лице Григория Цамбалака, после удаления
которого православная Литовская епархия стала зависима
от Московского митрополита в 1419. В состав российских
епархий принята по воссоединении унии в 1839. Епархи
альными архиереями были: Иосиф Семашко с 6 апр.
1840 — архиепископ Литовский; Макарий Булгаков с10
дек. 1868 — епископ Литовский, с 8 апр. 1878 — митропо
лит Московский; Александр Добрынин с 23 мая 1879 —
епископ Литовский; Алексий Лавров-Платонов с 11 мая
1885 — епископ Литовский, с 20 марта 1886 — архиепис
коп; Донат Бабинский с 13 дек. 1890 — архиепископ Ли
товский, с 30 апр. 1894 — Донской; Иероним с 1894; Юве
налий с 1898 по 1904; Никандр с 1904 по 1910; Агафангел
с 1910. Перед 1917 в епархии было мужских монастырей —
4, монашествующих — 45, послушников — 28; женских мо
настырей — 3, монашествующих — 25, послушниц — 169.
Церквей: соборных — 5, приходских — 200, домовых — 26,
приписных — 65, кладбищенских– 103 (всего 411); часо
вен — 58. Духовенства: протоиереев — 19, священников —
215, псаломщиков — 228; православного населения: муж
ского пола — 212 718, женского — 204 472 (всего —
417 190). Библиотек при церквах — 160; церковно-приход
ских попечительств — 159, больниц при церквах и монас
тырях — нет, богаделен при церквах — 52. Школ двухклас
сных — 11; школ одноклассных — 196; школ грамоты — 494
(всего — 705), учащихся — 21508.
С 1863 еженедельно выходили «Литовские епархиаль
ные ведомости». С провозглашением «независимости»
Литвы Православие на этой территории подверглось гоне
ниям и запретам. Ныне Литовская епархия именуется Ви
ленской. В ее составе существуют только 2 монастыря.
ЛИТУРГИКА, название богословской науки, имеющей
своим предметом учение о христианском церковном
богослужении, среди которого первое место занимает ли
тургия. Литургика делится на общую и частную. Первая
излагает теоретическую основу богослужения вообще,
рассказывает историю его происхождения и развития, из
лагает составные части богослужения о таинствах, молит
вах, песнопениях, чтении Св. Писания, в ней говорится
о священнослужителях и церковнослужителях, о священ
ных изображениях и одеждах и т. д. Литургика частная
имеет своим предметом отдельные чинопоследования,
повседневные — вечернее, утреннее, дневное, присвоен
ные праздникам и постам, таинствам. Православная ли
тургика часто называется «церковной археологией».
ЛИТУРГИЯ, самое важное богослужение, во время кото
рого совершается Святейшее Таинство Причащения, уста
новленное Господом нашим Иисусом Христом в четверг
вечером, накануне крестных Его страданий. Умывши ноги
Своим апостолам для показания им примера смирения,
Господь, воздав хвалу Богу Отцу, взял хлеб, благословил
его, преломил и дал апостолам, говоря: «Приимите, ядите:
сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое»; потом Он взял ча
шу с виноградным вином, также благословил ее и подал
апостолам, говоря: «Пийте от нея вси: сия есть Кровь Моя
Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во остав
ление грехов»; причастив их, Господь дал заповедь всегда
совершать это Таинство: «Сие творите в Мое воспомина
ние» (Мф. 26, 26–28; Лк. 22, 19; 1 Кор. 11; 24).
Апостолы совершали св. Причащение по заповеди
и примеру Иисуса Христа и научили христиан совершать
это великое и спасительное Таинство. В первое время по
рядок и образ совершения литургии передавался устно,
и все молитвы и священные песнопения заучивались
на память. Затем стало появляться и письменное изложе
ние апостольской литургии. С течением времени литургия
пополнялась новыми молитвами, песнопениями и свя
щенными действиями, что нарушало в разных церквах
единообразие в совершении ее. Являлась потребность
объединить все существовавшие чины литургий, внести
единообразие в их совершение. Это и было сделано в IV в.,
когда прекратились гонения на христиан и христианская
Церковь получила возможность приступить к благоуст
ройству внутренней своей жизни (Вселенские Соборы).
В это время св. Василий Великий записал и предложил к об
щему употреблению составленный им чин литургии, а св.
Иоанн Златоуст несколько сократил этот чин. В основу
этого чина была положена древнейшая литургия св. апос
тола Иакова, первого епископа Иерусалимского.
Литургия имеет различные названия. Первое назва
ние — «литургия» — греческое, означает «общественная
служба» и указывает на то, что Таинство св. Причащения
есть умилостивительная Жертва Богу за грехи всего общест
ва верующих — живых и умерших. Так как Таинство св.
Причащения по-гречески называется Евхаристией, что зна
чит «благодарственная жертва», то и литургия называется
также «евхаристией». Чаще всего литургию называют «обед
ней», т. к. ее положено совершать в полуденное (обеденное)
время, и Тело и Кровь Христовы, предлагаемые в Таинстве
св. Причащения, в Слове Божием называются «Трапезой»
и «Вечерей» Господней (1 Кор. 10, 21; 11, 20). В апостольс
кое время литургия называлась еще «преломлением хлеба»
(Деян. 2: 46). На литургии воспоминаются земная жизнь
и учение Иисуса Христа от рождения и до вознесения Его
на небо и принесенные Им на землю спасительные блага.
Порядок литургии такой: сначала приготовляется ве
щество для Таинства, потом верующие приготовляются
к Таинству и, наконец, совершается самое Таинство,
и верующие причащаются. Литургия, таким образом,

187ЛИХУД СОФРОНИЙ
разделяется на три части, называемые: проскомидией, Ли
тургией оглашенных и Литургией верных.
ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ, вторая часть литургии, на
зываемая так потому, что при совершении ее могут при
сутствовать и оглашенные, т. е. готовящиеся к принятию
Св. Крещения, а также кающиеся, отлученные за тяжкие
грехи от Св. Причащения.
ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ, вид ли
тургии, во время которой не совершается Таинство Евха
ристии, а верующие причащаются Преждеосвященными
Дарами, т. е. освященными прежде, на предыдущей ли
тургии св. Василия Великого или св. Иоанна Златоуста.
ЛИХВИНСКИЙ ПОКРОВСКИЙ монастырь, Калужская
губ. (ныне Тульская обл.). Эта обитель, называемая еще
по месту своего нахождения около с. Доброго «Добрым»
монастырем, была расположена на правом берегу р. Оки,
в 10 верстах от г. Лихвина (ныне г. Чекалин). Сначала этот
монастырь именовался Зачатьевским Покровским в честь
храмов Покрова Богоматери и церкви в честь Зачатия Бо
городицы. Время основания обители в точности неизвест
но. Полагают, что монастырь был основан в сер. XV в.
кн. Иваном Юрьевичем Одоевским. В Лихвинской обите
ли было 2 храма: Покровский и в честь Вознесения Гос
подня. В Покровской церкви находилась местночтимая
икона Покрова Пресвятой Богородицы, которая ежегодно
приносилась в г. Лихвин. При монастыре была церков
но-приходская школа. После 1917 монастырь был утрачен.
ЛИХУД Софроний (1633—1730), богослов, мыслитель, об
щественный деятель, основавший вместе со своим братом
Иоанникием Московскую Славяно-греко-латинскую ака
демию. Родился на о. Кефалония, в Греции. Софроний, яв
ляясь потомком древнего византийского княжеского рода,
подобно большинству благородных греческих юношей,
обучался в Италии. В частности, он некоторое время брал
уроки у православного митр. Филадельфийского Герасима
в Венеции, а затем прослушал курс лекций в Падуанском
университете, где ему был выдан докторский диплом. Воз
вратившись вместе со своим братом на родину, в Кефало
нию, Софроний преподавал в различных греческих учеб
ных заведениях философию и богословие. В н. 80-х XVII в.
царское правительство предпринимает энергичные меры
по организации первой русской высшей школы, которая
должна была соединить преимущества западноевропей
ского университета с достоинствами православной духов
ной академии. В 1683 Софроний и Иоанникий, получив
приглашение от Московского патр. Иоакима, отправились
из Константинополя в далекую Россию. Впрочем, полити
ческая ситуация, сложившаяся к тому времени в Восточ
ной Европе, не особенно благоприятствовала путешест
вию ученых монахов. В Молдавии Лихуды помимо своей
воли оказались вовлечены в жесткие перипетии войны
между войсками его апостолического величества и отряда
ми янычар Блистательной Порты, а во владениях короля
польского греческие учителя столкнулись с вездесущими
иезуитами, которые с целями пропаганды католицизма как
раз в к. XVII в. основали в Московии свои школы. Разуме
ется, члены Ордена Иисуса не были заинтересованы в уве
личении числа конкурентов. Вот почему, прибыв осенью
1684 во Львов (Лемберг), Лихуды были задержаны местны
ми властями. Во Львове братьям пришлось выдержать пуб
личный диспут с ученым иезуитом Руткою, послужив
ший основой для последующего сочинения «Мечец духов
ный, или Разговор с иезуитом Руткою в Польской земле».
В конце концов Лихудам удалось бежать от своих могущес
твенных противников, так что в марте 1685 они смогли
благополучно завершить долгое путешествие. Представив
шись во дворце и предъявив духовным властям достовер
ные свидетельства своего Православия, Лихуды, наконец,
смогли приступить к академической деятельности. Перво
начально Лихуды обучали детей у себя дома в особых дере
вянных кельях Богоявленского монастыря. Но уже в 1687
завершилось возведение каменного здания школ в Заико
носпасском монастыре, куда переселилась академия.
На торжестве по этому случаю присутствовал патр.
Иоаким с Собором московского духовенства. Обширное
здание академии, находившееся в Заиконоспасском монас
тыре, было построено на деньги, завещанные иеродиак.
Мелетием, который в свое время по поручению патр.
Иоакима написал Иерусалимскому патриарху просьбу
о присылке учителей. Впрочем, определенные расходы
взяли на себя царское правительство и Русская православ
ная церковь. Располагая переданными им средствами, Ли
худы сумели не только организовать в академии обучение
по лучшим западноевропейским образцам, но и приступи
ли к систематической подготовке национальных научных
кадров. За короткое время работы в академии Лихуды на
писали несколько панегириков, учебник греческой грам
матики, пространную грамматику, учебник латинского
языка, пиитики, риторики, логики и физики, т. е. предме
тов, охватывающих собой полный академический курс.
Перед Лихудами стояла сложная задача, ведь они должны
были обучать не только совершенно не подготовленных
учеников, для которых организовали «русскую школу»,
но и продолжать научную работу с более образованными
воспитанниками. По мнению некоторых исследователей,
состав учеников академии пополнился выходцами из Ти
пографской школы и из училища Сильвестра Медведева.
Впрочем, средства на содержание академии отпускались
весьма умеренные, так что помпезный прожект «Академи
ческой Привилегии» (своеобразного устава будущей рус
ской высшей школы, составленный в Москве еще до при
езда туда Лихудов) на деле обернулся скромным образова
тельным начинанием. Основная работа в академии легла
на плечи Софрония, т. к. Иоанникий к тому времени все
цело отдался заботам дипломатическим. Софроний, в час
тности, обучал греческому и латинскому языкам; в апр.
1688 приступили к риторике, так что некоторые одаренные
ученики обращались к патриарху со специальными «ора
циями». К сожалению, несмотря на то, что Лихуды имели
на руках полный философский курс, основывавшийся,
по-видимому, на падуанских лекциях, прочитать этот курс
в академии ученым грекам не удалось. Едва лишь Софро
ний, завершив к 1691 изложение логики, перешел к лекци
ям по физике, как Лихуды оказались отстранены от педа
гогической деятельности. Обусловленная политическими
интригами отставка Лихудов существенно затруднила раз
витие философской мысли в стенах московской академии,
так что полный курс философии впервые удалось осущес
твить лишь в 1705—06, т. е. через 12 лет после ухода ученых
греков. В философских лекциях, читавшихся как на гре
ческом, так и на латинском языках, Софроний показывает
себя приверженцем второй схоластики — оригинального

188 ЛИЦЕВОЙ СВОД
направления философской мысли, распространившегося
в Западной Европе со времен контрреформации. По срав
нению с аналогичными курсами Киево-Могилянской акаде
мии, учение Лихудов выглядит более архаичным. Видимо,
после окончания Падуанского университета Софроний со
средоточился на проблемах полемического богословия
и не слишком внимательно следил за новейшими направ
лениями философской мысли. Кроме того, Лихуды вооб
ще отличались консерватизмом, поэтому и в России они
безоговорочно приняли сторону ревнителей византийско
го Православия. В академии Лихудам не удалось создать
собственной школы, хотя из непосредственных учеников
Софрония следует отметить таких видных деятелей рос
сийской культуры, как Ф. П. Поликарпов, Н. С. Головин,
Карион Истомин. Интересно обратить внимание и на то
немаловажное обстоятельство, что состав учеников во вре
мена Лихудов отличался б_ольшим демократизмом, чем
в последующие периоды академической истории. К при
меру, на ученических скамьях в к. XVII столетия можно бы
ло увидеть и потомков владетельных князей, и сыновей
крестьян. Как известно, к. XVII — н. XVIII в. в Москве со
провождались бурными спорами между приверженцами
традиционного византийского благочестия и т. н. «модер
нистами», искавшими определенные точки сближения
с европейской культурой. В частности, тогдашнее русское
общество резко разделилось по вопросу о времени пресу
ществления Святых Даров. Софроний не замедлил вклю
читься в разгоревшуюся борьбу, разумеется, снабжая свои
произведения острыми полемическими выпадами против
сторонников западной ориентации. В сочинении «Мечец
духовный», составленном в 1689, Софроний опровергает
учение католиков о главенстве римского папы в светской
и религиозной жизни, критикует западный обряд Креще
ния, разбирает догмат о чистилище и т. п. Впрочем, люте
ране и кальвинисты удостоились со стороны Софрония
не менее резких выпадов в книжице под названием «Акос».
Активная публицистическая деятельность Лихудов не мог
ла удовлетворить ни правительство, стремившееся, с неко
торыми ограничениями, обеспечить свободу вероиспове
дания многочисленным иностранцам, поступавшим
на русскую службу, ни латинствующую партию, во главе
которой находился Сильвестр Медведев. После казни
Сильвестра, последовавшей в февр. 1691, враги Лихудов,
тем не менее, продолжали очернять греческих учителей.
В подметных листках они старались подорвать доверие
русского общества к учебной деятельности Лихудов, обви
няли их в неправославии, презрительном отношении
к русским, корыстолюбии и шпионаже. После удаления
Лихудов от академических дел их на некоторое время пе
реводят в патриаршую типографию, так что блестящая ка
рьера ученых греков круто пошла на убыль. В 1697 они
по приказу Петра I преподавали итальянский язык в Мос
кве, однако предприятие успеха не имело. Хотя личная
свобода братьев, по-видимому, существенно не ограничи
валась, тем не менее скрытые преследования со стороны
недоброжелателей постоянно продолжали их беспокоить.
Положение Лихудов определенно улучшилось лишь в 1706,
когда Новгородский митр. Иов с позволения царя присту
пил к организации в своей епархии славяно-греко-латин
ского училища. В результате просветительской деятельнос
ти митр. Иова в новгородской епархии удалось открыть
14 грамматических школ. В Новгороде Софроний пробыл
недолго: отправившись в 1708 в Москву за типографскими
станками для училища, ученый грек был удержан в столи
це по настоянию местоблюстителя патриаршего престола
Стефана Яворского, который хорошо понимал, что пре
небрегать услугами таких людей, как Лихуды, по крайней
мере, легкомысленно. Софроний преподавал греческий
язык в Москве до 1720, когда его перевели настоятелем
в Солотчинский монастырь, величественные здания кото
рого и поныне сохранились в Рязанской обл. В монастыре
между настоятелем-греком и местной братией вскоре раз
горелись жаркие споры, так что Софроний вынужден был
спасаться бегством. Старость Софрония омрачилась затя
нувшейся кляузной тяжбой, которую ему пришлось вести
с братией Солотчинского монастыря, к тому же в Москве
у Лихуда неизвестные лица похитили все сбережения, при
житые за время жизни в России. Ученые труды Лихудов
до сих пор остаются почти совершенно неизученными, хо
тя выдающийся вклад братьев в развитие русской духовной
культуры единодушно расценивается весьма высоко.
Лит.: Сменцовский М. Братья Лихуды. СПб., 1899; Смир
нов С. К. История Московской Славяно-греко-латинской акаде
мии. М., 1854. А. Панибратцев
ЛИЦЕВОЙ СВОД, летописный свод 2-й пол. XVI в.,
крупнейший памятник летописания Древней Руси. Созда
вался по заказу царя Ивана Грозного в 1568–76. В основу
свода был положен один из вариантов Никоновской лето
писи, а также различные сочинения по мировой истории.
В сохранившемся виде он представляет собой 10-томную
рукопись, богато иллюстрированную миниатюрами, чис
ло которых превышает 1600. Красочные, выполненные
с необычайным художественным изяществом, миниатю
ры и дали название своду (как говорили в то время, лето
пись выполнена в лицах). Повествование начинается
с библейских времен и завершается под 1567. Русское цар
ство, история которого излагается на фоне мировой исто
рии, представлено в своде как преемник великих госу
дарств прошлого, оплот истинной Православной веры.
Заключительные главы свода, рассказывающие о годах
правления Ивана Грозного, несут на себе следы серьезной
редакторской правки, призванной пересмотреть роль от
дельных лиц в новейшей истории страны. Неизвестный
редактор не смущался даже тем, что на листах, на которых
он оставлял свои пометы, уже были выполнены миниатю
ры. Не исключено, что этим редактором был сам царь. Ли
цевой свод до сих пор не опубликован. А. Лаушкин
ЛИШЕНИЕ САНА, в императорской России состояло
в лишении прав, присвоенных лицам священного сана,
совершать таинства и др. священнодействия, права пре
подавать верующим благословение и пр. С этим были
связаны ограничения гражданских прав лиц, лишенных
по суду сана за пороки и неблагочинные поступки, а так
же добровольно сложивших сан. В отношении первой
категории лиц, лишенных сана, действовали следующие
ограничения гражданских прав: им воспрещался въезд
в обе столицы и жительство в них (в течение 7 лет по ли
шении сана): вступление на государственную или общес
твенную, по выборам дворянским и городским, службу
(в течение 12 лет для диаконов и 20 лет для священни
ков). Лицам же, сложившим сан добровольно, воспреща
лось вступать на государственную службу: священникам
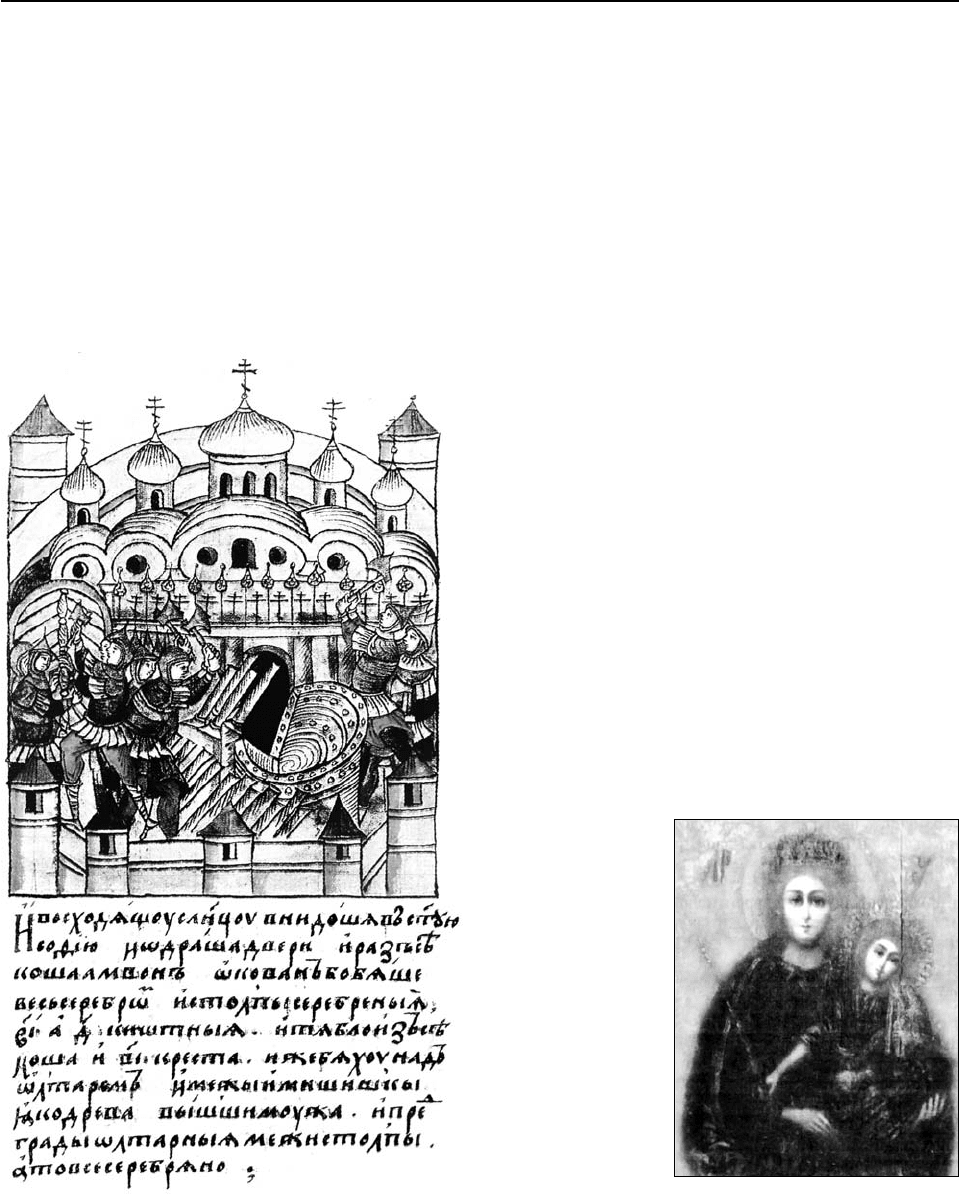
189ЛОМОВСКАЯ (ЛАМСКАЯ) ИКОНА
ранее 10, диаконам ранее 6 лет, причем, по установив
шейся практике, священникам не разрешалось поступать
на службу в пределах той епархии, где они раньше состо
яли на службе в священном сане. Лишение сана за поро
ки производилось: по решению консисторского суда,
причем допускалась апелляция в Синод; по решению уго
ловного суда в случае обвинения в уголовном преступле
нии, причем по приведении в исполнение решения дово
дилось до сведения Синода. Сложение сана по добро
вольному желанию производилось с разрешения Синода
после 3-месячного увещевания и испытания неизмен
ности принятого решения.
ЛОГОС (греч.: слово, поучение, предание, похвала), все
общая закономерность, внутренний смысл явлений, ра
зумная основа мира. По учению Церкви, Иисус Хрис
тос — Логос во плоти, вторая Ипостась Троицы.
ЛОЖЬ, преступление против истины. В православном со
знании Святой Руси видится как тяжелый грех, присущий
падшей природе человека: «Всяк человек ложь — и я тож»
или «Все люди ложь и мы тож». «Люди солгали, да и мы
правды не сказали». «Люди лгут, а нам веры не имут».
В «Поучении сыновьям» Владимир Мономах говорит:
«Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, от того ведь ду
ша погибает и тело».
Ложь так же живуча, как и истина, если не более
(И. С. Тургенев). Тля ест траву, ржа — железо, а лжа —
душу (А. П. Чехов). Ложь перед самим собою — это наи
более распространенная и самая сильная форма пора
бощения человека жизнью (Л. Н. Андреев). Ложь ложью
спасается (Ф. М. Достоевский). О. П.
ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКИЙ Владимир Константинович, свя
щенномученик (26.05.1885–13[26].12.1937), протоиерей.
Родился в Смоленской губ. в семье земских врачей. Закон
чил Петербургский университет. Служил в Сенате. В 1920
рукоположен в священника. Неоднократно подвергался
аресту: в 1924 по делу «Спасское Братство». Затем он был
арестован в февр. 1925 и приговорен к 10 годам лагерей
по обвинению в монархическом заговоре и служении пани
хид с поминовением Императорской Семьи. Часть срока о.
Владимир отбывал на Соловках. Лагерную жизнь он при
нимал смиренно и безропотно. Со всеми был приветлив,
ласков, любил шутку, острое словцо. По воспоминаниям
соузников-соловчан аристократизм его поведения не исче
зал даже тогда, «когда он отвешивал вонючую воблу» в про
довольственном ларьке, разносил посылки или мыл управ
ленческие уборные. Врожденный такт «и, главное, светив
шаяся в нем глубокая любовь к человеку сглаживали внеш
ние различия с окружающими». Он был «так воздушно-све
тел, так легко-добр, что, кажется, являлся воплощением
безгрешной чистоты, которую ничто не может запятнать».
После освобождения о. Владимир служил в Новгороде,
но вскоре был снова арестован как член группы «Народная
демократия на основе неогосударственного капитализма».
Расстрелян. Канонизирован Русской Церковью в 2000.
ЛОМОВСКАЯ (ЛАМСКАЯ) чудотворная икона Божией
Матери, находится в Богородично-Рождественской девичьей
пустыни. Икона бы
ла обретена в дни ве
ликого стояния рус
ских и татар на
р. Угре. Разломанная
на 2 дощечки (отсю
да и название — Ло
мовская), икона бы
ла найдена в водах
реки, и с тех пор,
по словам летопис
ца, эту реку назвали
Поясом Богородицы,
защищающим Рус
скую землю. Явлен
ная икона прослави
лась множеством чу
дес. В годы богобор
чества она сохраня
лась сестрами Свя
то-Никольского мо
«Повесть о взятии Царьграда». Лицевой свод XVI в.
Ломовская (Ламская)
икона Божией Матери.
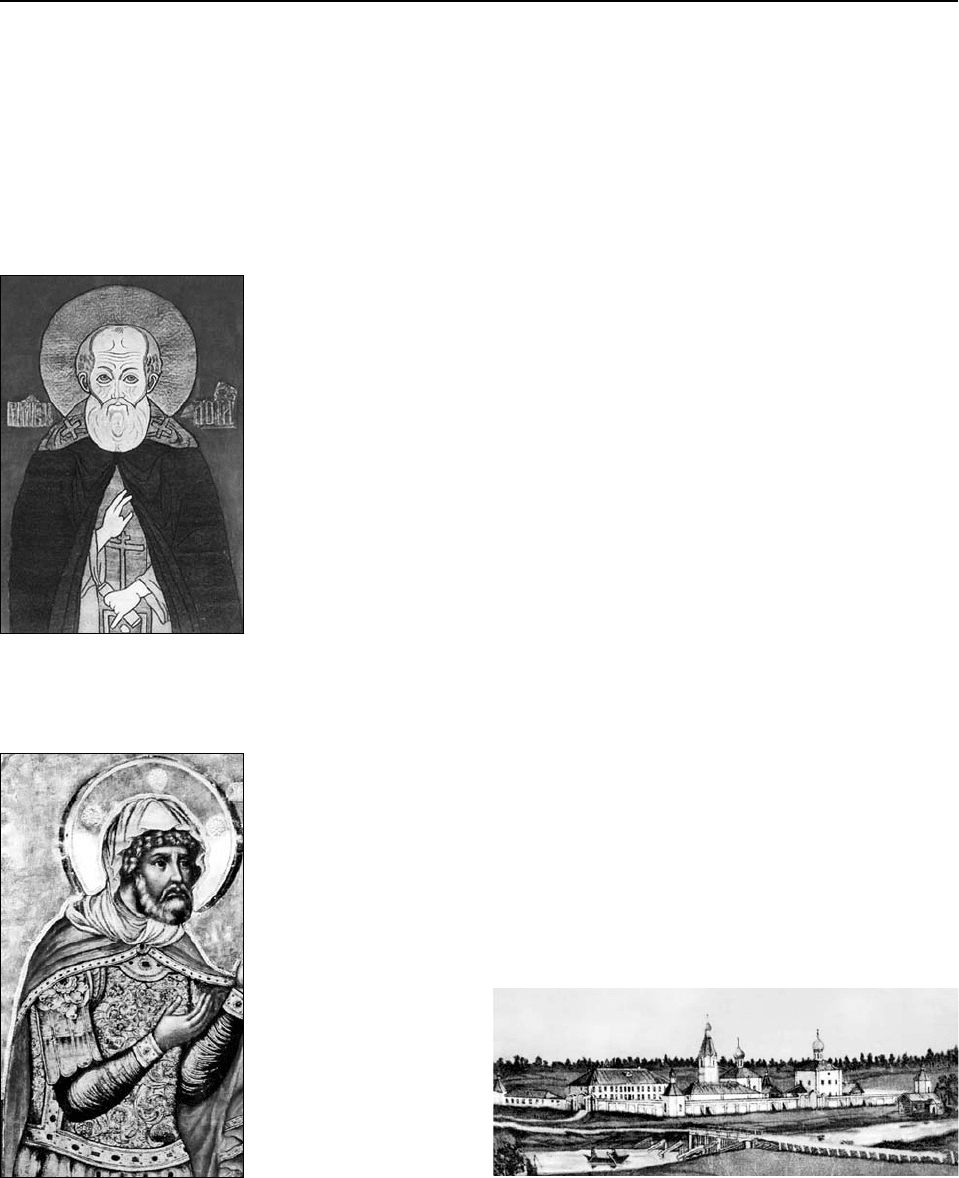
190 ЛОНГИН КОРЯЖЕМСКИЙ
настыря «за Угрой». В 1975 образ был передан монахиней
Ангелиной в действующий храм Рождества Богородицы
в с. Барятине, где он пребывает и сейчас. В 1993 при храме
образовалась монашеская община. В Барятине ежегодно
случается чудо, которое могут наблюдать все желающие:
в ночь на Рождество, а также иногда на Крещение, Срете
ние, в праздник свт. Николая 19 дек., с тихим треском рас
пускаются почки вербы около храма. То же происходит
со старой вербой на месте бывшего Свято-Никольского
монастыря «за Угрой».
ЛОНГИН КОРЯЖЕМСКИЙ (ск. 1540), иеромонах, под
визался в различных монастырях Русского Севера, а затем,
желая полного монашес
кого уединения, со своим
другом Симоном удалил
ся в глухую чащу под
Сольвычегодском на бе
регу р. Коряжемки (отсю
да наименование свято
го). Долго продолжалась
отшельническая жизнь
прп. Лонгина, и вскоре
вокруг него стала соби
раться братия. Видя
в этом волю Божию, пре
подобный стал назидать
братию в христианском
благочестии. Будучи сми
ренным иноком, он заве
щал похоронить себя при
входе в храм. Спустя 16
лет его мощи были пере
несены в саму церковь.
Власяница и вериги прп. Лонгина Коряжемского по
ложены в раке в храме прп. Лонгина и являются главной
святыней Коряжемского прихода. Ежегодно 13 июня —
день перенесения св. мощей в храм прп. Лонгина — го
рожане отмечают как
день города. Торжества
традиционно открывает
архиерейское богослуже
ние и крестный ход.
Память прп. Лонгину
отмечается 10/23 февр.
ЛОНГИН СОТНИК, свя
щенномученик (ск. в I в.),
почитался в русском на
роде как целитель глаз
ной болезни, почему
в «Сказании о святых»
ему была назначена осо
бая молитва о «прозре
нии ослепших очес и ис
целении от болезни».
Основою для этого веро
вания относительно мч.
Лонгина, очевидно, по
служило записанное в жи
тии этого святого обстоя
тельство, совершившееся
при обретении его чест
ной главы, именно: будучи свидетелем крестной смерти
Господа Иисуса Христа, сотник Лонгин уверовал в него
как в Бога и Спасителя и за это был усечен; после того го
лова его была принесена в Иерусалим по требованию Пи
лата иудеям для удостоверения их в том, что он действи
тельно казнен. Через несколько лет после этого события
одна ослепшая женщина из Каппадокии решилась пойти
к св. местам в Иерусалим, чтобы помолиться там об исце
лении от слепоты. К несчастью, у нее тогда уже умер сын
и смертью своей усугубил горесть и без того несчастной
матери. В утешение ее явился ей в сонном видении св.
Лонгин и, открыв ей, где погребена глава его, велел отко
пать и взять ее с собою, за что обещал подать ослепшей ис
целение. Женщина, по указанию святого, нашла при вхо
де в Иерусалим гноище, разрыла его собственными рука
ми, обрела честную главу св. Лонгина и тут же прозрела.
Память мч. Лонгину отмечается 16/29 окт.
ЛОПОТОВ ГРИГОРИЕВО-ПЕЛЬШЕМСКИЙ мужской
монастырь, Вологодская губ. Находился в 7 верстах от
г. Кадникова при р. Пельшме. Монастырь был окружен
болотами.
Основателем обители был прп. Григорий, про
исходивший из знатного рода галичских бояр по фами
лии Лопотовы. Прп. Григорий с юных лет посвятил себя
подвигам иноческого служения. Желая основать обитель,
он после долгих странствий по лесам и пустынным мес
там пришел в 1426 на берега р. Пельшмы и здесь избрал
себе место для будущей обители. Он устроил небольшую
хижину и вел здесь подвижническую жизнь. Скоро при
шел к нему иерей по имени Алексий и, принявши по
стрижение, поселился с ним. Постепенно образовалась
монашеская община, и прп. Григорий с благословения
Ростовского архиеп. Ефрема основал обитель, благопо
лучно просуществовавшую до советских времен. В 1764
монастырь был оставлен за штатом.
Перед 1917 в монастыре было 2 храма: церковь Собора
Пресвятой Богородицы (XVII в.) с приделом в честь Усек
новения главы Иоанна Предтечи и церковь во имя прп.
Григория Пельшемского. В монастыре у северной стены хо
лодной церкви под спудом покоились мощи прп. Григория;
над ними была устроена металлическая посеребренная ра
ка; около нее хранились железные вериги, железная полу
мантия и железная кольчатая рубашка, принадлежавшие
прп. Григорию. В обители хранился крест, высеченный
из камня руками самого прп. Григория во время его пус
тынного уединения здесь до основания обители. Из икон
обращали не себя внимание икона Усекновения главы
Иоанна Предтечи, древняя икона Бога Вседержителя с из
ображением многих святых и древний образ прп. Григория
в «сребропозлащенной» ризе, которую в летнее время носи
Лонгин Коряжемский.
Икона. XVII в.
Сщмч. Лонгин Сотник.
Икона XVII в. Москва.
Вид Григориево-Пельшемского монастыря с юго-зап.
стороны. Хромолитография. Е. И. Фесенко. 1899 г.
