Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2
Подождите немного. Документ загружается.


631ПРИХОД
ний в канонах; обыкновенно она совершалась перед ана
лоем среди церкви. Евангелие при присяге можно откры
вать на любой странице, хотя чаще священники предла
гают целовать при присяге первые слова Евангелия
от Иоанна: «В начале бе Слово». От присяги были осво
бождены: 1) священнослужители и монашествующие;
2) лица, принадлежащие к вероучениям и сектам, не при
емлющим присяги: они давали обещание показать прав
ду по совести. Особенное значение имела присяга 1) на
верность государю, 2) на исполнение государственной
службы и 3) в гражданском процессе для удостоверения
показаний призванием Бога в свидетеля правды. Цель
ее — устранение спора. Присяга постепенно вытесняла
древние суды Божии (поединки, испытание огнем и во
дой). Присяга по предложению др. стороны предпола
гала веру одной стороны в нравственно-религиозное
настроение другой, благодаря которому она не присяг
нет, если не убеждена в правдивости своего показания.
Присяга дополнительная и очистительная развилась под
влиянием канонического права. Принесенная присяга
принималась за полное доказательство тех фактов или
действий, которые вместе с ней утверждались.
ПРИТВОР, западная часть православного храма, отделя
ющаяся обычно от средней части храма глухой стеной.
В притвор православного храма могли входить не только
оглашенные и кающиеся, известные под именем слушаю
щих, но и иудеи, еретики, раскольники и язычники, для
слушания Слова Божия и поучения. В древности в притво
ре устраивалась крещальня, т. е. купель для крещения.
С XVIII в. в притворе совершаются литии во время всенощ
ного бдения, повечерие, полунощница и оглашение; в при
творе дается в 40-й день молитва родильнице. Иногда
в притворе (напр., в монастырях) проходит трапеза после
литургии, подобно тому, как в древности здесь же вслед
за таинством Причащения, для всех верующих готовился
ужин или вечеря любви. Дозволяется мирянам приносить
в притвор, в день Пасхи, кулич, сыр и яйца для освящения.
ПРИХОД, в Православной Церкви христианская общи
на, управляемая священником. В древней Церкви, а так
же в Древней Руси прихожане сами избирали членов
причта, представляя епископу т. н. «заручныя прошения»,
получившие начало после Владимирского Собора 1274.
В XIX в. это было отменено, но прихожанам разрешалось
изъявлять епархиальному архиерею о желательности данно
го лица. Имущество каждой церкви и ее земли составляли
ее неотъемлемую собственность. Церковно-приходские
дела не относились к ведомству сельских и волостных
сходов; мирские приговоры о сборах в пользу церквей
признавались обязательными для крестьян. Отвод уста
новленных участков земли для причта вновь открываемых
приходов возлагался на общества и лица, возбудившие
ходатайство об образовании приходов, для чего они долж
ны указать средства для построения храма и содержания
причта. При приходах учреждались церковно-приход
ские общества для организации благотворительности.
Общее собрание прихожан выбирало из своей среды чле
нов приходского попечительства и доверенного человека
для ведения церковного хозяйства — церковного старосту
на 3 года, с согласия причта, при благочинном и утвержда
емого архиереем. В 1885 московское земство возбудило
вопрос о восстановлении древнего права приходов изби
рать излюбленных людей на должность приходских свя
щенников. Синод разрешил этот вопрос отрицательно,
т. к. избрание кандидата лежит на нравственной ответст
венности епископа.
По церковным установлениям XIX — н. XX в. приход
можно было образовать, если был храм и достаточные
средства для содержания причта. В приходе, в котором
числились более 700 душ прихожан мужского пола, полага
лось иметь священника, дьякона и псаломщика. В прихо
дах, где прихожан было меньше, службы вели священник
и псаломщик. В западнорусских и кавказских епархиях
приход образовывался и при меньшем числе прихожан.
Приход, бывший в допетровские времена одной
из главных форм общественного самоуправления, позд
нее превратился в чисто административную единицу ду
ховного ведомства, место соединения населения для мо
литвы и регистрации гражданского состояния. В XIX в.
славянофилы предлагает вернуть приходам, прежде всего
в городах, их прежнее всеобъемлющее значение. Одним
из главных органов, в которых обсуждались идеи возрожде
ния приходского самоуправления, стали газеты «Русское
дело» и «Русский труд», выпускаемые славянофилом
С. Ф. Шараповым, ставшим одним из ведущих идеологов
этого движения. Основной городской территориальной
единицей, считал Шарапов, должен быть поставлен при
ход, и это должна быть единица не только вероисповедная,
но и административная, судебная, полицейская, финансо
вая, учебная, почтовая и т. п. Всякий постоянный житель
прихода, не опороченный судом и достигший определенно
го возраста, должен быть полноправным членом прихода,
избирателем и избираемым. Под сенью Церкви, справедли
во полагал Шарапов, не может быть вопроса о сословности,
имущественном неравенстве или каком-либо цензе, кроме
чисто нравственного в виде доверия и уважения соседей,
основанного на долгом и тесном знакомстве с человеком.
Только при этих условиях и возможен правильный выбор
истинных представителей местных интересов.
Во главе прихода должен стоять выборный приходской
голова, который будет управлять приходом вместе с други
ми приходскими властями: священником, приходским су
дьей, приходским полицейским приставом, приходским
сборщиком податей, заведующим приходскими школами,
приходским врачом, все вместе составляющими приход
ской совет. Деятельность его должна направляться и про
веряться приходским собранием уполномоченных, изби
раемых всем населением прихода. Это же собрание будет
выбирать и гласных в городскую думу.
Приход должен иметь права юридического лица —
иметь свое имущество, свои учреждения и предприятия,
то есть быть полноправной юридической и хозяйственной
единицей в составе государства. «Вне прихода ни государ
ство, ни город, ни земство не должны иметь дела с отдель
ным человеком, ибо только при этом будет гарантировано
внутреннее единство и целость нашего национального
единства, столь угрожаемого в последнее время наплывом
и бесконтрольным хозяйничаньем всякой иностранщи
ны, которая тихо и незаметно затопляет Россию».
Шарапов отмечает, что приходское самоуправление
позволит прекратить «такое страшное явление, как по
степенное вытеснение и замещение русского элемента
иностранцами и инородцами, идущее теперь полным хо

632 ПРИЧАСТЕН
дом и, по-видимому, никем не замечаемое, обратило бы
на себя внимание. В приходе все на виду, приход сразу за
метил бы неестественный прилив чужеродного элемента
и поднял бы тревогу».
По мнению другого великого русского мыслителя,
близкого к славянофилам, кн. А. Г. Щербатова, приход
должен стать залогом возрождения русского народа и го
сударства Российского В работе «Православный при
ход — твердыня русской народности» (1909) он писал:
«Обновление России и пробуждение русского народа осу
ществимы при условии оживления православного прихода
не только церковного (в Церкви), но и общежитейско
го — вокруг Церкви». Тогда все «враждебные русской на
родности силы, все существующие недоумения и неяс
ности — все исчезнет и подчинится русскому народному
духу, проявившему себя во всей широте в православных
приходах. Но для этого нужно, чтобы каждый православ
ный приход представлял из себя самобытную, самодовле
ющую со всех сторон обороненную от чуждых влияний
твердыню русской народности. Тогда и только тогда рус
ская народность будет действительно неуязвимой». Он
прекрасно понимал, что такой взгляд на роль православ
ного прихода требует коренной перестройки обществен
ной жизни: «Для того, чтобы православный приход был
бы действительно основой государства, чтобы установить
между ним и высшим правительством непосредственные
сношения, чтобы он действительно удовлетворял всем ду
ховным и жизненным потребностям населения, он дол
жен быть оборудован всеми способами общественного
самоуправления». По мысли кн. Щербатова, приходу
должны быть не только переданы функции земства, но он
должен стать и самостоятельной полицейской единицей
со своим полицейским чином. Управлять таким прихо
дом должно приходское попечительство, которое должно
избираться из своей среды прихожанами. При приходе
должны быть созданы также народнохозяйственные об
щественные учреждения: мелкие сельскохозяйственные
общества, свое учреждение мелкого кредита, общество
взаимопомощи и потребительское общество.
ПРИЧАСТЕН (иначе — киноник), богослужебное песно
пение на литургии, исполняемое на клиросе во время
приобщения священнослужителей. Они имеют несколь
ко видов, смотря по содержанию: «Причастен дне»,
«Причастен святого», «Причастен праздника» и всегда
оканчиваются трикратным пением аллилуйя. На литур
гии Преждеосвященных Даров причастеном служит
стих: «Вкусите и видите, яко благ Господь».
ПРИЧАЩЕНИЕ, главнейшее христианское Таинство,
установленное Самим Иисусом Христом. Приступающий
к нему сначала постится в течение нескольких дней и по
сещает церковные службы, причем, вспоминая свои гре
хи, сокрушается о них и молит Господа о помиловании
его. Потом в назначенное время он приходит к священни
ку, совершающему исповедь у аналоя, на котором лежат
Крест и Евангелие, и кается в грехах. Священник, видя
его чистосердечное раскаяние, возлагает конец епитра
хили на его приклоненную голову и читает разрешитель
ную молитву, прощая ему грехи от Самого Иисуса Хрис
та и осеняя его крестным знамением. Поцеловав крест,
исповедавшийся отходит с успокоенной совестью и мо
лит Господа удостоить его причаститься Св. Таин. Таин
ство Причащения совершается во время литургии. Все
исповедавшиеся повторяют за священником молитву пе
ред причащением и делают земной поклон, а потом бла
гоговейно подходят к Св. Чаше и причащаются Св. Таин,
вкушая под видом хлеба и вина истинное Тело Христово
и истинную Кровь Христову. По причащении, кроме бла
годарения, возносимого за литургией, читаются еще
от лица причастников особые благодарственные молит
вы. Больных же священник причащает в их домах, снача
ла исповедав их. В каждой церкви должны постоянно
иметься запасные Св. Дары для причащающихся боль
ных. В апостольский век литургия совершалась ежеднев
но, и все присутствовавшие обязательно причащались
за каждой литургией. На Руси вплоть до н. XVIII в. при
частие совершалось всеми прихожанами на каждой ли
тургии в воскресные дни и праздники, т. е. много раз
в год. В XIX — н. XX в. православные не считали себя
достойными приступать к причастию часто: поэтому Рус
ской Церковью было установлено, в случае нежелания
или невозможности причащаться чаще, приступать к та
инству не менее одного раза в год. Конечно, такая норма
была введена прежде всего для представителей правяще
го класса и интеллигенции, многие из которых вообще
избегали причастия. Крестьяне и значительная часть ку
печества по-прежнему причащались много раз в году.
23-е правило VI Вселенского Собора запрещает брать
плату за причастие. По 50-му правилу Карфагенского
Собора, причастие должно быть до принятия пищи.
ПРИЧЕТНИК, член церковного причта, церковнослу
житель; до 1917 общее название всех клириков, кроме
священника и диакона: чтецов, дьячков, псаломщиков
и др. Обязанность причетника — чтение из богослужеб
ных книг, пение на клиросе и вообще участие во всех цер
ковных богослужениях. До 1869 они также должны были
наблюдать за чистотой в церкви. Штатный причетник
особыми молитвами посвящался архиереем в стихарь.
ПРИЧТ, состав лиц, служащих при какой-либо одной
церкви, как священнослужителей, так и церковнослужи
телей. В России XIХ — н. XX в. причт каждой церкви
формировался по положенному для нее, утвержденному
Синодом штату. На учреждение нового причта каждый раз
архиерей просил разрешения Синода. Содержание прич
та складывалось из доходов за совершение треб у прихо
жан, которые разделялись между членами причта
по утвержденным Синодом правилам, из земельной цер
ковной собственности — не менее 330 дес. на причт,
из готового помещения в церковных домах и жалованья
от 140 до 600 руб. в год священнику (последнее было
не во всех приходах). Столичным приходским причтам
жалованье за службу не полагалось.
ПРОВИДЕНИЕ, «целесообразное действие Высшего Су
щества, направленное к наибольшему благу творения во
обще, человека и человечества в особенности» (В. Соло
вьев). Христианская мысль видит мир в целом и жизнь
любого человека находящимися не во власти случая или
судьбы, а направляемыми милостью Божией к благой це
ли. Нельзя сказать, что Бог полностью управляет всем
происходящим до мелочей, но есть личная забота Бога
о мире и о каждом человеке, Его воздействие на историю.
Согласно Откровению, это также и осуществление Его за
мысла о спасении мира через Христа в целях конечного

633ПРОЗОРОВ Г. Я.
преображения мира для полного торжества Царства Бо
жия. Провидение нередко отождествляют с Промыслом,
хотя в нехристианской философии Промысл не связан
с верой в то, что Бог таинственно ведет мир к победе над
силами хаоса, зла и смерти. Провидение понимают двой
ственно — как действие Бога в рамках естественного по
рядка вещей, когда нужные для достижения какой-либо
цели события «организуются» без нарушения законов
мироздания и как чудесное вмешательство Божие в ход со
бытий, когда Бог позволяет себе ради спасения человека на
рушить Им Самим установленные законы. Основная проб
лема Провидения — место свободы воли человека и его
нравственной ответственности в замыслах Божиих. Исчер
пывающего решения этой проблемы нет. Л. Василенко
ПРОГРЕСС (лат. — движение вперед), процесс непрестан
ного и необратимого улучшения условий человеческой
жизни, нравственности, социального порядка в ходе исто
рии. Прогресс остается предметом светской веры, в основ
ном противоречащей фактам, однако в определен
ных областях культуры на некоторых ее этапах можно
наблюдать прогрессивные изменения. В XX в. эту веру
оценивают уже как «допотопную». Оппонент прогресса —
циклизм, описавший становление и вырождение великих
цивилизаций древности. Их распад надолго погружал
оставшиеся на их месте народы в состояние одичания.
Христианские возражения: 1) прогресс теряет смысл, ес
ли не происходит неуклонного улучшения прежде всего
нравственного состояния человечества в целом; 2) его
невозможно осуществить мерами политическими, соци
альными, просветительскими и экономическими; лишь
религиозное обращение может усилить в людях чувство
нравственной ответственности, но секуляризация современ
ной культуры и общественной жизни этому противодейст
вует; 3) прогресс — симптом конца, все более ускоренного
движения человечества к финалу, к катастрофическому
завершению истории. «О, треклятый прогресс!» — вос
клицал К. Леонтьев, увидев в нем процесс неотвратимого
внутреннего разложения западно-европейской культуры.
С. Франк назвал прогресс необратимо идущим созрева
нием человечества для Страшного Суда. (Ср. у В. Соловье
ва: «Спасающий спасается. Вот тайна прогресса — дру
гой нет и не будет».) Л. Василенко
ПРОЗОРЛИВЫЕ, святые, имевшие от Святого Духа «слово
мудрости, пророчество, различение духов». Прозорливые
предсказывали будущее, прозревали в сердца приходивших
к ним людей, утешали и утверждали на основании этого
внутреннего прозрения благочестивых и обличали нечести
вых. Таков был, напр., прп. Печерский Матфей Прозорли
вый, подвизавшийся в XI в. Память его 5/18 окт.
ПРОЗОРОВ, о. Григорий Яковлевич (21.01.1864—после
1919), протоиерей, профессор богословия. Родился
в с. Солдатское Нижнедевицкого у. Воронежской губ.
в семье причетника. В 1878—84 обучался в Воронежской
духовной семинарии, по окончании которой поступил
в Киевскую духовную академию, которую окончил в 1888
со степенью кандидата богословия и с правом получе
ния степени магистра без новых устных испытаний.
С 1 окт. 1888 состоял законоучителем Коростышевской
учительской семинарии. 16 окт. 1888 рукоположен в сан
иерея с назначением настоятелем домовой Андреевской
церкви при том же учебном заведении. 1 июня 1890 пере
мещен на должность законоучителя Киевского реально
го училища с причислением к Софийскому собору.
В 1890—97 Прозоров исполнял также обязанности зако
ноучителя: 4-й Киевской гимназии, Образцовой школы
при параллельных классах Киевского женского училища
Духовного ведомства, Торговой школы. 6 дек. 1891 опре
делен настоятелем домовой Александро-Невской церкви
реального училища. Кроме основных пастырских обя
занностей с 9 окт. 1898 состоял бессменным преподавате
лем богословия в Киевском Политехническом институте
им. Александра II. Ему поручают возглавлять Совет Ки
евского Первого женского училища Духовного Ведомст
ва, Совет Киевского Свято-Владимирского Братства.
С самого основания в 1893 Прозоров являлся также ак
тивным участником Киевского Общества распростра
нения религиозно-нравственного просвещения в духе
Православной Церкви (впоследствии Киевское религи
озно-просветительское общество), исполняя с 15 дек.
1893 должность делопроизводителя Совета, с апр. 1902 —
товарища председателя, а с сент. 1907 по 1912 — предсе
дателя. В своем слове в день освящения домового храма
Общества во имя св. Иоанна Златоуста он отмечал: «За 10
лет своего существования Общество устроило в разных
местах г. Киева до 6000 чтений, напечатало и раздало на
роду более 2 млн листков и брошюр религиозно-нравст
венного и историко-патриотического содержания, по
строило и принесло в дар бедным жителям Юрковецкой
окраины храм и школу, положило начало церковно-на
родному любительскому хору».
В 1904 в Киеве был открыт отдел Русского собрания
(впоследствии он обособился от Совета, находившегося
в столице, и стал называться Киевское Русское собрание).
С 3 дек. 1908, после выхода в отставку Б. М. Юзефовича,
Прозоров был избран его председателем (после обособле
ния в 1911 он остался во главе самостоятельного Киевского
Русского собрания). 28 июня 1909 на вокзале он приветст
вовал речью Государя Императора от лица всех киевских
патриотических организаций, а 16 дек. 1909 по Высочай
шему повелению получил письменную благодарность
от имени Его Императорского Величества за руководство
добровольной охраной из членов патриотических органи
заций во время пребывания Царя в Киеве. В 1909 он стал
гласным городской думы в качестве представителя
от духовенства, активно добиваясь проведения жизненно
важных вопросов, его персона рассматривалась также
в качестве кандидата в члены Государственного совета
от Киевской епархии. С 1 авг. 1909 Прозоров состоял
штатным протоиереем Софийского кафедрального собо
ра. Во время расследования ритуального убийства
А. Ющинского (см.: Ритуальные убийства) он не раз слу
жил панихиды по убиенному отроку. В своем письме
митр. Флавиану (Городецкому) 24 окт. 1913 он отмечал:
«Наконец, Суд сказал свое слово. Ритуал признан, Бейлис
оправдан. Милость и великодушие русского народа сказа
лись с особой силой. Оправдали несомненного участника
в ритуальном мучении Андрюши Ющинского только по
тому, что злодей не захвачен на месте. Но возможно ли
преступников такого рода захватить на месте!.. Из зала су
да и гражданские истцы (Замысловский и Шмаков) пере
давали мне, что насчет Бейлиса присяжные заседатели
разделились пополам (6 и 6), значит, оправдание злодея

634 ПРОЗОРОВ Н. Ф.
довольно сомнительное... Теперь евреи охотно отправили
бы сотни Бейлисов на каторгу, только бы уничтожить об
винение в ритуальном убийстве... Но дело их уже проиг
рано, кассация невозможна. Возбуждение в Киеве было
чрезвычайное, особенно вчера, т. е. 28 окт. В 4 часа вечера
в Софийском соборе отслужена была панихида по убиен
ном отроке Андрее. Панихида эта внесла большое успоко
ение в массы, заполнившие Собор и Соборную площадь.
Было более 5000 народа... Вчера вечером после приговора
о Бейлисе в купеческом собрании все правые организации
и просто добрые русские люди устроили Шмакову и За
мысловскому великое торжество. Герои-подвижники
за правосудие благословлены иконами».
19 февр. 1919, после упразднения должности препода
вателя богословия Политехнического института, Прозо
ров еще несколько месяцев служил в Софийском соборе,
но вскоре с семьей покинул Киев и эмигрировал в Европу.
Соч.: Чтения по основному богословию для студентов Ки
евского политехнического института Императора Александра II.
Киев, 1900; Гоголь как христианин. Киев, 1909; Праздник
священного коронования и значение Самодержавия. Киев,
1910; О Верховной власти. Слово, сказанное… 21 окт. 1911.
Киев, 1911. Т. Кальченко
ПРОЗОРОВ Николай Федорович, священномученик
(1897–8[21].08.1930), священник. Родился в с. Покров
ское Пензенской губ. 18-ти лет, в 1915, он оставил семи
нарию и пошел добровольцем защищать Отечество
на германский фронт после обучения в Михайловском
артиллерийском училище. На фронте он командовал
батальоном. По возвращении с фронта в Пензу в 1918
он был обвинен чекистами в «офицерском заговоре»
и приговорен к расстрелу. Молодой, полный жизни
и мужества офицер дал обет стать священником, если
Господь сохранит ему жизнь. Находясь среди смертни
ков в общей камере, он предложил прочитать вслух ака
фист свт. Николаю, защитнику невинно осужденных.
Часть офицеров согласилась и пропела акафист, а дру
гие отказались. Все читавшие акафист были избавлены
от казни и получили сроки тюремного заключения, а их
соузники были расстреляны.
Освободившись, Прозоров принял в 1919 священст
во. Рукополагал его священномученик архиеп. Иоанн
(Поммер). Но ГПУ запретило о. Николаю пребывание
в Пензе и он приехал в 1925 в Петроград, где служил в де
ревенской церкви св. Александра Ошевенского около
платформы «Пискаревка». Батюшка был женат и имел
3 маленьких дочерей. После выхода «Декларации», когда
от митр. Сергия (Страгородского) отделилось множество
священнослужителей, батюшка был доверенным лицом
у священномученика иосифлянского архиеп. Димитрия
(Любимова). В 1929 батюшку арестовали вместе с группой
иосифлянского духовенства, не признавшей «Деклара
ции» митр. Сергия, и расстреляли. Прощаясь с сокамер
никами, батюшка радостно сказал: «Господь зовет меня
к Себе, и я сейчас буду с Ним!»
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ КРЕСТА ГОС
ПОДНЯ, праздник Православной Церкви 1/14 авг. Он
перешел на Русь из Византии, где был установлен не поз
же IX в. и состоял в вынесении из императорского двор
ца в храм Софии сохранившейся части Креста Господня,
причем совершалось водоосвящение. В течение 2 недель
эту святыню носили по городу, служа при этом литии для
освящения мест и для отвращения болезней. Наименова
ние праздника «Происхождение честных древ Креста
Господня» (вместо «Исхождение») — неточный перевод
греческого названия. Ныне в этот праздник при богослу
жении бывает вынос Креста на середину храма и покло
нение ему, а после литургии — крестный ход на воду.
ПРОКИМЕН, название стихов, произносимых чтецом
или диаконом и повторяемых пением на клиросе перед
чтением Апостола, Евангелия и паремии. В прокименах,
чаще всего заимствованных из Св. Писания, кратко вы
ражается смысл или последующего чтения, или службы
дня «прокимен дне», произносимые на вечерне, помеще
ны в последовании вечерни, в «Служебнике», а прокимен
Евангелий, утренних и литургийных, в «Месяцеслове» при
«Служебнике». Из прокимена выделяются «прокимены
великие», содержащие в себе 3 стиха; они положены
только на великие праздники Господни, а также на вос
кресенья Великого поста, кроме недели Ваий.
ПРОКЛЫ (День Прокла и Проклы), народное название
дня свт. Прокла, архиепископа Константинопольского,
20 нояб./3 дек.
Время переменчивой погоды: «На Прокла нет от до
роги прока». На Прокла полагалось проклинать нечис
тую силу. Крестьяне говорили: «Проклы проклинают не
чисть под землей чтобы она оттуда не выходила».
В этот день к свв. Проклу и Прокле обращались, что
бы помогли они домашние работы прочно сделать, чтобы
надежно можно было на санях отправиться в дальний
путь, когда дорога наладится. Считалось, что родивший
ся в этот день всю работу будет прочно делать, на «авось»
не надеяться.
ПРОКЛЯТИЕ, в христианском вероучении это слово
противоположно слову благоволение. Под проклятием
в противоположность благоволению разумеется лише
ние благословения и осуждение на бедствия. Проклятие
произнесено было в первый раз Богом по случаю грехо
падения первых людей (Быт. 3, 17). «Проклята земля
за тебя», — сказал Бог в раю согрешившему прародите
лю. Проклятие изречено Богом Каину (Быт. 4, 11). Про
клятию подверглась земля со всеми живущими на ней,
осужденными на истребление потопом во дни Ноя (Быт.
6, 7; Быт. 7, 21—23). Закон Божий вообще изрекает про
клятие на всех нарушителей его: «Проклят всяк, кто
не исполняет постоянно всего, что написано в книге За
кона» (Втор. 27, 26; Гал. 3, 10); но «Господь Иисус Хрис
тос искупил нас от клятвы Закона, сделавшись за нас
клятвою» (Втор. 21, 23; Гал. 3, 13). Проклятие на нару
шителей закона торжественно произносилось израиль
тянами по занятии Земли обетованной с горы Гевал
(Втор. 27, 11), Иисус Навин произнес проклятие на вос
становителя Иерихона (Нав. 6, 25), Елисей — на детей
Вефильских (4 Цар. 2, 24), ап. Павел — на лжеучителей
вопреки благовествованию Христову (Гал. 1, 7—9).
ПРОКОП ПЕРЕЗИМНИК (Дорогокопатель, Дорогоруши
тель), народное название дня мч. Прокопия (22 но
яб./5 дек.), особо отмечавшийся в деревне день. Обычно
в свежевыпавший снег всей деревней ставили вехи вдоль
дорог, ездили в лес за сеном и по дрова, рядились на вывоз
ку срубленного леса, вечерами делали сани. На Прокопа со
вершались мужские братчины с общественным пивом.
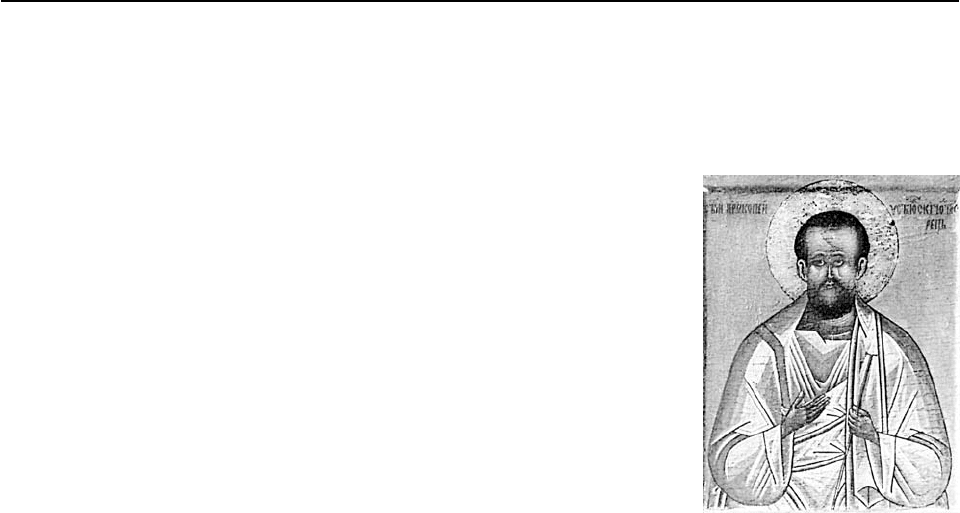
635ПРОКОПИЙ УСТЮЖСКИЙ
ПРОКОПИЙ ВЯТСКИЙ, Христа ради юродивый, бла
женный (ск. в 1628), сын вятских благочестивых крес
тьян Максима и Ирины, вымоленным ими у Бога. Когда
ему было 12 лет, он однажды, работая в поле, был так ис
пуган грозой, что потерял сознание. Пришел он в себя
тяжелобольным. Исцелил его прп. Трифон, архимандрит
Вятского монастыря. Он вернулся с родителями домой
и продолжал работать по-прежнему. Лет 17-ти он с разре
шения родителей поступил на службу к одному священ
нику в г. Слободском и работал у него 3 года. Услышав,
что родители хотят его женить, он ушел в г. Вятку и всту
пил на путь юродства Христа ради.
Жил он на улице и ночевал там, где заставала его
ночь, не входя в дом. Он всегда молчал и объяснялся зна
ками и только со своим духовником о. Иоанном Колач
никовым, говорил как разумный человек. Ходил он по
лунагим. Когда почитатели его, воевода кн. Александр
Ростовский и жена его Наталия, давали ему одежду, он
некоторое время носил ее из послушания, а потом или
бросал или отдавал нищим.
Приходя к больным, он тех, кто должен был выздо
роветь, поднимал с постели, а тем, кто должен был уме
реть, складывал на груди руки. Так поступил он с ма
леньким сыном одного священника: он положил его
на паперти и скрестил ему руки, ребенок скоро умер.
Знаками же он предсказал скорое освобождение
из тюрьмы опального воеводы Татищева и заключение
др. воеводы, кн. Жемчужникова.
Юноша Корнилий Корсаков пел на клиросе. Блажен
ный силой его втолкнул через Царские врата в алтарь: че
рез 6 лет Корнилий стал священником, а овдовев, игум.
Киприаном.
Так св. Прокопий провел 30 лет. О дне своей кончины
он был извещен свыше. Отстояв утреню в Девичьем мо
настыре, он вышел с молитвой и молился еще, стоя
на мосту. Затем перешел мост, сел на землю, отерся снегом
и дошел до городской башни. Там он лег на землю, скрес
тил руки на груди и тихо предал дух свой Богу. Мощи св.
Прокопия почивают в Успенском Трифоновом монастыре.
Память его празднуется 21 дек./3 янв. в день пре
ставления.
ПРОКОПИЙ (Титов), священномученик, архиепископ
Херсонский и Николаевский (25.12.1877–10[23].11.1937).
Родился в Томской губ. в семье священника. Окончил
Казанскую духовную академию. В том же году принял мо
нашеский постриг. В 1914 хиротонисан в епископа Ели
саветградского. В 1917 назначен настоятелем Александ
ро-Невской лавры. Был участником Поместного Собора
1917–18. В янв. 1918 при неудавшейся попытке захвата
лавры красноармейцами святитель был объявлен аресто
ванным, но по требованию верующих был освобожден.
В 1925 назначается архиепископом Херсонским
и Николаевским. Входил во временный состав Священ
ного Синода, учрежденный патр. Тихоном в 1925. С нояб.
1925 святитель епархией не управлял, т. к. был арестован
и в мае 1926 приговорен к 3 годам лагерей. Заключение
он отбывал в Соловецком лагере до нояб. 1928, а затем
находился в Тобольской ссылке.
В сент. 1928 заключенный архипастырь был смещен
митр. Сергием (Страгородским) с Херсонской кафедры, что
вызвало недовольство у многих священнослужителей епар
хии, не согласных с текстом «Декларации» 1927. Сам влады
ка, хотя и выпустил Послание, осуждавшее «Декларацию»,
но от митр. Сергия не отделялся. До авг. 1930 он состоял
в переписке с митр. Петром (Полянским). Во 2-й пол. 1930-х
владыка находился в ссылке в Узбекистане, где был расстре
лян. Канонизирован Русской Церковью в авг. 2000.
ПРОКОПИЙ УСТЮЖСКИЙ, Христа ради юродивый
(ск. 8.07.1303), до своего
обращения в Правосла
вие был купцом из За
падной Европы, торго
вавшим в Великом Нов
городе во 2-й пол.
XIII в. Красота право
славного богослужения
так поразила Прокопия,
что он перешел из като
личества в Православие
и навсегда остался
на Руси. Наставление
в основах Православ
ной веры Прокопий по
лучил в монастыре, ос
нованном в XII в. прп.
Варлаамом Хутынским.
Прокопий пожертвовал
часть своего имущества
Хутынской обители, а остальное роздал нищим. Благочес
тие св. Прокопия стало известно всем новгородцам,
и ему, тяготившемуся почитанием, пришлось оставить
Новгород. Св. Прокопий поселился в Великом Устюге.
Здесь он избрал себе подвиг юродства, изображая внеш
нее безумие и скрывая за ним духовную мудрость. Целые
ночи св. Прокопий проводил в молитве на паперти
Успенского собора, а днем бродил по городу в рваной
одежде, со смирением перенося насмешки. Своими мо
литвами святой спас Устюг от угрожавшей городу за гре
хи его жителей каменной тучи. Еще до появления святой
начал слезно молиться о спасении города, и грозная туча,
миновав Устюг, разразилась раскаленными камнями
в 20 верстах от города, над необитаемым местом, называ
емым Колотово. Об этом чуде есть записи в летописях.
Паломниками и местными жителями до наших дней по
читаются в Колотове 2 места, связанных с чудом св. Про
копия, — «ближняя туча» и «дальняя туча». На мете
«ближней тучи» устроена часовня, вокруг множество
оплавленных камней. На «дальней туче» камней немно
го, но они точь-в-точь такие же — опаленные огнем.
В округе ни одного камешка, а здесь будто кто-то высы
пал: лежат, частично перегородив ручей. Камни ноздре
ватые, оплавленные, мечтами 2–3 породы сплавлены
в куски. Другом и собеседником блж. Прокопия был св.
Киприан, основатель Устюжской обители во имя
архангела Михаила. Прокопий проводил жизнь в строгом
посте, принимая пищу только от хороших людей. От тех,
кто нажил свое имущество неправдой, он не брал ничего.
Святой обладал даром прозорливости: однажды, встре
тив семью с трехлетней девочкой Марией, он открыл ее
родителям, что от нее родится свт. Стефан Пермский,
просветитель зырян. Святому было заранее возвещено
ангелом время кончины. Он скончался у ворот Михаи
Свт. Прокопий Устюжский.
Икона. XVI в.

636 ПРОКОПИЙ УСЬЯНСКИЙ
ло-Архангельского монастыря. Возле его гробницы про
изошло множество исцелений. К лику святых блж. Про
копий был причислен Московским Собором в 1547.
Св. мощи прав. Прокопия покоятся под спудом в хра
ме его имени в г. Великий Устюг уже почти 700 лет. Оче
видцы рассказывают, что когда в годы безбожной власти
богоборцы пытались выкопать из земли св. мощи, из мо
гилы вырвался пламень, и мощи опустились еще глубже.
Память прав. Прокопию отмечается 8/21 июля.
ПРОКОПИЙ УСЬЯНСКИЙ (Устьянский), праведный
(до XVII в.). Мощи святого явились на берегу р. Усьи, неда
леко от с. Верюги в Вельском у. Волгоградской губ., ок.
1600, в гробу из ивовых лоз. Тотчас же от мощей стали пода
ваться исцеления. Вскоре после чудесного обретения мо
щей святой явился земледельцу Савелию Онтропову и велел
сделать себе новый гроб. На вопрос Савелия: «Кто ты?» —
он назвал себя Прокопием. Был местно прославлен в 1739.
В 1652 Онисимом Карамзиным был написан образ св.
Прокопия. Повсеместное почитание святого установле
но в 1818.
Память его празднуется 8/21 июля.
ПРОКОПЬЕВ ДЕНЬ, народное название двух дней в го
ду, посвященных памяти: 1) вмч. Прокопия и праведника
Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудот
ворца (8/21 июля); 2) мч. Прокопия, пострадавшего в Ке
сарии Палестинской (22 нояб./5 дек.).
Летний Прокопьев день совпадал с Казанской Летней
и назывался еще Прокоп Жнец, Прокоп Жатвенник.
С этого времени начиналась жатва.
На зимний Прокопьев день (Прокоп, Прокопий) час
то выпадал снег. Считалось, что с Прокопия устанавлива
ется хороший санный путь. Все пути заносит снегом. По
этому мужики выходили в поле, на проезжих дорогах
и на людских тропах к лесу ставили вешки и молились
мч. Прокопию Кесарийскому. В Прокопьев день устраи
вали братчины. В складчину покупали барана, варили,
жарили и угощали званых гостей.
ПРОЛОГ (XII в.), древнерусский календарный сборник,
состоящий из кратких византийских, древнерусских, юж
нославянских житий и памятей святых, отрывков из пере
водных сочинений христианских писателей и произведе
ний древнерусских авторов на темы христианской морали.
Сначала (в XII в.) Пролог являлся лишь переводом
греческого сборника кратких житий и памятей вселенских
святых, который назывался «Синаксарь» (в переводе
с греч. — «сборник»). В Византии он был составлен
в к. Х в., а поскольку в каждой епархии наряду с обще
признанными почитались еще и местные праздники
и святые, сборники с таким названием отличались друг
от друга. Так, только лишь в Константинополе отмечались
праздники обновления св. Софии (23 дек.) и положения
риз Богоматери (2 июля), почитались св. Вавила Никоди
мийский (4 сент.), Роман Сладкопевец, составитель кон
дакарей (1 окт.) и др. Но в основе своей все «Синаксари»
были рассчитаны на общецерковное употребление и но
сили свободный характер, т. е. в них были объединены жи
тия и памяти святых всех областей христианского Восто
ка: Персии, Египта, Сирии, Палестины, Рима, Армении,
Византии. Обычно в «Синаксаре» на первом месте (после
календарной даты) помещались сведения о мучениках
и их жития или только имя мученика и место его гибели
(память). День мученической смерти святого являлся днем
его почитания, вносился в древние календари (сначала они
существовали только при Евангелиях и Апостолах),
а на основе записей судебных протоколов во время суда
над первыми христианами, записок самих христиан или
очевидцев событий были сделаны исторические заметки
о мучениках. В них обозначалось место и время события,
описание страданий и кончины святого. Сказания о муче
никах, пострадавших за христианскую веру во II–III вв.
в различных областях Римской империи, составили круг
древнейших сведений «Синаксаря».
Вслед за сказаниями о мучениках в «Синаксаре» сле
довали жития или памяти святых подвижников: настоя
телей первых христианских монастырей и известных
прп. Отцов (Антоний Великий, Савва Освященный, Иоанн
Синайский, Герасим Иорданский и др.). В «Синаксаре»
отмечены лица, прославившиеся устройством религиоз
ной и гражданской жизни, напр.: имп. Константин, пат
риарх Константинопольский Прокл, епископ Мирли
кийский Дионисий и мн. др. Здесь же встречаются жития
отдельных учителей Церкви: Феодорита Киррского,
Иоанна Златоуста, Василия Великого, Ефрема Сирина;
жития различных чудотворцев, столпников, исповедни
ков, юродивых — лиц, так или иначе прославившихся
своими деяниями за христианскую веру. В «Синаксарь»
заносились и некоторые церковно-исторические собы
тия (землетрясения, перенесение мощей святых из одной
местности в другую, нашествия иноверных и др.).
Такой «Синаксарь» был переведен на церковносла
вянский язык как необходимое пособие для церковной
службы (жития святых читались на утренней службе
в церкви) и душеполезного чтения в монастырском быту
(I часть). Однако в рукописной традиции Древней Руси
и у южных славян (в Болгарии, Сербии) византийский
«Синаксарь» назывался Прологом: «Прологы списа
12 месяць (т. е. 2 книги за мартовское и сентябрьское по
лугодия) изложено житиа святых отець и деаниа святых
мученикь». Считается, что свое название этот памятник
письменности получил по ошибке, т. к. славянский пере
водчик принял название предисловия — «пролог» за на
звание всей книги. Согласно др. версии, на христиан
ском Востоке «прологом» считалось вступительное к бо
гослужению чтение. Славянский Пролог отличался
от греческого «Синаксаря» не только названием,
но и тем, что к имеющимся греко-римским житиям и па
мятям были добавлены древнерусские и южнославян
ские жития и памяти святых. Это построенные по образ
цу синаксарных следующие сказания и памяти: Успение
кн. Ольги (11 июля), Житие князей-мучеников Бориса
и Глеба, убитых сводным братом Святополком (24 июля),
Успение Феодосия Печерского, основателя Киево-Пе
черского монастыря (3 мая), Житие кн. Владимира, крес
тившего Русь (15 июля), Память Кирилла, просветителя
славян (14 февр.). По тому же синаксарному образцу
в Пролог были внесены некоторые события церковной
жизни Древней Руси, такие, как освящение церкви св.
Георгия в Киеве (26 нояб.), перенесение мощей Феодо
сия Печерского (31 мая) и др.
По мнению исследователей, перевод греческого «Си
наксаря» и пополнение его древнерусскими житиями
были выполнены на Руси, откуда в к. XII в. Пролог пере

637ПРОМЫСЛ БОЖИЙ В НАРОДНОМ СОЗНАНИИ
шел на Балканы и там впоследствии пополнился южно
славянскими житиями и памятями святых. Тот факт, что
и древнерусские и южнославянские жития и памяти свя
тых сохранились и в древнерусских, и в южнославянских
рукописях Прологов, ученые объясняют тем фактом, что
болгарская и сербская Церковь признавала русских свя
тых так же, как Русь признавала южнославянских и даже
чешских (Житие кн. Вячеслава и матери его Людмилы).
В древнерусском Прологе после житий и памятей
святых на каждый день года (в отличие от греческого
«Синаксаря» и южнославянского Пролога) были поме
щены одно или два «поучения» или «слова», которые со
ставлялись древнерусскими книжниками специально
для сборника. Для этого извлекались отрывки из пере
водной житийно-повествовательной литературы, обра
батывались (сокращались, перефразировались), а затем
книжники доводили их до нужного объема. Иногда со
ставлялись и собственные произведения на мораль
но-этические темы. Сюжетные рассказы из патериков,
из византийского Жития Андрея Юродивого или из По
вести о Варлааме и Иоасафе чередуются в Прологе с раз
личного рода теоретическими увещеваниями. Это предо
стережения о том, как избежать различных пороков
(лжи, злословия, пьянства, осуждения), и наставления
для достижения необходимых христианских добродете
лей с помощью молитвы, поста, милостыни, смирения
перед Богом. В Прологе помещено большое количество
таких произведений, как анонимных, так и надписанных
именами Иоанна Златоуста, Василия Великого, Феодора
Студийского. Чтение этой, учительной части Пролога
было предназначено, по-видимому, для чтений во время
монастырской трапезы. В данном случае необходимо бы
ло «легкое» и в то же время «полезное» чтение, которое
не отвлекало бы монахов на «пустые» разговоры.
С XIV в. становится известна др. разновидность Про
лога — стишная. Она была переведена на Балканах,
но получила меньшую популярность в Древней Руси.
В отличие от нестишного Пролога, сказания о святых
здесь предваряются ямбическими стихами (похвалой).
Обе разновидности Пролога были положены в основу
печатных изданий 1641.
Изд.: Литературный сборник XVIII в. Пролог. М., 1978.
Лит.: Петров Н. И. О происхождении и составе славяно-рус
ского печатного Пролога (Иноземные источники). Киев, 1876;
Сергий. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. Восточная агиология.
Владимир, 1901; Сперанский М. Н. К истории взаимоотношений
русской и южнославянских литератур // Сперанский М. Н. Из ис
тории русско-славянский литературных связей.; М., 1960; Мо
шин В. Периодизация русско-южнославянских культурных связей
Х–XV вв. / Труды отд. Древнерусской литературы. Т. 19. 1963.
Ист.: Литература Древней Руси. Биобиблиографический
словарь. М., 1996. С. 170—172. С. Давыдова
ПРОМЫСЛ БОЖИЙ, божественная деятельность миро
вой жизни, сохраняющая мир и направляющая его
к предназначенной ему цели бытия; непрестанное дейст
вие всемогущества, премудрости и благости Божией, ко
торым Господь сохраняет бытие и силы тварей, направ
ляет их к благим целям, вспомоществует всякому добру,
а возникающее чрез удаление от добра зло пресекает и об
ращает к добрым последствиям. Христианство указывает
еще на бесконечную любовь Божию в обновлении чело
вечества искуплением и возвещении его к высшему нрав
ственному совершенству. Христианское учение о Про
мысле подробно раскрыто в Священном Писании и Священ
ном Предании. Богословие содержит в себе возражение
против пантеистов, материалистов, деистов, лейбницевой
теории предустановленной гармонии, обычных житей
ских указаний на существование в мире зла, на господст
во порока, на злодейства отдельных лиц, на страдания
невинных, на физические бедствия, разрушающие нор
мальный строй природы и т. д. На христианском учении
о Промысле основываются все те отношения, которые
называются религиозными.
ПРОМЫСЛ БОЖИЙ В НАРОДНОМ СОЗНАНИИ со
ответствовал богословскому понятию и тесно был связан
с преданием себя воле Божией.
Для непредвзятых наблюдателей казалась очевидной
твердость преобладавших в массе народных представле
ний о промыслительности происходящего в мире. В Мате
риалах для географии и статистики России, включавших
и характеристику нравственности, собранных офицерами
Генерального штаба, находим такое заключение подпол
ковника В. Михайлевича, обобщившего данные по Воро
нежской губ.: «Простой класс народа особенно отличается
твердою и непоколебимою верою в Промысл Божий».
«На всё воля Божия», «Твори (суди) Бог волю свою»,
«Божьей воли не переволишь (не переможешь)», «Выше
Божьей воли не будешь (не станешь)», «Власть Господня,
воля Божья, святая воля Его», «На волю Божью просьбы
не подашь» — все эти словесные формулы, широко быто
вавшие в народе, соответствовали самой сути православ
ного религиозного сознания.
Последовательный православный взгляд в народе
на значение воли Божией в жизни людей нередко встре
чал в XIX в. непонимание чиновников, занимавшихся
в той или иной мере деревней, а также части дворянской
и разночинной интеллигенции, стремившейся предло
жить какие-то новшества и усовершенствования в сельс
кой жизни, либо собиравшей статистическую информа
цию о сельском хозяйстве. Будучи маловерами, почти
отошедшими от Церкви, а в иных случаях уже и атеиста
ми, они воспринимали крестьянское упование на волю
Божию как некое препятствие к активной деятельности.
Между тем крестьяне в массе своей были очень вни
мательны, ответственны, старательны и трудолюбивы
в хозяйственной деятельности и, опираясь на длитель
ный коллективный опыт, располагали прекрасным зна
нием особенностей земледелия, скотоводства, промыс
лов именно в той местности, где они жили. Не понимая
значения трудовых традиций, приемы которых учитыва
ли тончайшие связи природных явлений и хозяйствен
ной практики не только что района, но и микросреды,
иные внешние наблюдатели, уверовавшие в новшества,
почерпнутые из литературы, иногда даже других стран,
относили специфику крестьянского подхода к лености
и пассивности. И тем более недоступно было пониманию
таких энтузиастов перемен главное — то, что верующему,
уповающему на волю Божию, Господь открывает многое
в любой области деятельности. Сделав с молитвою все
необходимое, что диктовал ему богатый опыт предков
и собственные обширные эмпирические знания, крес
тьянин в то же время смиренно, безропотно принимал

638 ПРОМЫСЛ БОЖИЙ В НАРОДНОМ СОЗНАНИИ
неожиданные стихийные бедствия, как происшедшие
по воле Божией. Когда он объяснял все это заезжему об
разованному горожанину, то встречал нередко раздра
женно поучающую реакцию, либо просто молчаливое
непонимание, которое выливалось потом в осуждение
в соответствующих отчетах или статьях.
В XVIII в. еще были такие администраторы, которые
вступали в дискуссию с крестьянами на языке веры, стре
мясь выявить соотношение человеческой деятельности
и Божьей воли. Такие могли и научить чему-то полезно
му. В 1786 генерал-губернатор Е. П. Кашкин в указе, на
правленном в Енисейский нижний земский суд, возра
жал по поводу падежа скота крестьянам, относившим
«все сии несчастные случаи на власть Божию и оговари
ваясь во всех делах упустительного своего небрежения,
яко бы на то была неминуемая воля Божия, между тем
как следовало бы знать, что хотя власть Божия есть и бу
дет над всем, что ни есть на свете, но человек одарен
от Бога понятием и разумением к отличению, что ему
вредно и что полезно, и свободен предпринимать то или
другое; следовательно, каждый разумевающий, что наи
лучшее, и то не исполняющий, твори грех перед Богом,
не употребляя полученные дарования ни себе, ни друго
му на пользу, — в чем состоит первейший и главнейший
долг истинного христианина». И хотя Е. П. Кашкин тоже
раздражен и несправедливо представляет позицию крес
тьян (ибо они-то, как правило, стремились выполнять
то, что «разумевали как наилучшее»), все же он говорит
«по существу» на общем с ними религиозном языке, из
лагая мысль только более развернуто и богословски об
основанно, чем они это делали. В XIX в., особенно во 2-й
половине его, подобная аргументация казалась уже лиш
ней и даже невозможной (за редким исключением)
в официальной переписке, да и при непосредственном
общении: рационалистическое мышление определяло
по большей части характер разговора интеллигента
с крестьянином и делало первого глухим и к естествен
ным для верующего мыслям о воле Божией.
«Несмотря на очевидную бедность, я не слышал ни
когда, чтобы отец или мать жаловались на свою судьбу», —
пишет И. Я. Столяров о своих родителях — крестьянах Во
ронежской губ. Если кто-нибудь из детей «выражал иногда
сожаление о тех или иных недостатках в нашей жизни <…>,
мать говорила: «Нечего Бога гневить. Многие хуже наше
го живут. Мы же, слава Богу, с голоду не умираем и живем
не милостыней, у чужих людей хлеба не просим, живем
с Божьей помощью уж не так плохо». И этот взгляд Столя
ров относит не только к своей семье. «Нужно сказать, —
пишет он далее, — что у крестьян нашей местности вооб
ще не было привычки жаловаться на жизнь, какой бы она
ни была, и не было чувства зависти к более богатым, жи
вущим лучше других, богатство и бедность принимались
как дар или наказание, ниспосланные Богом. На Бога же
жаловаться нельзя. Бог волен наградить милостью Cвоей
или наказать гневом Cвоим. Его пути неисповедимы. Он
может послать тяжкие испытания и праведнику и обога
тить, осчастливить недостойного».
Смиренное предание себя воле Божией проявлялось
в народе в том, как относились к смерти своей и других.
«Со дня на день слабеет больной; родные и чужие, прихо
дящие проведать, говорят ему открыто, попросту: «Видно
уж ты не встанешь: знать уж тебе помереть, родимый», —
и больной спокойно выслушивает приговор этот. Более
всего торопятся вовремя пригласить священника испове
дать и приобщить больного Св. Таин, заботясь о душе го
раздо больше, нежели о здоровье или жизни».
Не всегда посетители больного в крестьянской среде
вели себя таким образом. По Вельскому у. Вологодской
губ. (Устьподюжский приход) описан иной вариант пове
дения. Здесь обычно старались тяжелобольного уверить
в возможности выздоровления. «Жить еще тебе надо».
Говорили, как нужен он семье, или указывали на возраст
и т. п. На что сам больной отвечал, что «смертонька уж
близко», придется скоро «расстаться с душенькой»
и пр. Существо же отношения и самого больного, и окру
жающих было таким же: если Господь определил этот
срок, то не о чем тужить и нечего печалиться, а нужно
подготовиться к переходу в другой мир. «Умирающий
всегда обнаруживает твердую веру в загробную жизнь,
выражая перед присутствующими радость по поводу
предстоящей встречи с родными. Представление о нака
зании за грехи вызывает в больном страх. В этом случае
окружающие стараются вселить в умирающего надежду,
говоря о благости Божией, очищающем значении пред
стоящей исповеди и т. д. На исповедь больной соглашает
ся охотно и после нее чувствует себя легче».
Крестьяне различали предание себя воле Божией —
к этому имел отношение каждый верующий — и преда
ние себя на служение Богу, осуществлявшееся лишь не
многими, но ценимое почти всеми. А. К. Аристархов пи
сал из Фетиньинской вол. Вологодского у. в к. XIX в.:
странников и сборщиков на святые места «почти все пус
кают ночевать и оказывают им более чем хороший при
ем. Крестьяне почитают dихf чуть не святыми за то, dчтоf
те бросили поле житейской суеты и предали всецело себя
на служение Богу. Часто беседы умных странников про
изводят в душе крестьян переворот большой к нравствен
ной жизни и разумному пользованию своими имущест
вами, трудами и временем».
При всем «практическом складе ума», отмечавшемся
у крестьян в светской литературе, они на самом деле высо
ко ценили в человеке способность бросить мирские забо
ты ради служения Богу. Это проявлялось не только
в странноприимстве, но и в оказании помощи ушедшим
от мира старцам и обращении к ним. Различение преда
ния себя воле Божией и полного отдания себя на служение
Богу составляло черту массового религиозного сознания.
Первое можно осуществлять при любых мирских заняти
ях (кроме заведомо порочных, противоречащих запове
дям): для этого нужно помнить о Боге, о всемогуществе
воли Его, стараться не противоречить ей и со смирением
принимать то, что Бог посылает — и горести, и радости.
Не каждый умел объяснить это развернуто в общей
форме и тем более увидеть связь повседневных событий
с определенной направленностью воли Божией, увидеть
промыслительность происходящего. Нередко в практике
народной духовной жизни толкователями глубинного
смысла обыденных событий становились Христа ради
юродивые. Казенный крестьянин Черниговской губ.
Г. А. Мирошников, прозванный Золотым Грицем, объяс
нял, например, разорившемуся купцу, желая удержать его
от ропота и предостеречь от отчаяния, что все, с нами

639ПРОПОВЕДЬ
случающееся, бывает по соизволению Божию, таким об
разом: «ну, подавай жалобу на Бога, а когда видишь сам,
что это невозможно, лучше молись Ему почаще и поусер
днее. Он не оставит тебя и даст тебе утешение в детях».
Или вот поучения молодым суздальской блаженной
М. Я. Сониной, насчитывающей 60 лет юродства Хрис
та-ради: «Всё терпите, не гневите Бога ропотом, от тру
дов рук своих питайтесь и уповайте на Бога».
Такова глубина народных понятий о воле Божией
и о необходимости смиренного принятия ее. М. Громыко
ПРОНСКАЯ СПАССКАЯ мужская пустынь, Рязанская губ.
Находилась на берегу р. Прони возле г. Пронска. Извест
на с XVII в. Перед 1917 в пустыни было 2 храма: в честь
Преображения Господня и во имя Трех Святителей.
В обители хранилась чудотворная икона Богоматери
«Споручница грешных», список с московской чудотворной
иконы. В храмовый праздник — 6 авг. — устраивался крест
ный ход из г. Пронска в Спасскую пустынь при многочис
ленном стечении богомольцев. После 1917 пустынь утраче
на, чудотворная икона Божией Матери «Споручница греш
ных» пребывает в церкви с. Срезнево Шиловского р-на.
ПРООБРАЗ, один из видов таинственного смысла в Свя
щенном Писании. Прообраз — предъизображение в лицах,
событиях и в священных вещах и действиях Ветхого За
вета того, что в Новом Завете относится к лицу Иисуса
Христа и к основанной Им Церкви. При этом изобража
емые в данном месте Священного Писания предметы
имеют, с одной стороны, смысл и значение современ
но-исторические по буквальному их значению, а с дру
гой — смысл и значение пророческие о будущем по их
прообразовательно-таинственному значению. Т. о., в од
ном месте Писания являются 2 смысла, и на это указыва
ет само Священное Писание. Ап. Павел в послании
к Евреям рассматривает порядок устройства ветхозавет
ной Церкви как «сень грядущих благ». Признание такого
смысла Церковью выражается в церковных песнях,
напр., в догматах. Святые отцы-толковники находили
прообразовательный смысл в Священном Писании Вет
хого Завета: так, в сказании об Исааке они видят прооб
раз Иисуса Христа и Его Церкви; в злостраданиях Иоси
фа и в последовавшей затем славе его они видят подобие
спасительных страданий Иисуса Христа; кровь пасхаль
ного агнца была прообразом искупительной Крови Мес
сии Спасителя; лестница, виденная патр. Иаковом, про
образовала таинство снисхождения Сына Божия на зем
лю, чрез воплощение от Девы Марии.
ПРОПОВЕДЬ, христианское церковное наставление,
преподаваемое в храме за литургией, с целью поведать
и разъяснить слушающим учение Иисуса Христа. Учение
о проповеди составляет предмет гомилетики. Церковное
учение о проповеди, опираясь на слово Самого Иисуса
Христа и апостолов видит в литургийной проповеди фун
кцию благодатной жизни Церкви, главную продуктив
ную силу проповеди — в благодати, даруемой в таинстве
священства. Если в Церкви невидимо присутствует Сам
Глава ее, Иисус Христос, и обетованный Им Дух Святой,
то нельзя допустить, чтобы без руководства вспомощест
вующей благодати Божией могло обойтись дело церков
ной проповеди; поэтому Церковь в своих канонах усвояет
право литургийной проповеди только лицам, имеющим
благодать священства, и притом только епископам и пре
свитерам, и при поставлении во священники в посвяти
тельной молитве испрашивает у Бога посвящаемому
«благодати» учительства. Древняя Церковь принимала
в свои недра языческих ораторов и риторов по профес
сии не иначе как по оставлении ими своей ораторской
профессии. От своих проповедников древняя Церковь
также никогда не требовала предварительного изучения
языческого искусства красноречия — т. о., античное ора
торское искусство было совершенно независимо от Цер
кви и было случайным у некоторых Отцов Церкви. Неко
торые сектанты-мистики и русские хлысты полагают, что
проповедь может быть продукцией только «непосредст
венного вдохновения» от Святого Духа, даруемого, по силе
веры, только каждому верующему. По мнению пиетистов,
проповедь возможна для каждой личности, «возрожден
ной и благодатствованной» в таинствах, каковы и миря
не. Православная Церковь учит о необходимости для
проповеди особой благодати — благодати таинства свя
щенства; при этом Церковь не отрицает пользы и необ
ходимости естественных дарований разума и слова.
В Книге Деяний и в Послании к Коринфянам указаны
3 прототипа проповеди: глоссолалия, профития и дидас
калия, различие между которыми обусловливается степе
нью присутствия в проповеднике Духа Божия. Глоссола
лия апостольских времен, первоначальная по времени
форма проповеди, названа так по временной ее особен
ности — благодатному дару говорить на языке, дотоле не
ведомом говорящему; она характерна состоянием экстаза;
под наитием преизбыточествующей благодати, при со
зерцании благ и величия истин христианства, проповед
ник становится вне себя «аще в теле, аще вне тела,
не вем», говорил о себе ап. Павел; речь его становилась
нестройной и восторженной. Профития была пророчест
вом в том смысле, в каком это служение в Церкви вооб
ще определяется в богословии. Она более спокойно и со
знательно произносилась, проповедник говорил стройно
и общепонятно, не утрачивая самообладания. Дидаска
лия — вид учительства рефлективного, произносилась
под управлением разума и действовала не только на чув
ства, но и на ум, содержа в себе рассуждения и доказа
тельства. Уже при апостолах преобладала дидаскалия,
которая взяла верх по мере того, как общество освоилось
с новым учением, восприняв его не только чувством,
но логической рефлексией. Проповедь миссионерская
обычно поручается священникам или иеромонахам. Сле
дует отличать проповедь внебогослужебную, или т. н.
внебогослужебные собеседования, которые священник
ведет в силу своей богословской компетенции, хотя от
лица и во имя Церкви, но проповедь его не часть бого
служения, а частное личное отправление им своей пас
тырской обязанности. Иногда в виде исключения из об
щего правила дозволяется, по особенному разрешению
местного епископа, под его непосредственным и бли
жайшим надзором и руководством, сказывание проповеди
мирянам, выдающимся проповедническими дарования
ми и готовящимся к священному сану. В III в. местный
епископ позволил проповедовать мирянину Оригену ра
ди его великих дарований. В России митрополит Мос
ковский поручал объяснение Катехизиса на литургии
юноше-студенту Левшину (впоследствии — митрополит
Московский Платон); его преемник — студенту Дроздо
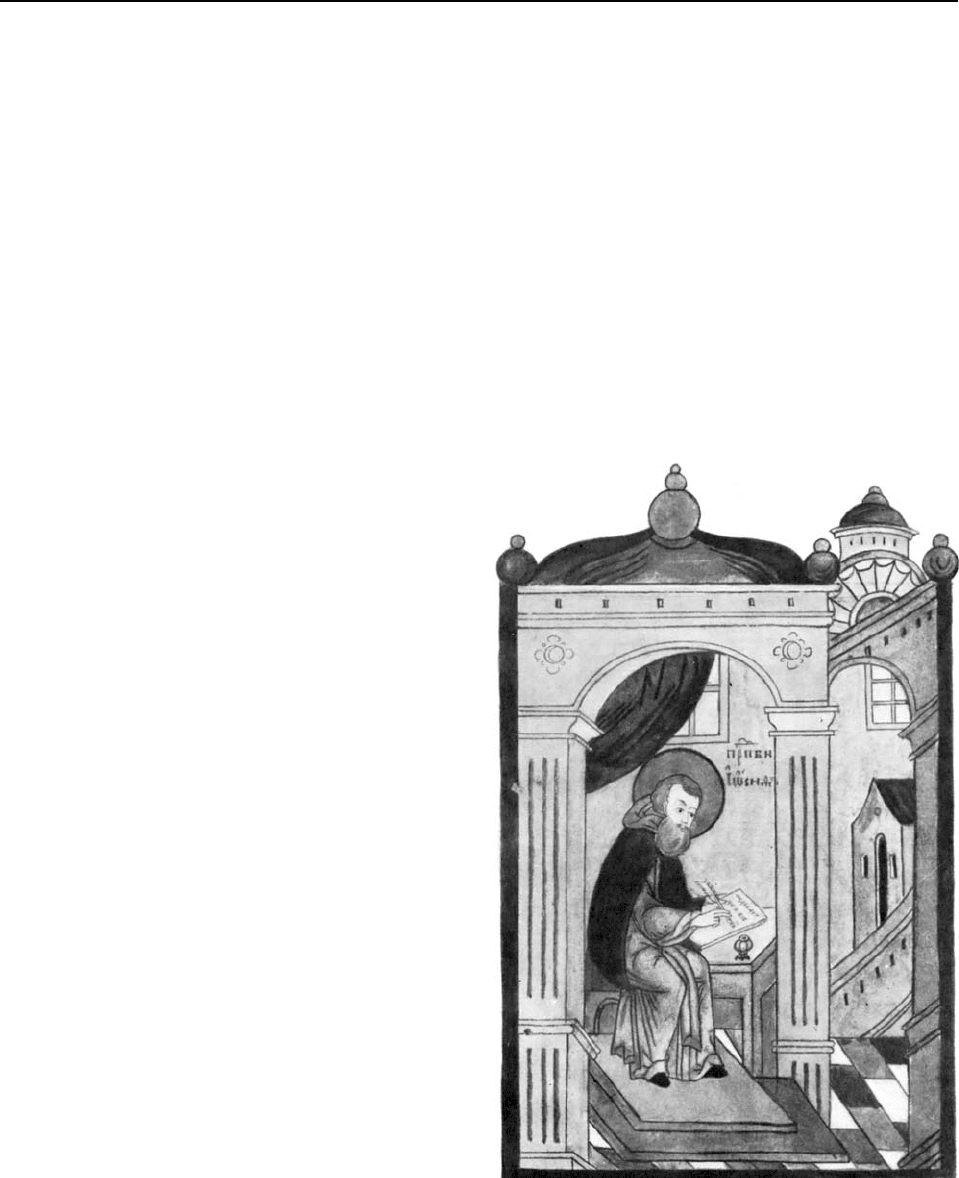
640 ПРОРОК
ву (впоследствии — митрополит Московский Филарет).
Основанием для таких исключений и для существовав
шего в русских Духовных академиях и семинариях обы
чая поручать ученикам старших классов, для того посвя
щенным в стихарь, служит обычай древней Церкви уп
ражнять готовящихся к пастырскому служению в состав
лении и произношении проповеди.
ПРОРОК, провозвестник воли Божией. Библейские
пророки предсказывали будущее, воспитывали в народе
веру и благочестие, совершали чудеса, составляли книги
Священного Писания, приготовляли людей к пришест
вию Спасителя.
ПРОРОКО-ИЛЬИНСКАЯ пустынь. Женский монас
тырь, Пермская епархия. Находится в с. Колпашники.
Основан в 1997.
ПРОРОКО-ИЛЬИНСКИЙ мужской монастырь, вг.Уфе.
Основан в 1860. Возобновлен в 1990. Храм — в честь св.
прор. Илии. Недалеко от монастыря находится св. источ
ник. Имеет 2 подворья и 1 скит. В монастыре — ковчег
с частицами мощей 70 святых.
ПРОРОЧИЦКИЙ монастырь, Вятская губ., Яранский у.
Основан епископом Вятским Алексием в 1898 на средст
ва благочестивой яранской вдовы Анны Беляевой. В мо
настыре была 1 церковь во имя свв. Анны Пророчицы
и Симеона Богоприимца с приделом в честь Василия Бла
женного. Все монастырские строения были обнесены
оградой с башнями по углам. При монастыре были
2-классная церковно-приходская школа, хорошая биб
лиотека духовных книг, иконописная мастерская.
«ПРОСВЕТИТЕЛЬ», выдающееся произведение право
славной мысли, созданное св. Иосифом Волоцким с целью
борьбы с антихристианской сектой жидовствующих.
Книга состоит из 16 слов. В первом слове Иосиф Волоц
кий занимается опровержением еретиков, «глаголющих,
яко Бог Отец Вседержитель не имать Сына ни Святаго
Духа единосущны и сопрестольны Себе и яко несть Свя
тыя Троица». Во втором слове Иосиф опровергает ерети
ков, «глаголющих, яко Христос не родился есть, но еще
будет время, егда имать родитися, а его же глаголют хрис
тиане Христа Бога, той простой человек есть, не Бог».
Третье слово подвергает критике то мнение еретиков,
по которому «закон Моисеев подобает держати и храни
ти и жертвы жрети и обрезыватися». В четвертом слове
доказывается несновательность мнения, исходя из кото
рого еретики говорили: «Еда не можаше Бог спасти Ада
ма и сущих с ним, еда не имеаше небесные силы, и Про
роки, праведникы, еже послати исполнити хотение свое,
но сам сниде, яко нестяжатель и нищ, и вочеловечився,
и пострада, и сим прехитри диавола, не подобает убо Бо
гу тако творити». В восьмом слове Иосиф защищает ис
тинность отеческих писаний против ереси новгородских
еретиков, утверждавших ложность писаний св. Отцов
на основании того, что 7000 лет от сотворения мира про
шло, а Христос во второй раз не явился. В девятом — за
щищает писания апостольские, подтверждая их истин
ность местами из Священного Писания, доказывая, что
они внушены Святым Духом. В десятом — защищает
от нападок еретиков писания Ефрема Сирина, в которых
говорится, что творения его ложны. Здесь же приводятся
доказательства из Священного Писания, что творения
св. Ефрема истинны и соответствуют тому, что говорили
пророки, евангелисты и апостолы. В двенадцатом слове
Иосиф доказывает, что если святитель будет еретиком,
если он не благословит или проклянет кого от православ
ных, то его проклятие ни во что не вменится. Свои опро
вержения еретиков Иосиф основывает на Священном
Писании, преимущественно Ветхом Завете, Отцах Церк
ви, историках Церкви и даже светских писателях. В сло
вах его виден ум светлый, последовательность, логич
ность изложения. Четвертое слово особенно отличается
глубиной мысли, и специалисты справедливо называют
его глубоко богословским сочинением.
Иосиф Волоцкий не щадит красок для описания жи
довствующих. Еретики для него — сквернии пси, змии,
таящиеся в скважине, языки их скверны, уста мерзки
и гнилы, они — люди нечистые, пьяницы и обжоры, в об
ществе они сеют сласти житейские, тщеславие, страсть
к сребролюбию, сластолюбию и неправду. В частности,
Схарию Иосиф Волоцкий называет диаволовым сосу
дом, протопопа Алексея — окаянным сатаниным сосу
дом, диаволовым вепрем, еретика Истому — стаинником
диавола, адовым псом. Но особенно обличает Иосиф Во
лоцкий митр. Зосиму. Он называет его окаянным, сквер
Иосиф Волоцкий. Миниатюра из лицевого списка
«Просветителя». XVII в.
