Баткин Л.М.Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления
Подождите немного. Документ загружается.


200
■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)
Правая рука тянется, было, к головке Христа, но повисает в воздухе потому, что
ее вдруг захватила встреча с держащей розу правой рукой младенца. Однона-
правленные кисти матери и сына гораздо ближе и важней друг для друга, чем
каждая из них – для своего лица (и даже правые руки играют музыкальную
тему в полный унисон, обе на четыре пальца). Если правая рука Христа, увле-
ченная цветком, вовсе забрела в сторону, то левая его кисть, резко выделенная
красным браслетом, почиет на глобусе. Аккорд левых рук не менее внятен, чем
у правых, притом левая кисть Мадонны отъединена от ее тела струящейся, бес-
плотной фактурой платья, и рукав, в свой черед, искусно отделяет голову ре-
бенка от предоставленного самому себе тела. Так что мы вынуждены рассма-
тривать все порознь и поочередно: и это пухлое тело, и эту курчавую голову, и
левые руки, и правые руки, и лицо Мадонны.
В картине Бронзино (Лондонская Национальная галерея), изображающей,
очевидно, Венеру и Купидона (и написанной, кстати, чуть не в один год с тракта-
том Фиренцуолы), тоже изысканно и чувственно экспонируются греческий про-
филь, ноги, руки, живот прекрасной женщины, ее груди, акцентированные дви-
жением руки Купидона, ее прическа, вложенная, как на подставку, в другую его
руку. Тело же самого Купидона замысловато разъято посредством плеча Ве-
неры таким образом, что нам приходится самим сопоставлять, соединять голову
и остальное, причем ягодицы неожиданно предъявляют особо энергичные при-
тязания на суверенность и значимость...
Что за фантастические композиции!
В „Одиссее и Пенелопе" Приматиччо Одиссей из плоти и крови, а Пенелопа
из мрамора, лишь начинающего розоветь и оживать, и Одиссей прикоснове-
нием руки приставляет ей голову. Это Пенелопа – или Галатея?.. Напротив,
там, где прекрасной статуе место – в „Пигмалионе и Галатее" Бронзино, – об
античности пластически напоминает только барельеф жертвенника, сама же Га-
латея костлява, непропорциональна и ничем не похожа на скульптуру, да еще
классическую (см. ил. 47 и 50).
Бунт против классицистичности, так или иначе, очевиден. Но невозможно
понять его вслед за некоторыми искусствоведами, начиная с Фридлендера, как
неоготику, как аристократически-придворный возврат к Средневековью
18
.
(Хотя, конечно, поводы для формальных параллелей, как и для параллелей ме-
жду готикой и барокко, всегда находятся.) Во-первых, это, как уже было отме-
чено, метаморфозы изнутри классического стиля, опыт которого подвергнут пе-
ресмотру, рекомбинации, разрушению, но ничуть не забыт. Во-вторых,
„готические" и (куда более!) классические мотивы используются технологиче-
ски, поэлементно, в принципиально новых целях, не ренессансных, но, уж ко-
нечно, и не средневековых. Отход от натуральности остро чувствуется в манье-
ризме потому, что критерий восприятия остается тем же, „натуральным" (само
собой, не в современном смысле слова, а в смысле XVI века). Ведь никому не
приходит в голову считать „неприродной" иконопись, там – в сфере сверхпри-
родного и символического – такой критерий попросту немыслим.
Полуотказ от „натурального", отказ скорее вообще, чем в подробностях (от-
сюда часто напрашивающиеся, но, разумеется, всего лишь метафорические ана-
логии с сюрреализмом), откровенно эгоцентрическая творческая воля автора,
демонстративно нарушающего принятые Возрождением правила (которые он
превосходно знает, с которыми на свой лад считается и любит это где-нибудь
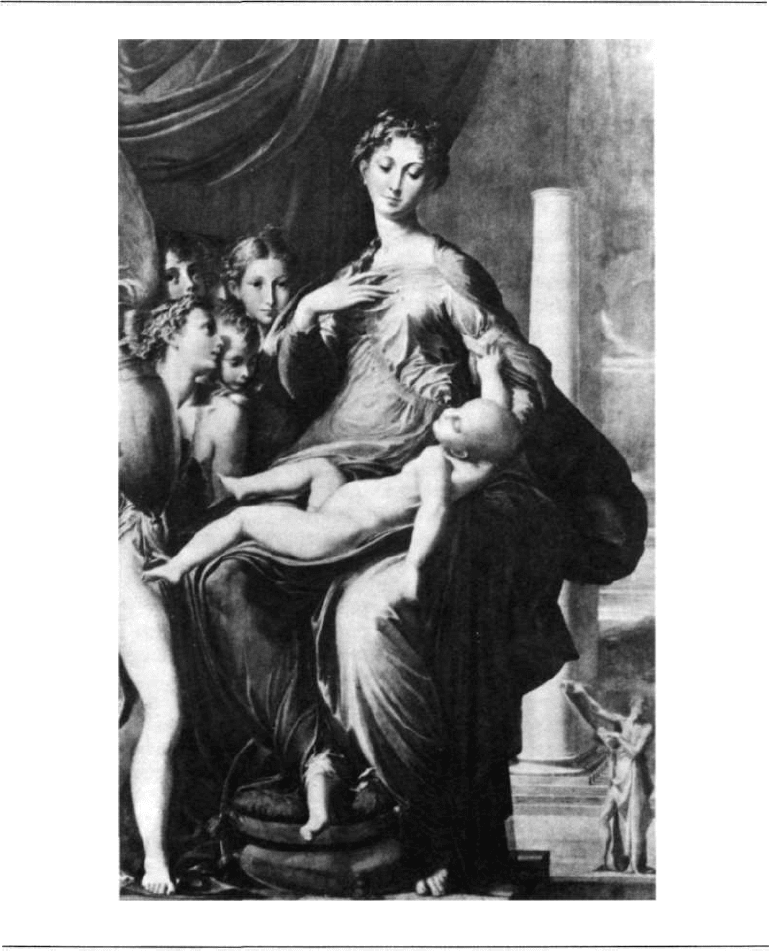
Фиренцуола и маньеризм. Кризис ренессансного идеала ■
201
54. Пармиджанино. Мадонна с длинной шеей. Ок. 1535
тут же рядом показать), – все это не в последнюю очередь выражалось в сочи-
ненности человеческой фигуры как целого, при вызывающей экспрессии ее чле-
нов. Не вправе ли мы увидеть в этом своего рода живописный эквивалент иро-
нии? – той самой, которая сопровождает рассуждения Чельсо о „химере".
Конечно, не всегда ироничность маньеристов была такой очевидной и дерз-
кой, как в помянутых „мини-портретах" четырех кистей из „Мадонны с розой",
или бедра ангела, или шеи и пальцев в „Мадонне с длинной шеей", или этих
вовсе ошеломляющих ягодиц Купидона у Бронзино. Но маньеристы основы-

202
■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)
вали эффект многих своих работ на том, чтобы артикулировать, расчленить че-
ловеческое тело, настойчиво преувеличить в пальцах, что ли, пальцевость, в
шее – шеистость и т.п., а затем все смонтировать заново, в „искусственных", воз-
бужденных поворотах, пересечениях, сочетаниях. Они охотно придавали персо-
нажу нечто манекенное – и тем напряженней старались его оживить, восстано-
вить в нем динамизм и спонтанность. Получалось удивительное совмещение
декоративности и неподдельной тревоги, рассудочности и – подчас могучей! –
иррациональности.
Уже около 1518 года Понтормо в „Сценах из жизни Иосифа Прекрасного"
проделал это не просто с отдельными фигурами, но с пространством, снабдив
его не тремя, а n-измерениями. То, что сцена, происходящая сзади, в нише, на-
рисована над передним планом, то, что разновременные события синхронизо-
ваны, еще не дает никаких оснований считать картину Понтормо, как пишет
Фредерик Антал, „точным соответствием средневековой пространственной
композиции"
19
. Понтормо оперировал пластически выявленными объемами, он
имел дело с прямой перспективой, с ренессансной посюсторонностью, словом,
именно с пространством, а не со средневековой символической внепространст-
венностью. Действие у него разворачивается „физически", а не пред очами ду-
ховными (см. ил. 52).
Однако классическое пространство стало предметом эксперимента. Оно
было аналитически разложено – и как бы собрано „неправильно"
20
.
Говоря конкретней, суть, прежде всего, в трактовке двух ведут. Известно,
что и в ренессансной картине оптической правильности не было; перспектива
обнаруживала дискретность на границе переднего и заднего планов, которая
служила не только пространственной, но и временной, а также предметной и
смысловой границей. Однако в ренессансной композиции такая дискретность
или оправдывалась взглядом на второй план вниз, с высоты птичьего полета, та-
инственным обрывом в нескончаемую глубину панорамы, как, скажем, в „Моне
Лизе"; или искусно скрадывалась уже в пределах передней выгородки, как, ска-
жем, в „Св. Себастьяне" Антонелло да Мессины. Зрительная и смысловая про-
блемность соотношения ведут – ни в коем случае не отменяясь, напротив, соста-
вляя главный конструктивный момент ренессансного мировосприятия, –
однако тщательно гармонизовалась. Мир был объемным, пространственным, но
пространство было явлено какой-то глубочайшей, божественной тайной мира.
Маньеристы вытаскивают тайну наружу, оголяют – и, оголенную, напряжен-
ную, невероятную, так и бросают перед зрителем, не проявляя ни малейшего
намерения как-то ее решить, что-то с ней делать.
В упомянутой фантазии Понтормо левый отсек изображения сам по себе по-
строен „правильно": с двумя, как положено, перспективными ведутами, с энер-
гичным движением фигур по диагонали справа налево, с акцентированной вер-
тикалью – статуей на высокой колонне. Правый отсек тоже сам по себе
„правилен", пусть и выглядит весьма странно: сцены размещены в двух ярусах,
вертикальная ось, обозначенная колонной поменьше и потоньше, со статуей
путти – почему-то сдвинута вбок и не дотягивается до сцены в нише, зато про-
должена коленопреклоненной фигурой Иосифа. Впрочем, эти два отсека, ле-
вый и правый, вполне составляли бы – по крайней мере оптически – некое
одно и „обычное" пространство, если бы... если бы взгляд мог двигаться только
по низу изображения, не замечая лестницы ...

Фиренцуола и маньеризм. Кризис ренессансного идеала ■
203
Все дело, однако, именно в этой лестнице, сразу приковывающей наше вни-
мание механистически-мерным ритмом ступеней, неуклонным восхождением
по ней фигуры – в Никуда.
Лестница – из другой, неэвклидовой геометрии.
Она и разрушает горизонтальное единство переднего плана, и – ввинчиваясь
в небо еще одной статуей на еще одном постаменте (три отсека изображения, и
у каждого – собственная статуя-вертикаль!) – нависает над вторым планом, сме-
щая представления о правом и левом, о близи и дали. В своей мраморной без-
жизненности лестница излучает некую непонятную, жутковатую энергию, за-
кручивающую пространство жгутом. Лестница вмешивается в перспективу и
разрывает и одновременно спрессовывает ее. Выталкивает все, что происходит
на переднем плане, куда-то вглубь, зато все виднеющееся там – вытягивает на
нас, вперед. Разве человек в красном тюрбане, ведущий по лестнице ребенка и
оглядывающийся, не должен находиться на таком же расстоянии от нас, что и
лица толпы, там... под лестницей? Но не поймешь, уместно ли, реально ли это
„под": ведь книзу от лестницы расстояние растягивается, а на ней – сокраща-
ется. Статуя слева и статуя лестницы настолько сближены, что их сопоставлен-
ность (и взаимная отчужденность, словно у фигур на одной площадке в „Озер-
ной мадонне" Беллини), равнодушная эта сближенность, перекрывает и то
обстоятельство, что статуи находятся все-таки на разном удалении в глубину, и
то, что они вообще... из разных пространств? Решительно непонятно, как пер-
спективно соотнести с ними группу людей вокруг валуна. Между статуями, бес-
конечно ниже их – какое-то совсем иное измерение. Там не только течет и вол-
нуется человеческая толпа, там, кажется, течет самое время – меж скульптур,
как меж двух берегов. Статуи водружены в нелепых позах, прихотливо выхва-
чены из мира живых, исключены из времени. Будто в детской игре им внезапно
было сказано: „Замрите!" И они замерли навеки.
Посредством этой своей холодно-сумасшедшей лестницы Понтормо проде-
лывает с топологией пространства такое, что у зрителя начинает отказывать ве-
стибулярный аппарат. Но именно потому, что он это проделывает с ренессанс-
ной прямой перспективой и ведутами. То есть нарушает им же принятые
условия живописной объемности, а не исходит из какой-то иной условности.
(Ср. не только с иконописью, но и, допустим, с децентрированным, лишенным
опоры и границ барочным пространством Тинторетто в дрезденской „Битве ар-
хангела Михаила с Сатаной".)
Пусть не столь предельно острая, но, в принципе, та же странность с двумя
планами в „Мадонне с длинной шеей". То, что тело Мадонны утончается, облег-
чается кверху, но зато вся тяжесть его могучего основания переносится вправо
движением одежды и оно зависает над дальним планом; и особенно, конечно,
то, что Пармиджанино, как во сне, сопоставил колонну и фигуру Мадонны, сде-
лав равновеликими, нарочито сблизив их вершины, – все это не только придает
Деве огромность, но и помещает ее как бы сразу в двух ведутах. Зрительно тело
Мадонны определенно заваливается назад и вправо – во второй план, в перспек-
тивное удаление. Но – продолжает тем не менее величаво выситься прямо пе-
ред нами.
Вместе с тем так ли далек старец со свитком или только мал? далека, собст-
венно, или близка колонна? и одинаково ли отстоит по своему протяжению от
тела Мадонны? В картине разные оптики. Это, разумеется, не обратная перспек-

204
■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)
тива, но и... не совсем прямая. Тектонический пространственный сдвиг делает
то, что ведуты резко расходятся внизу – и клонятся друг к другу вверху, где го-
лова Девы и вершина столпа магнетически сближаются. Кстати, одинокая раз-
рушенная колонна – символ земной бренности (как и свиток) – в нижней части
изображения вдруг оборачивается внушительным колонным портиком. Между
верхом и низом на задней ведуте, следовательно, такой же семантический про-
рыв, как и на передней.
Художник, разделив, как было положено в ренессансной живописи, два
плана, утрирует это – и тут же двусмысленно их смешивает. Добавим, что с вер-
тикалью колонны спорят и знаменитое „змеящееся" вращение тела (figura ser-
pentinata), и наклон цветовых сгущений по диагонали, подсказанной жестом
руки со свитком.
Вазари в „Персее и Андромеде" (см. ил. 48) поступает проще, но тоже доста-
точно неожиданно: от ближней ведуты оставлен лишь фрагмент в центре кар-
тины. Ни с того ни с сего торчит скала, на фоне которой должно бы происхо-
дить мифологическое событие, а происходит галантная сцена. Нет, разумеется,
Персея, освобождающего Андромеду, но есть порывистый нарядный кавалер и
дама в истоме. Ее нагота контрастирует с позолотой шлема и пояса с ножнами.
Подсматривающее с земли зеркало сообщает мизансцене альковную интим-
ность. Искаженные черты мужского лица у ног красавицы придают разлитой в
изображении чувственности оттенок жестокости. Цепи Андромеды оказыва-
ются любовными путами. Боевой конь (которого у настоящего, античного, Пер-
сея быть не должно, и Вазари это отлично знал) превращен в игрушечного
конька, в какого-то пони. Одна и та же, в сущности, мускулистая нимфа справа
повторена дважды, сидящей и стоящей, так что зритель может внимательно
оглядеть ее и сзади и спереди одновременно. Женские лица неотличимы друг
от друга. Зато у каждого члена тела свой поворот, своя выразительная жизнь. И,
конечно, опять излюбленный маньеристический мотив: кисти, выставленные во
всевозможных ракурсах. У Андромеды голова служит очаровательным поста-
ментом для левой руки; правая же рука существует отдельно, смотрит из-за
спины. Целых восемь кистей у нимф в сложном ритме образуют своего рода
гирлянду.
На флангах граница между двумя планами уничтожена, и вот задняя ведута
наводняет пространство, тихо подбираясь к нам, выплескиваясь к нижнему об-
резу рамы. Тем откровенней скала походит на макет скалы, на театральную вы-
городку; тем острей искусственный островок переднего плана, обтекаемый со
всех сторон планом вторым, напоминает о главном принципе ренессансной
композиции через ее невиданное нарушение. Нарушение состоит не только в
том, что дальний план, вводящий в амурное приключение прежние, традицион-
ные для живописи Возрождения мотивы – нечто космическое и магическое,
перспективную даль и „разнообразие", – перестал быть подчиненным и даже
перестал быть дальним: не он включен, как это бывало раньше, просветом в пе-
реднюю ведуту, но, напротив, она в него включена. Добавим, что столь обрезан-
ный, выдуманный ближний план сливается с дальним не в глубине изображе-
ния, а непосредственно справа и слева, тут же, внутри себя и под ногами
протагонистов. Чтобы смягчить это странное совмещение, художник сильно
растягивает вторую ведуту и дробит ее, в свой черед, на четыре плана: вода сме-
няется твердью, заполненной фигурами, твердь – опять водой залива и горо-

Фиренцуола и маньеризм. Кризис ренессансного идеала ■
205
дом на его бреге, а еще дальше видны горы и небо. Декораций много, и сцена
необъятна.
Искусность и искусственность, изначально свойственные ренессансной пер-
спективе, обнажены – как сама Андромеда, как эти нимфы! – сладострастно.
Они перестали являть наивысшее торжество природности. Тождество ма-
стерства и естества распалось. Теперь искусство не только не желает быть, но и
не желает и казаться ничем иным, как искусством. Оно больше не истолковы-
вает благоговейно человека посреди Вселенной. Оно занято другим. Мир со
зримыми формами ему потребен для изобретения этого же мира заново. Все
по-прежнему точно и узнаваемо в деталях, но целое стало непредсказуемым.
Маньеристическое искусство зачастую производит впечатление безвкусного
именно потому, что в нем был преизбыток и, можно сказать, засилие самого
прихотливого вкуса.
Эмблемой дотоле невиданного маньеристического изобретательства мог бы
послужить „Автопортрет в выпуклом зеркале" Пармиджанино или – на вы-
бор – „Тройной мужской портрет" Лоренцо Лотто.
На изысканном тондо Пармиджанино плоскость стены с окном выгибается в
сферу, выдвинутая вперед рука, отделяясь от тела, диковинно разрастается, пра-
вильные пропорции фигуры принуждают думать о себе именно потому, что они
искажены, их нет: из актуальных они становятся должными. Лицо отдалено, но
внимательный взгляд доходит до нас по прямой, из глубин, где все исполнено
кривизны и зыбкости. Только этот взгляд, это глубинное „Я" – единственный
стержень изображения, перпендикулярно держащий его, как на гвозде.
На картине Лотто: рядоположены – буквально – три точки зрения, три про-
екции сошлись в общем пространстве, индивид расколот и собран вновь, обра-
тясь сразу в три „Я". Это было бы похоже на выведенный вовне спор портрети-
руемого с самим собой, если бы не слишком своевольное и геометрически
жесткое вмешательство живописца.
Возникает, как и от автопортрета Пармиджанино, крайне противоречивое
впечатление: не то бездушного (я чуть не сказал – „сцайентистского") манипу-
лирования, делающего человека впервые объектом действия, не то чистейшей,
напряженнейшей субъектности. И чем выше натуралистическая, оптическая точ-
ность – тем несказанней смысл. Может быть, смысла вообще незачем искать
сверх конструкции, сверх потрясающего – для первой половины XVI века! –
усилия как такового, усилия детски варварского, хитроумного и трагического
вместе – разъять мир и проверить, „что там внутри".
Подытожим. Эксперименты с пространством. Ирреальный монтаж вполне
реальных, но разъятых и смещенных объемов. Такое же собирание человече-
ского тела из отдельных членов.
Здесь мы возвращаемся к Фиренцуоле. Деланность его „химеры" по харак-
теру перекликается с маньеристической компоновкой. „Изобретение" приобре-
тает явный и сознательный перевес над „подражанием". Еще в 1525 году в „Бесе-
дах о любви" Фиренцуола настаивал: „Разве не позволительно современным
людям находить новые способы сочинения, как это делали древние?.. Или ты
не знаешь, что поэтам и живописцам вполне дозволено прибавлять и убирать,
как им угодно?"
21
.
Собственно, уже весь итальянский гуманизм, все Возрождение есть предель-
ное усиление культурного конструирования и в этом смысле тоже может быть

206
■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)
названо – вне всяких оценок – „деланным", „искусственным". Но теперь у ма-
ньеристов это ренессансное свойство откровенно обнажается. Процесс приду-
мывания становится в значительной мере довлеющим себе. Художнику инте-
ресно утверждать свое внутреннее видение (il concetto, il disegno interno).
Предметом эксперимента служит, так или иначе, классический канон – но, зна-
чит, и все традиционные ценности, с ним связанные.
Происходит их остранение.
Это и можно бы назвать общим знаменателем весьма разных по характеру
поисков тех мастеров, которые, оглядываясь на гигантов Высокого Возрожде-
ния, искали каждый свою „манеру". У того или иного из них позволительно
усматривать декоративность, вычурность, аристократизм, или чувственную изне-
женность, или страдальческую растерянность, или, наконец, глубочайшую тра-
гическую человечность и экспрессию. Но в одно направление их объединяет,
по-видимому, очень свободное отношение к ренессансным „правилам", к вели-
ким образцам, самоценность индивидуального творческого замысла.
А где же величавая простота, цельность, гармония и пр.? Увы. Их исчезнове-
ние – цена за появление нового искусства. Известно, что в какие-то два-три де-
сятилетия Позднего Возрождения было непоправимо нарушено равновесие ме-
жду духовным и телесным, идеальным и характерным, всеобщим и особенным.
Но ведь это равновесие, которым часто принято восторгаться, словно потерян-
ным Раем, было втайне трудным, выстроенным, а не чем-то давшимся естест-
венно. Пресловутая ренессансная „гармония" на деле крайне сложна, насквозь
проблемна, потенциально трагична. Да и как могло бы быть иначе на радикаль-
ном всемирном переломе от тысячелетий традиционализма к новоевропейс-
кому ускорению?
В классическом ренессансном сосуде был запечатан джинн. Ему неизбежно
предстояло вырваться. Уже крайности Леонардо и Микеланджело, как и пре-
дельная ясность Рафаэля, это предвещали.
В беззаботном, изящном сочиненьице Фиренцуолы, уж казалось бы, какие
признаки грозного кризиса? Но я попробовал показать, что сосуд исподволь рас-
печатывается. В том, что делали некоторые живописцы, современники Фирен-
цуолы, это очевидно. В рассуждениях „О красотах женщин" совсем не оче-
видно. Но тем занятней высмотреть крохотные логические ростки в конечном
счете огромного будущего барокко.
Для искусствоведов, изучавших маньеризм и барокко, для историков куль-
туры стало понятно, что нельзя в позднеренессансных и послеренессансных фе-
номенах видеть только снижение космического масштаба, гибель „героиче-
ского" и „универсального" человека, потерю прекрасной уравновешенности.
Конечно, у Фиренцуолы или Пармиджанино мы наблюдаем признаки, так ска-
зать, декадентства. Но то были все-таки упадок и деформация ренессансного
стиля мышления, а не культуры вообще. Наверно, сегодня это уже нелепо дока-
зывать. Конечно, никто не мог бы отрицать, что маньеристы открыли ранее не-
известные художественные возможности. Однако – как и всегда в подобных
случаях – это означало преобразование и развитие самого человеческого субъ-
екта. Индивид не стал лучше, но он и не стал хуже. Он просто изменился. Не в
последнюю очередь – в направлении, ведущем к появлению суверенной новоев-
ропейской „личности". Для историка это достаточное оправдание.
А для любителей искусства? Возможно, применительно к маньеризму, бо-

Фиренцуола и маньеризм. Кризис ренессансного идеала ■
207
лонскому академизму или караваджизму говорить о завоеваниях, сопоставимых
в Возрождением, и преждевременно. Не стоит об этом спорить. Если так, то со-
поставлению подлежат Эль Греко и Рембрандт, Шекспир и Галилей, а также
еще более отдаленные последствия распада Возрождения и его продолжения в
новых, часто противоположных ему формах – вплоть до наших дней. Манье-
ризм – узкий мостик, ведущий в будущее, самый близкий результат пережива-
ния и отрицания Возрождением самого себя. Непосредственно ведь именно в
маньеристическом сдвиге итальянское Возрождение было усвоено всем запад-
ноевропейским XVI веком.
В любви маньеристов к рискованному и несколько безответственному обра-
щению с классической традицией, в склонности к иронии и самоутверждению
(впервые в истории мирового искусства проявившейся так густо), в поразитель-
ном совпадении головных заданий и эмоциональных излишеств, рассудочности
и экспрессии, во всем этом бродящем, пряном, иногда раздражающем дека-
дентстве проклевывалось нечто такое, чего не знало не только Возрождение, но
и Средневековье, и Античность и что пришло время остро почувствовать лишь в
XX столетии.
Разумеется, я слишком далеко ушел от трактата „О красотах женщин".
Однако Фиренцуола по-настоящему любопытен, может быть, неожиданен –
только во всеобщем историческом и культурологическом контексте. И эта ши-
рокая панорама или, если угодно, диспозиция, наконец подвела нас к присталь-
ному рассмотрению главного героя книги и Возрождения – Леонардо.

Часть вторая
Воплощенная варьета:
Леонардо да Винчи
Легко для того, кто умеет, сделать-
ся универсальным
Леонардо да Винчи
Все совершенное в своем роде должно
выйти за пределы своего рода
Гете

„СОБРАНИЕ БЕЗ ПОРЯДКА"
„Начато во Флоренции в доме Пьеро ди Браччо Мартелли, марта 22 дня
1508 года.
И это будет собрание без порядка, извлеченное из многих бумаг, которые я
здесь переписал, надеясь затем распределить их в порядке по своим местам, со-
ответственно темам, о которых они трактуют. И я думаю, что, прежде чем дой-
ду до конца этого собрания, мне придется повторить одно и то же по многу раз,
так что, читатель, не ругай меня, ибо предметов много и память не может их
сохранить и сказать: об этом не хочу писать, ибо писано раньше. И если б я не
хотел впасть в подобную ошибку, необходимо было бы в каждом случае, когда
мне захотелось бы снять копию, всегда перечитывать все предыдущее, и в осо-
бенности в случае долгих промежутков времени от одного раза до другого при
писании"
1
.
Так значится в начале так называемого „Кодекса Арундель". И я ничего не
могу тут понять. Леонардо намеревается свести вместе, переписать прежние
разрозненные заметки. Сначала он ясно указывает, что „собрание без порядка"
лишь подготовительная и промежуточная стадия работы; затем предстоит эти
заметки систематизировать („распределить в порядке по своим местам"). По-
чему же Леонардо заранее оправдывает повторения и предупреждает, что все
останется по-прежнему, никакого порядка не будет? Пусть нельзя было избе-
жать повторений, делая записи в разное время и в разных местах, но что мешает
избежать их теперь, сводя воедино? если все они, готовые, будут в конце концов
лежать перед ним? Почему Леонардо считает заведомо невозможным отредак-
тировать сборник? Если он не собирается расставить все „по своим местам", за-
чем он пишет, будто именно это он и надеется сделать, а если действительно со-
бирается, то к чему же оправдываться, что ему скучно „всегда перечитывать все
предыдущее". Леонардо рассуждает так, будто речь идет не о работе над тракта-
том на основе сводки прежнего материала, но о будущих записях от случая к
случаю, об еще одной записной книжке для себя. По существу, об этом он и го-
ворит. Да, но кому он, собственно, говорит? Почему, начиная „собрание без по-
рядка", обращается к читателю?
(Та же история повторяется в „Кодексе Хаммера". На обороте второго листа
значится: „Но камень, брошенный под углом к поверхности в глубь стоячей
воды, производит... я оставлю здесь в стороне доказательства, которые будут
приведены позже в упорядоченном сочинении, и буду стараться только над тем,
что относится ко [всяким] случаям и изобретениям, и помещу их в той последо-
вательности, в какой они приходят на ум, а затем уж расположу в должном по-
рядке, поместив замечания одного и того же рода вместе; так что ты, читатель,
не дивись и не подсмеивайся надо мной, ежели здесь совершаются такие боль-
шие прыжки от одной материи к другой"
2
.)
Смысл текста неуловимо двоится. Трудно поверить, что Леонардо исходил
из того, что в таком хаотическом виде кодекс попадет в печать. Этому прямо
противоречит и начало предисловия, где сказано о надежде впоследствии выпи-
ски упорядочить. Тем не менее перед нами не что иное, как предисловие к
фрагментам в их наличном состоянии, и, значит, придется поверить, что все по-
следующее для Леонардо – как бы окончательный текст. В сознании Леонардо
