Конрад Н.И. Избранные труды. История
Подождите немного. Документ загружается.

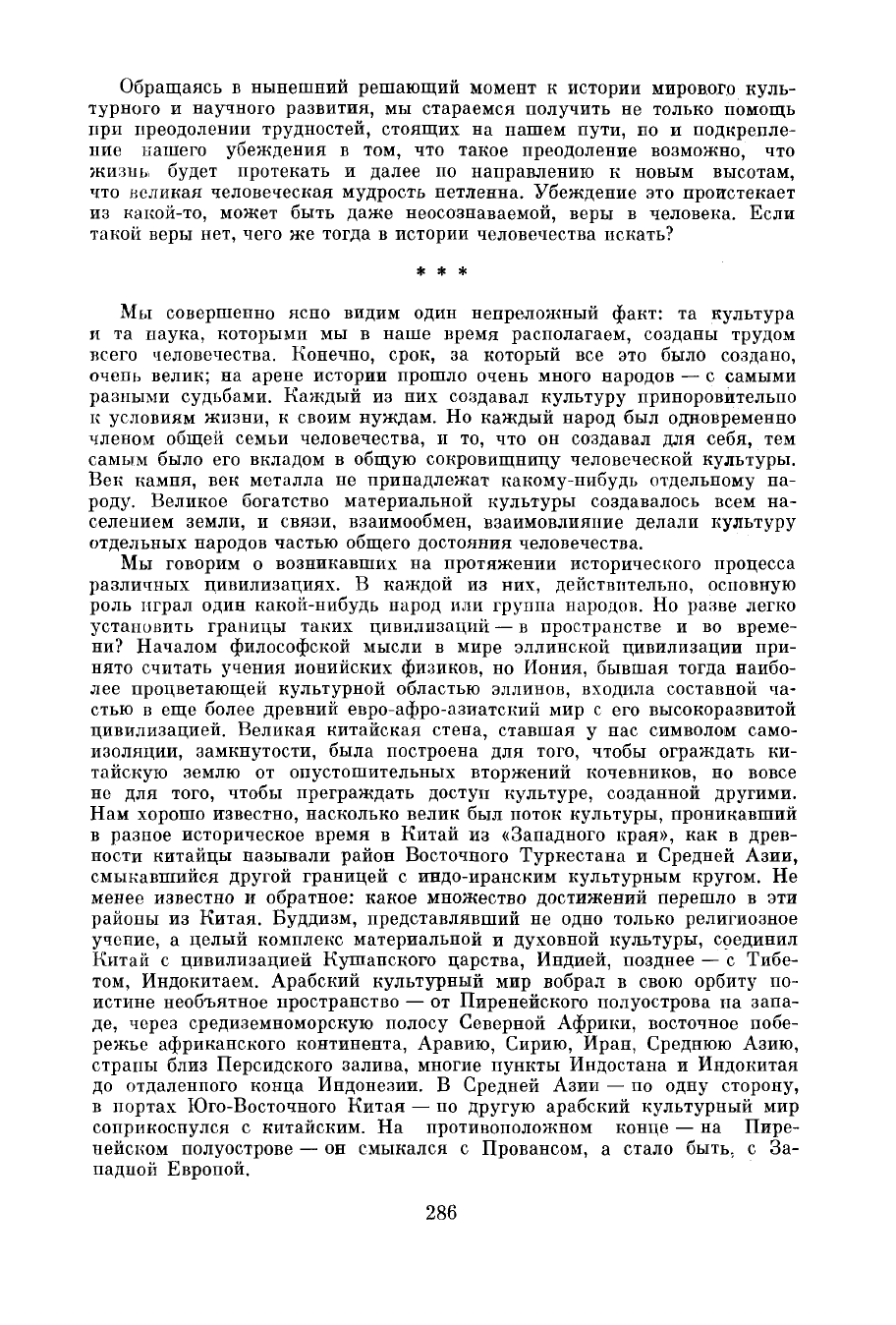
Обращаясь в нынешний решающий момент к истории мирового куль-
турного и научного развития, мы стараемся получить не только помощь
при
преодолении трудностей, стоящих на нашем пути, но и подкрепле-
ние
нашего убеждения в том, что такое преодоление возможно, что
жизнь
будет
протекать и далее по направлению к новым высотам,
что великая человеческая мудрость нетленна. Убеждение это проистекает
из
какой-то, может быть
даже
неосознаваемой, веры в человека. Если
такой
веры нет, чего же
тогда
в истории человечества искать?
* * *
Мы
совершенно ясно видим один непреложный факт: та
культура
и
та наука, которыми мы в наше время располагаем, созданы
трудом
всего человечества. Конечно, срок, за который все это было создано,
очепь велик; на арене истории прошло очень много народов — с самыми
разными
судьбами. Каждый из них создавал
культуру
приноровителыю
к
условиям жизни, к своим нуждам. Но каждый народ был одновременно
членом общей семьи человечества, и то, что он создавал для себя, тем
самым было его вкладом в общую сокровищницу человеческой культуры.
Век камня, век металла не принадлежат какому-нибудь отдельному на-
роду.
Великое богатство материальной культуры создавалось всем на-
селением земли, и связи, взаимообмен, взаимовлияние делали
культуру
отдельных народов частью общего достояния человечества.
Мы
говорим о возникавших на протяжении исторического процесса
различных цивилизациях. В каждой из них, действительно, основную
роль играл один какой-нибудь народ или группа народов. Но разве легко
установить границы таких цивилизаций — в пространстве и во време-
ни?
Началом философской мысли в мире эллинской цивилизации при-
нято
считать учения ионийских физиков, но
Иония,
бывшая
тогда
наибо-
лее процветающей культурной областью эллинов, входила составной ча-
стью в еще более древний евро-афро-азиатский мир с его высокоразвитой
цивилизацией.
Великая китайская стена, ставшая у нас символом само-
изоляции,
замкнутости, была построена для того, чтобы ограждать ки-
тайскую землю от опустошительных вторжений кочевников, но вовсе
не
для того, чтобы преграждать доступ культуре, созданной другими.
Нам
хорошо известно, насколько велик был поток культуры, проникавший
в
разное историческое время в Китай из «Западного края», как в древ-
ности
китайцы называли район Восточного Туркестана и Средней Азии,
смыкавшийся
другой
границей с индо-иранским культурным кругом. Не
менее известно и обратное: какое множество достижений перешло в эти
районы
из Китая. Буддизм, представлявший не одно только религиозное
учение, а целый комплекс материальной и духовной культуры, соединил
Китай
с цивилизацией Кушанского царства, Индией, позднее — с Тибе-
том, Индокитаем. Арабский культурный мир вобрал в свою орбиту по-
истине
необъятное пространство — от Пиренейского полуострова на запа-
де, через средиземноморскую полосу Северной Африки, восточное побе-
режье африканского континента, Аравию, Сирию,
Иран,
Среднюю Азию,
страны близ Персидского залива, многие пункты Индостана и Индокитая
до отдаленного конца Индонезии. В Средней Азии — по одну сторону,
в
портах Юго-Восточного Китая — по
другую
арабский культурный мир
соприкоснулся с китайским. На противоположном конце — на
Пире-
нейском
полуострове — он смыкался с Провансом, а стало быть, с За-
падной
Европой.
286
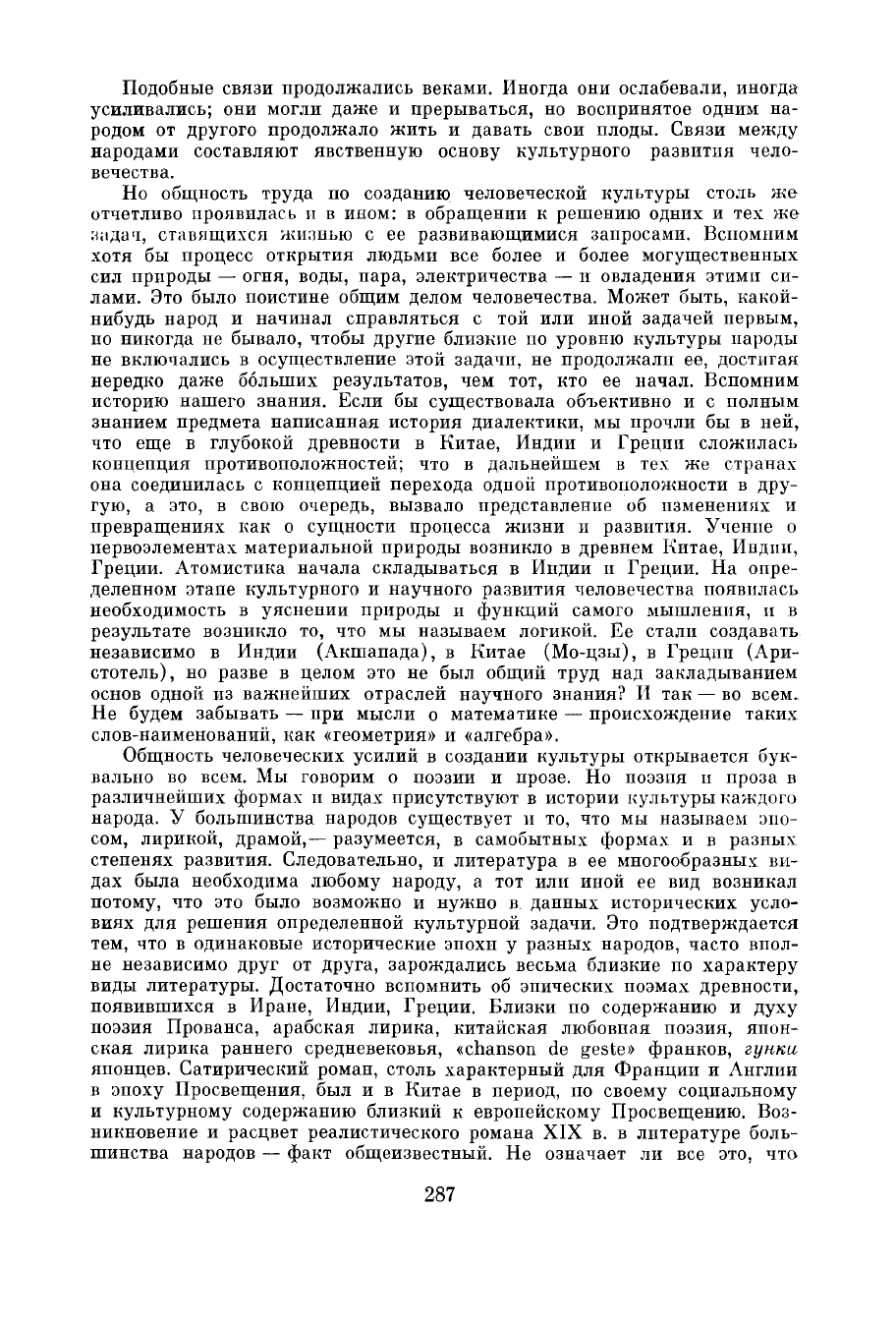
Подобные связи продолжались веками. Иногда они ослабевали, иногда
усиливались; они могли
даже
и прерываться, но воспринятое одним на-
родом от
другого
продолжало жить и давать свои плоды. Связи
между
народами составляют явственную основу культурного развития чело-
вечества.
Но
общность
труда
по созданию человеческой культуры столь же
отчетливо проявилась и в ином: в обращении к решению одних и тех же
задач, ставящихся жизнью с ее развивающимися запросами. Вспомним
хотя бы процесс открытия людьми все более и более могущественных
сил природы — огня, воды, пара, электричества — и овладения этими си-
лами.
Это было поистине общим делом человечества. Может быть, какой-
нибудь народ и начинал справляться с той или иной задачей первым,
но
никогда не бывало, чтобы
другие
близкие по уровню культуры народы
не
включались в осуществление этой задачи, не продолжали ее, достигая
нередко
даже
больших результатов, чем тот, кто ее начал. Вспомним
историю нашего
знания.
Если бы существовала объективно и с полным
знанием
предмета написанная история диалектики, мы прочли бы в ней,
что еще в глубокой древности в Китае, Индии и Греции сложилась
концепция
противоположностей; что в дальнейшем в тех же странах
она
соединилась с концепцией перехода одной противоположности в дру-
гую, а это, в свою очередь, вызвало представление об изменениях и
превращениях как о сущности процесса жизни и развития. Учение о
первоэлементах материальной природы возникло в древнем Китае,
Индии,
Греции.
Атомистика начала складываться в Индии и Греции. На опре-
деленном этапе культурного и научного развития человечества появилась
необходимость в уяснении природы и функций самого мышления, и в
результате
возникло то, что мы называем логикой. Ее стали создавать
независимо
в Индии (Акшапада), в Китае (Мо-цзы), в Греции (Ари-
стотель) , но разве в целом это не был общий
труд
над закладыванием
основ
одной из важнейших отраслей научного знания? И так — во всем.
Не
будем
забывать — при мысли о математике — происхождение таких
слов-наименований,
как
«геометрия»
и
«алгебра».
Общность человеческих усилий в создании культуры открывается бук-
вально во всем. Мы говорим о поэзии и прозе. Но поэзия и проза в
различнейших формах и видах присутствуют в истории культуры каждого
народа. У большинства народов
существует
и то, что мы называем эпо-
сом,
лирикой, драмой,— разумеется, в самобытных формах и в разных
степенях развития. Следовательно, и литература в ее многообразных ви-
дах была необходима любому народу, а тот или иной ее вид возникал
потому, что это было возможно и нужно в данных исторических усло-
виях для решения определенной культурной задачи. Это подтверждается
тем, что в одинаковые исторические эпохи у разных народов, часто впол-
не
независимо
друг
от
Друга,
зарождались весьма близкие по характеру
виды литературы. Достаточно вспомнить об эпических поэмах древности,
появившихся в Иране,
Индии,
Греции. Близки по содержанию и
духу
поэзия
Прованса, арабская лирика, китайская любовная
поэзия,
япон-
ская
лирика раннего средневековья, «chanson de
geste»
франков, гунки
японцев.
Сатирический роман, столь характерный для Франции и Англии
в
эпоху Просвещения, был и в Китае в период, по своему социальному
и
культурному содержанию близкий к европейскому Просвещению. Воз-
никновение
и расцвет реалистического романа XIX в. в литературе боль-
шинства народов — факт общеизвестный. Не означает ли все это, что
287
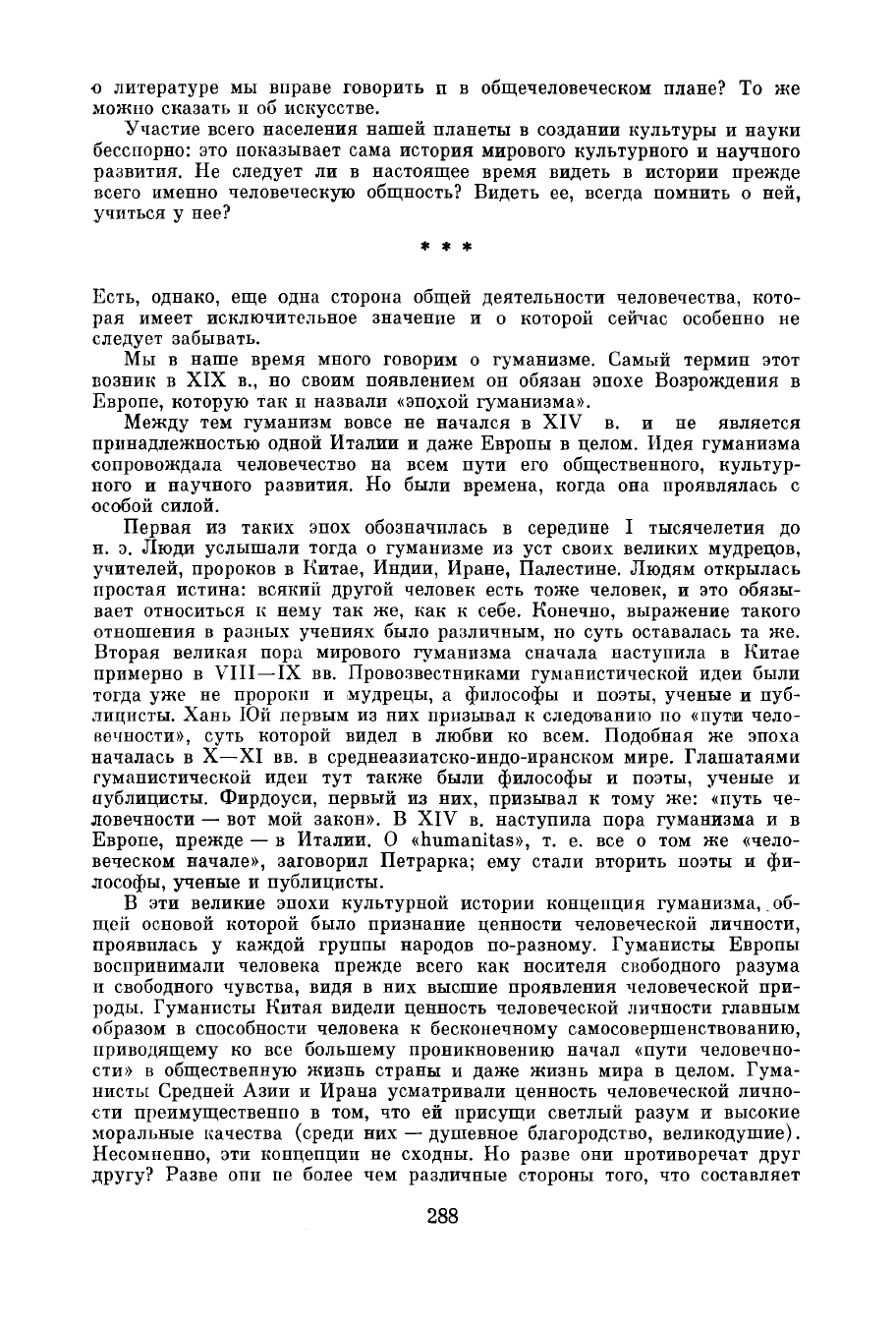
•о литературе мы вправе говорить и в общечеловеческом плане? То же
можно сказать и об искусстве.
Участие всего населения нашей планеты в создании культуры и науки
бесспорно:
это показывает сама история мирового культурного и научного
развития.
Не
следует
ли в настоящее время видеть в истории прежде
всего именно человеческую общность? Видеть ее, всегда помнить о ней,
учиться у нее?
* * *
Есть, однако, еще одна сторона общей деятельности человечества, кото-
рая
имеет исключительное значение и о которой сейчас особенно не
следует
забывать.
Мы
в наше время много говорим о гуманизме. Самый термин этот
возник
в XIX в., но своим появлением он обязан эпохе Возрождения в
Европе,
которую так и назвали «эпохой гуманизма».
Между тем гуманизм вовсе не начался в XIV в. и не является
принадлежностью одной Италии и
даже
Европы в целом. Идея гуманизма
сопровождала человечество на всем пути его общественного, культур-
ного и научного развития. Но были времена, когда она проявлялась с
особой силой.
Первая
из таких эпох обозначилась в середине I тысячелетия до
н.
э. Люди услышали
тогда
о гуманизме из уст своих великих мудрецов,
учителей, пророков в Китае,
Индии,
Иране, Палестине. Людям открылась
простая истина: всякий
другой
человек есть тоже человек, и это обязы-
вает относиться к нему так же, как к себе. Конечно, выражение такого
отношения
в разных учениях было различным, но
суть
оставалась та же.
Вторая великая пора мирового гуманизма сначала наступила в Китае
примерно
в VIII — IX вв. Провозвестниками гуманистической идеи были
тогда
уже не пророки и мудрецы, а философы и поэты, ученые и пуб-
лицисты.
Хань Юй первым из них призывал к следованию по
«пути
чело-
вечности»,
суть
которой видел в любви ко всем. Подобная же эпоха
началась в
X—XI
вв. в среднеазиатско-индо-иранском мире. Глашатаями
гуманистической идеи тут также были философы и поэты, ученые и
публицисты. Фирдоуси, первый из них, призывал к тому же:
«путь
че-
ловечности — вот мой закон». В XIV в. наступила пора гуманизма и в
Европе,
прежде — в Италии. О «humanitas», т. е. все о том же «чело-
веческом начале», заговорил Петрарка; ему стали вторить поэты и фи-
лософы,
ученые и публицисты.
В эти великие эпохи культурной истории концепция гуманизма, об-
щей
основой которой было признание ценности человеческой личности,
проявилась у каждой группы народов по-разному. Гуманисты Европы
воспринимали
человека прежде всего как носителя свободного разума
и
свободного
чувства,
видя в них высшие проявления человеческой при-
роды. Гуманисты Китая видели ценность человеческой личности главным
образом в способности человека к бесконечному самосовершенствованию,
приводящему ко все большему проникновению начал
«пути
человечно-
сти»
в общественную жизнь страны и
даже
жизнь мира в целом.
Гума-
нисты
Средней Азии и Ирана усматривали ценность человеческой лично-
сти преимущественно в том, что ей присущи светлый разум и высокие
моральные качества (среди них — душевное благородство, великодушие).
Несомненно,
эти концепции не сходны. Но разве они противоречат
друг
другу?
Разве они пе более чем различные стороны того, что составляет
288
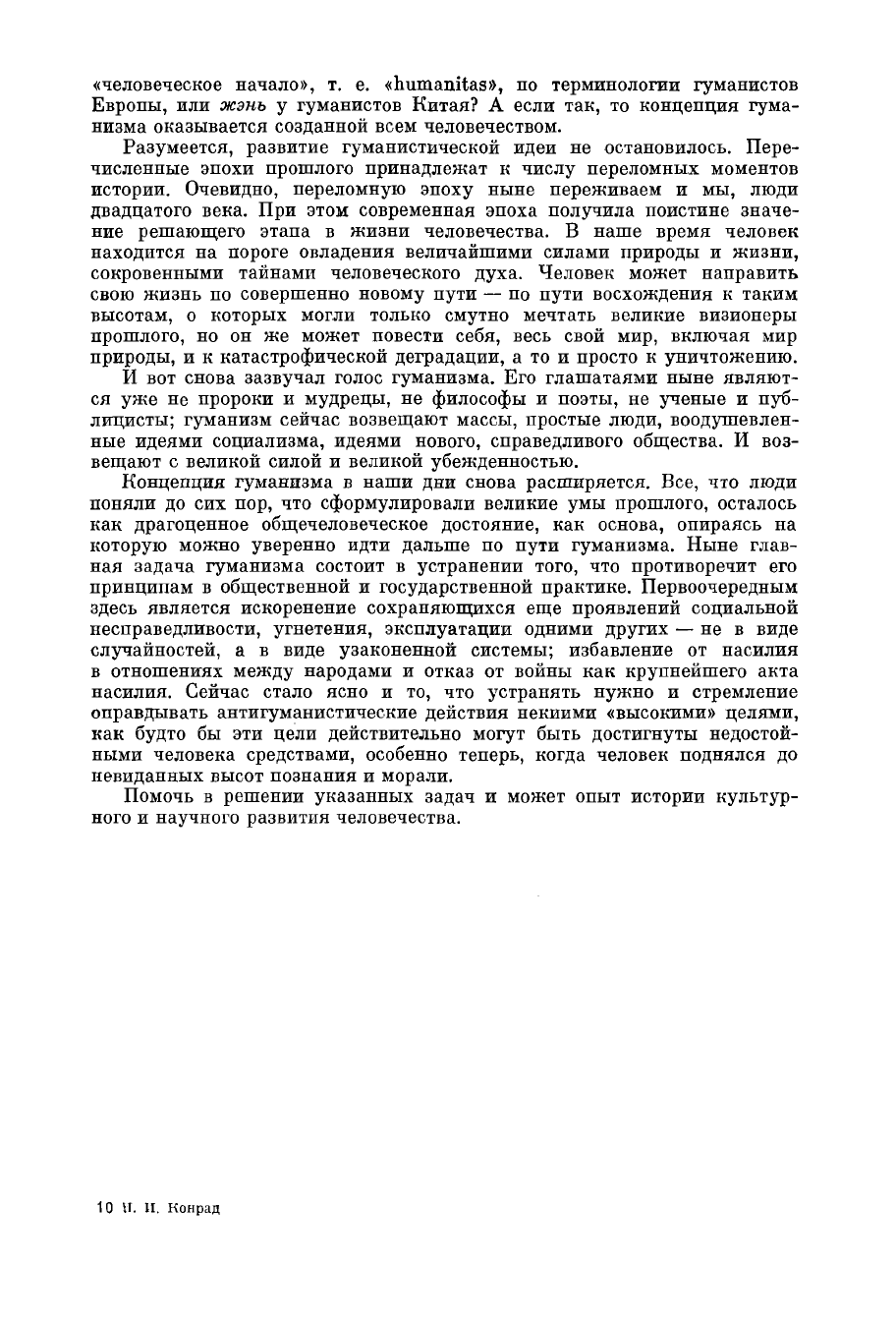
«человеческое начало», т. е. «humanitas», по терминологии гуманистов
Европы,
или
жэнь
у гуманистов Китая? А если так, то концепция
гума-
низма
оказывается созданной всем человечеством.
Разумеется, развитие гуманистической идеи не остановилось. Пере-
численные эпохи прошлого принадлежат к числу переломных моментов
истории.
Очевидно, переломную эпоху ныне переживаем и мы, люди
двадцатого века. При этом современная эпоха получила поистине значе-
ние
решающего этапа в жизни человечества. В наше время человек
находится на пороге овладения величайшими силами природы и жизни,
сокровенными
тайнами человеческого
духа.
Человек может направить
свою жизнь по совершенно новому пути — по пути восхождения к таким
высотам, о которых могли только смутно мечтать великие визионеры
прошлого, но он же может повести себя, весь свой мир, включая мир
природы, и к катастрофической деградации, а то и просто к уничтожению.
И
вот снова зазвучал голос гуманизма. Его глашатаями ныне являют-
ся
уже не пророки и мудрецы, не философы и поэты, не ученые и пуб-
лицисты;
гуманизм сейчас возвещают массы, простые люди, воодушевлен-
ные
идеями социализма, идеями нового, справедливого общества. И воз-
вещают с великой силой и великой убежденностью.
Концепция
гуманизма в наши дни снова расширяется. Все, что люди
поняли
до сих пор, что сформулировали великие умы прошлого, осталось
как
драгоценное общечеловеческое достояние, как основа, опираясь на
которую можно уверенно идти дальше по пути гуманизма. Ныне глав-
ная
задача гуманизма состоит в устранении того, что противоречит его
принципам
в общественной и государственной практике. Первоочередным
здесь является искоренение сохраняющихся еще проявлений социальной
несправедливости, угнетения, эксплуатации одними
других
— не в виде
случайностей, а в виде узаконенной системы; избавление от насилия
в
отношениях
между
народами и отказ от войны как крупнейшего акта
насилия.
Сейчас стало ясно и то, что устранять нужно и стремление
оправдывать антигуманистические действия некиими «высокими» целями,
как
будто
бы эти цели действительно
могут
быть достигнуты недостой-
ными
человека средствами, особенно теперь, когда человек поднялся до
невиданных высот познания и морали.
Помочь
в решении указанных задач и может опыт истории культур-
ного и научного развития человечества.
10 U. И. Конрад
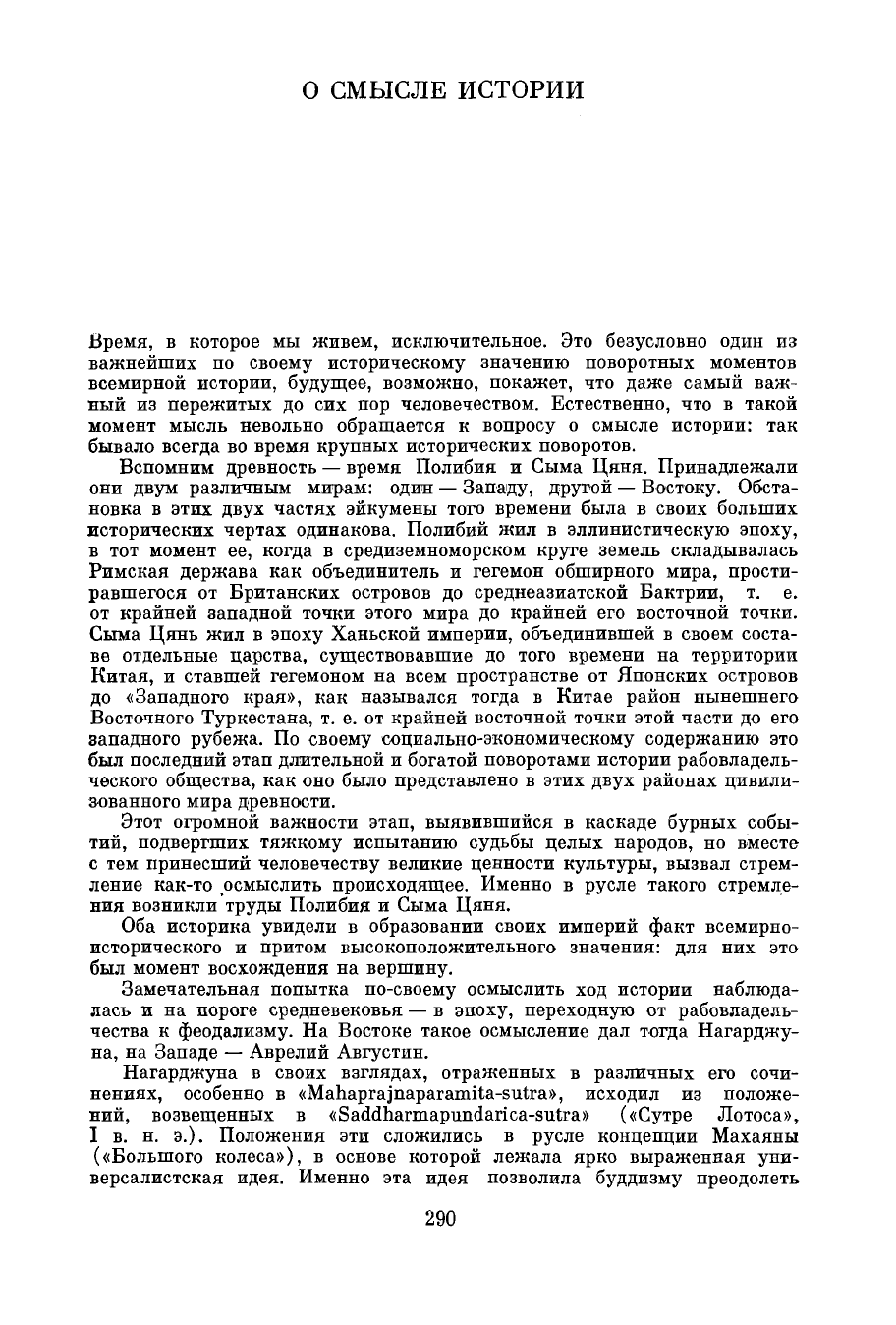
О СМЫСЛЕ
ИСТОРИИ
Время, в которое мы живем, исключительное. Это безусловно один из
важнейших по своему историческому значению поворотных моментов
всемирной
истории,
будущее,
возможно, покажет, что
даже
самый важ-
ный
из пережитых до сих пор человечеством. Естественно, что в такой
момент мысль невольно обращается к вопросу о смысле истории: так
бывало всегда во время крупных исторических поворотов.
Вспомним древность — время Полибия и Сыма
Цяня.
Принадлежали
они
двум
различным мирам: один — Западу,
другой
— Востоку. Обста-
новка
в этих
двух
частях эйкумены того времени была в своих больших
исторических
чертах
одинакова. Полибий жил в эллинистическую эпоху,
в
тот момент ее, когда в средиземноморском круге земель складывалась
Римская
держава как объединитель и гегемон обширного мира, прости-
равшегося от Британских островов до среднеазиатской Бактрии, т. е.
от крайней западной точки этого мира до крайней его восточной точки.
Сыма
Цянь
жил в эпоху Ханьской империи, объединившей в своем соста-
ве отдельные царства, существовавшие до того времени на территории
Китая,
и ставшей гегемоном на всем пространстве от Японских островов
до «Западного края», как назывался
тогда
в Китае район нынешнего
Восточного Туркестана, т. е. от крайней восточной точки этой части до его
западного
рубежа.
По своему социально-экономическому содержанию это
был последний этап длительной и богатой поворотами истории рабовладель-
ческого общества, как оно было представлено в этих
двух
районах цивили-
зованного мира древности.
Этот огромной важности этап, выявившийся в каскаде бурных собы-
тий,
подвергших тяжкому испытанию
судьбы
целых народов, но вместе
с тем принесший человечеству великие ценности культуры, вызвал стрем-
ление как-то осмыслить происходящее. Именно в
русле
такого стремле-
ния
возникли
труды
Полибия и Сыма
Цяня.
Оба историка увидели в образовании своих империй факт всемирно-
исторического и притом высокоположительного значения: для них это
был момент восхождения на вершину.
Замечательная попытка по-своему осмыслить ход истории наблюда-
лась и на пороге средневековья — в эпоху, переходную от рабовладель-
чества к феодализму. На Востоке такое осмысление дал
тогда
Нагарджу-
на,
на Западе — Аврелий
Августин.
Нагарджуна в своих взглядах, отраженных в различных его сочи-
нениях,
особенно в «Mahaprajnaparamita-sutra», исходил из положе-
ний,
возвещенных в «Saddharmapundarica-sutra»
(«Сутре
Лотоса»,
I
в. н. э.). Положения эти сложились в
русле
концепции Махаяны
(«Большого колеса»), в основе которой лежала ярко выраженная уни-
версалистская идея. Именно эта идея позволила
буддизму
преодолеть
290
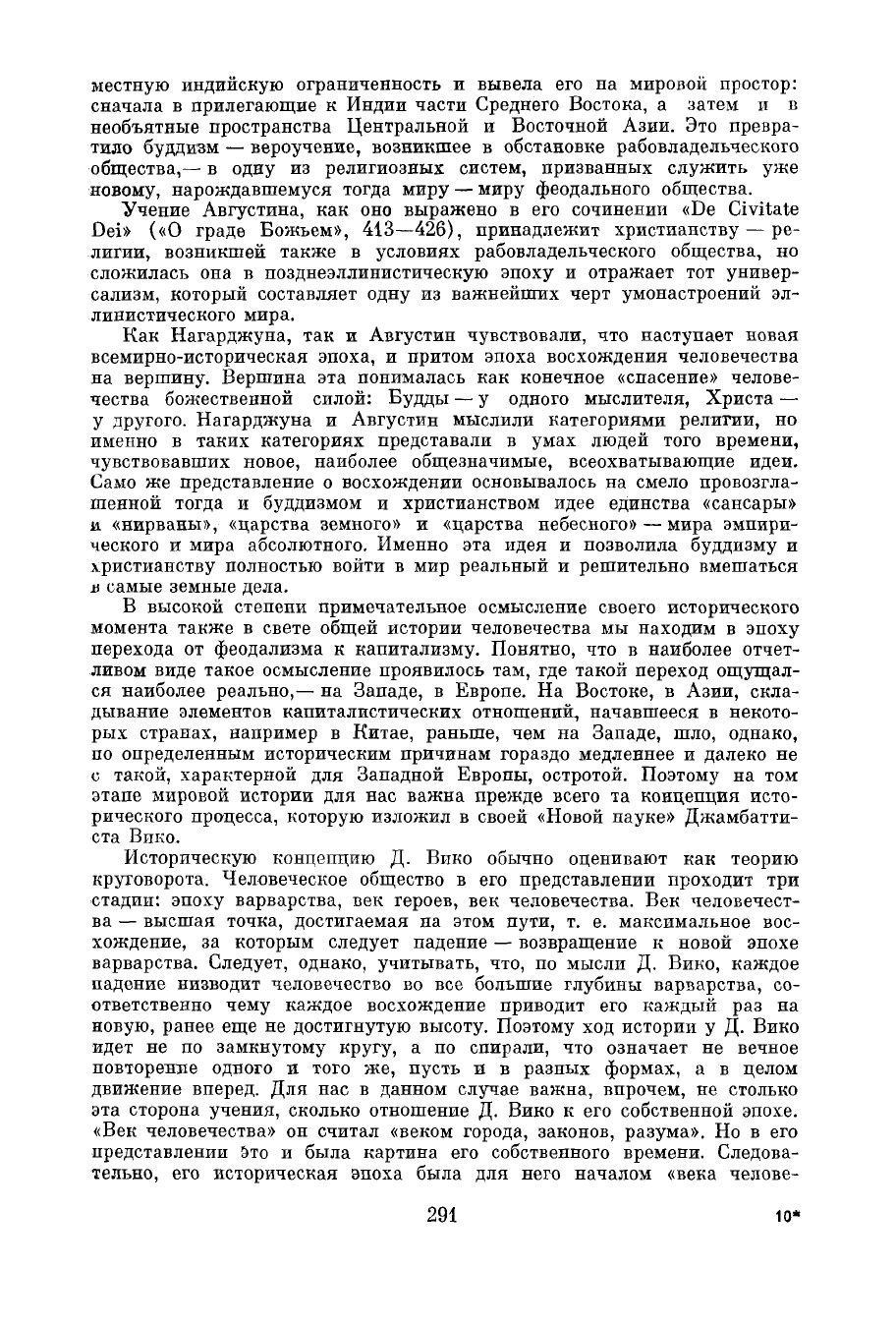
местную индийскую ограниченность и вывела его на мировой простор:
сначала в прилегающие к Индии части Среднего Востока, а затем и в
необъятные пространства Центральной и Восточной Азии. Это превра-
тило буддизм — вероучение, возникшее в обстановке рабовладельческого
общества,— в одну из религиозных систем, призванных служить уже
новому, нарождавшемуся
тогда
миру — миру феодального общества.
Учение
Августина,
как оно выражено в его сочинении «De Civitate
Dei» («О
граде
Божьем»,
413—426),
принадлежит христианству — ре-
лигии,
возникшей также в условиях рабовладельческого общества, но
сложилась она в позднеэллинистическую эпоху и отражает тот универ-
сализм,
который составляет одну из важнейших черт умонастроений эл-
линистического мира.
Как
Нагарджуна, так и
Августин
чувствовали, что наступает новая
всемирно-историческая эпоха, и притом эпоха восхождения человечества
на
вершину. Вершина эта понималась как конечное «спасение» челове-
чества божественной силой: Будды — у одного мыслителя, Христа —•
у
другого.
Нагарджуна и
Августин
мыслили категориями религии, но
именно
в таких категориях представали в
умах
людей того времени,
чувствовавших новое, наиболее общезначимые, всеохватывающие идеи.
Само
же представление о восхождении основывалось на смело провозгла-
шенной
тогда
и буддизмом и христианством идее единства «сансары»
и
«нирваны», «царства земного» и «царства небесного» — мира эмпири-
ческого и мира абсолютного. Именно эта идея и позволила
буддизму
и
христианству полностью войти в мир реальный и решительно вмешаться
а самые земные дела.
В высокой степени примечательное осмысление своего исторического
момента также в свете общей истории человечества мы находим в эпоху
перехода от феодализма к капитализму.
Понятно,
что в наиболее отчет-
ливом виде такое осмысление проявилось там, где такой переход ощущал-
ся
наиболее реально,— на Западе, в Европе. На Востоке, в Азии, скла-
дывание элементов капиталистических отношений, начавшееся в некото-
рых странах, например в Китае, раньше, чем на Западе, шло, однако,
по
определенным историческим причинам гораздо медленнее и далеко не
с такой, характерной для Западной Европы, остротой. Поэтому на том
этапе мировой истории для нас важна прежде всего та концепция исто-
рического процесса, которую изложил в своей «Новой
пауке»
Джамбатти-
ста Вико.
Историческую концепцию Д. Вико обычно оценивают как теорию
круговорота. Человеческое общество в его представлении проходит три
стадии: эпоху варварства, век героев, век человечества. Век человечест-
ва — высшая точка, достигаемая на этом пути, т. е. максимальное вос-
хождение, за которым
следует
падение — возвращение к новой эпохе
варварства.
Следует,
однако, учитывать, что, по мысли Д. Вико, каждое
падение низводит человечество во все большие глубины варварства, со-
ответственно чему каждое восхождение приводит его каждый раз на
новую, ранее еще не
достигнутую
высоту. Поэтому ход истории у Д. Вико
идет не по замкнутому
кругу,
а по спирали, что означает не вечное
повторение одного и того же, пусть и в разных формах, а в целом
движение вперед. Для нас в данном
случае
важна, впрочем, не столько
эта сторона учения, сколько отношение Д. Вико к его собственной эпохе.
«Век
человечества»
он считал «веком города, законов, разума». Но в его
представлении это и была картина его собственного времени. Следова-
тельно, его историческая эпоха была для него началом «века челове-
291 Ю*
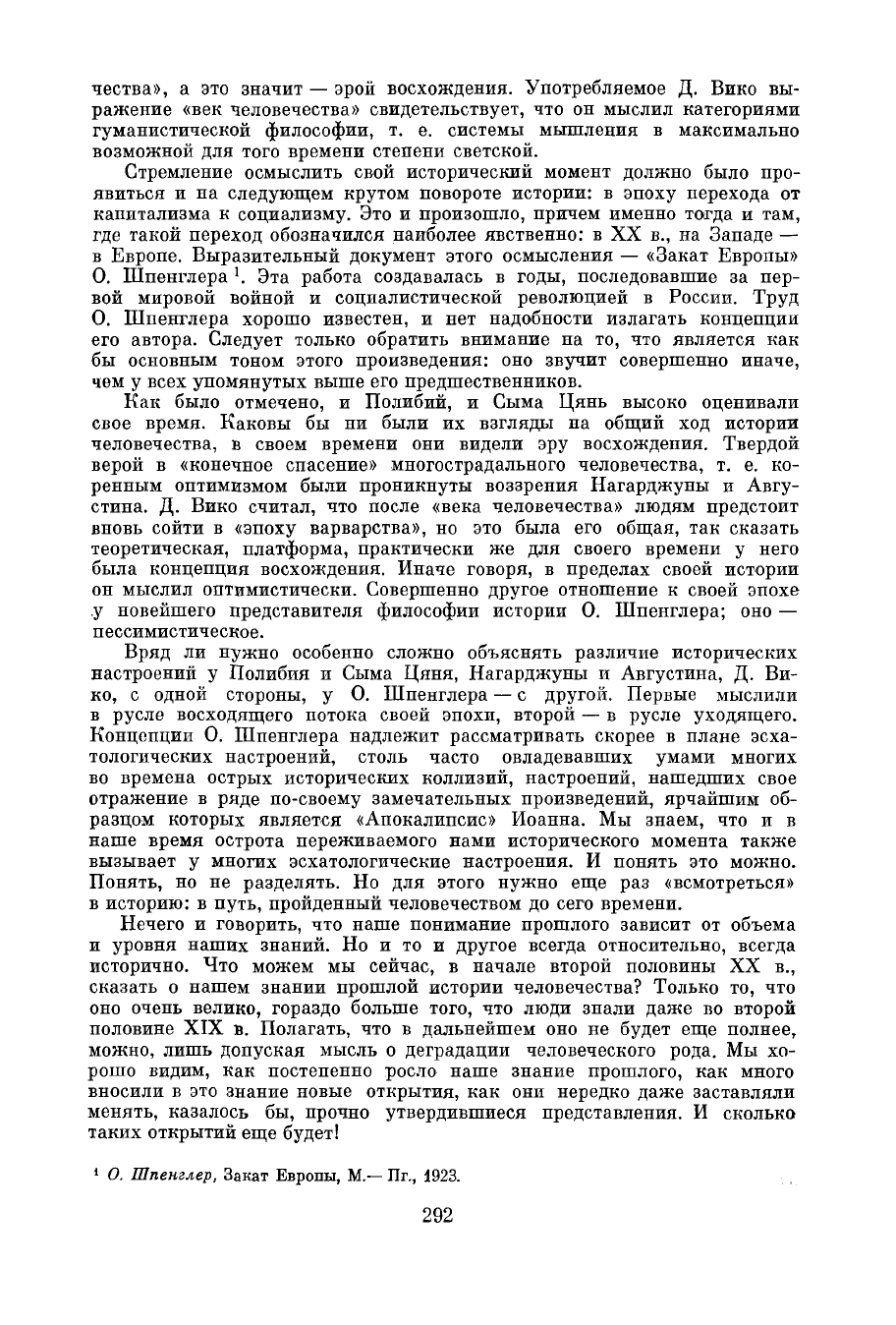
чества»,
а это значит — эрой восхождения. Употребляемое Д. Вико вы-
ражение «век
человечества»
свидетельствует, что он мыслил категориями
гуманистической философии, т. е. системы мышления в максимально
возможной для того времени степени светской.
Стремление осмыслить свой исторический момент должно было про-
явиться и на следующем крутом повороте истории: в эпоху перехода от
капитализма к социализму. Это и произошло, причем именно
тогда
и там,
где такой переход обозначился наиболее явственно: в XX в., на Западе —
в
Европе. Выразительный документ этого осмысления — «Закат Европы»
О. Шпенглера
1
. Эта работа создавалась в годы, последовавшие за пер-
вой
мировой войной и социалистической революцией в России.
Труд
О. Шпенглера хорошо известен, и нет надобности излагать концепции
его автора.
Следует
только обратить внимание на то, что является как
бы основным тоном этого произведения: оно звучит совершенно иначе,
чем у
всех
упомянутых выше его предшественников.
Как
было отмечено, и Полибий, и Сыма
Цянь
высоко оценивали
свое время. Каковы бы ни были их взгляды на общий ход истории
человечества, в своем времени они видели эру восхождепия. Твердой
верой в «конечное спасение» многострадального человечества, т. е. ко-
ренным
оптимизмом были проникнуты воззрения Нагарджуны и
Авгу-
стина. Д. Вико считал, что после «века
человечества»
людям предстоит
вновь
сойти в
«эпоху
варварства», но это была его общая, так сказать
теоретическая, платформа, практически же для своего времени у него
была концепция восхождения. Иначе говоря, в пределах своей истории
он
мыслил оптимистически. Совершенно
другое
отношение к своей эпохе
у новейшего представителя философии истории О. Шпенглера; оно —
пессимистическое.
Вряд ли нужно особенно сложно объяснять различие исторических
настроений
у Полибия и Сыма
Цяня,
Нагарджуны и
Августина,
Д. Ви-
ко,
с одной стороны, у О. Шпенглера — с другой. Первые мыслили
в
русле
восходящего потока своей эпохи, второй — в
русле
уходящего.
Концепции
О. Шпенглера надлежит рассматривать скорее в плане эсха-
тологических настроений, столь часто овладевавших умами многих
во времена острых исторических коллизий, настроений, нашедших свое
отражение в ряде по-своему замечательных произведений, ярчайшим об-
разцом которых является «Апокалипсис» Иоанна. Мы знаем, что и в
наше
время острота переживаемого нами исторического момента также
вызывает у многих эсхатологические настроения. И понять это можно.
Понять,
но не разделять. Но для этого нужно еще раз
«всмотреться»
в
историю: в путь, пройденный человечеством до сего времени.
Нечего и говорить, что наше понимание прошлого зависит от объема
и
уровня наших знаний. Но и то и
другое
всегда относительно, всегда
исторично.
Что можем мы сейчас, в начале второй половины XX в.,
сказать о нашем знании прошлой истории человечества? Только то, что
оно
очень велико, гораздо больше того, что люди знали
даже
во второй
половине
XIX в. Полагать, что в дальнейшем оно не
будет
еще полнее,
можно,
лишь допуская мысль о деградации человеческого рода. Мы хо-
рошо видим, как постепенно росло наше знание прошлого, как много
вносили
в это знание новые открытия, как они нередко
даже
заставляли
менять,
казалось бы, прочно утвердившиеся представления. И сколько
таких открытий еще
будет!
1
О.
Шпенглер,
Закат Европы, М.— Пг., 1923.
292
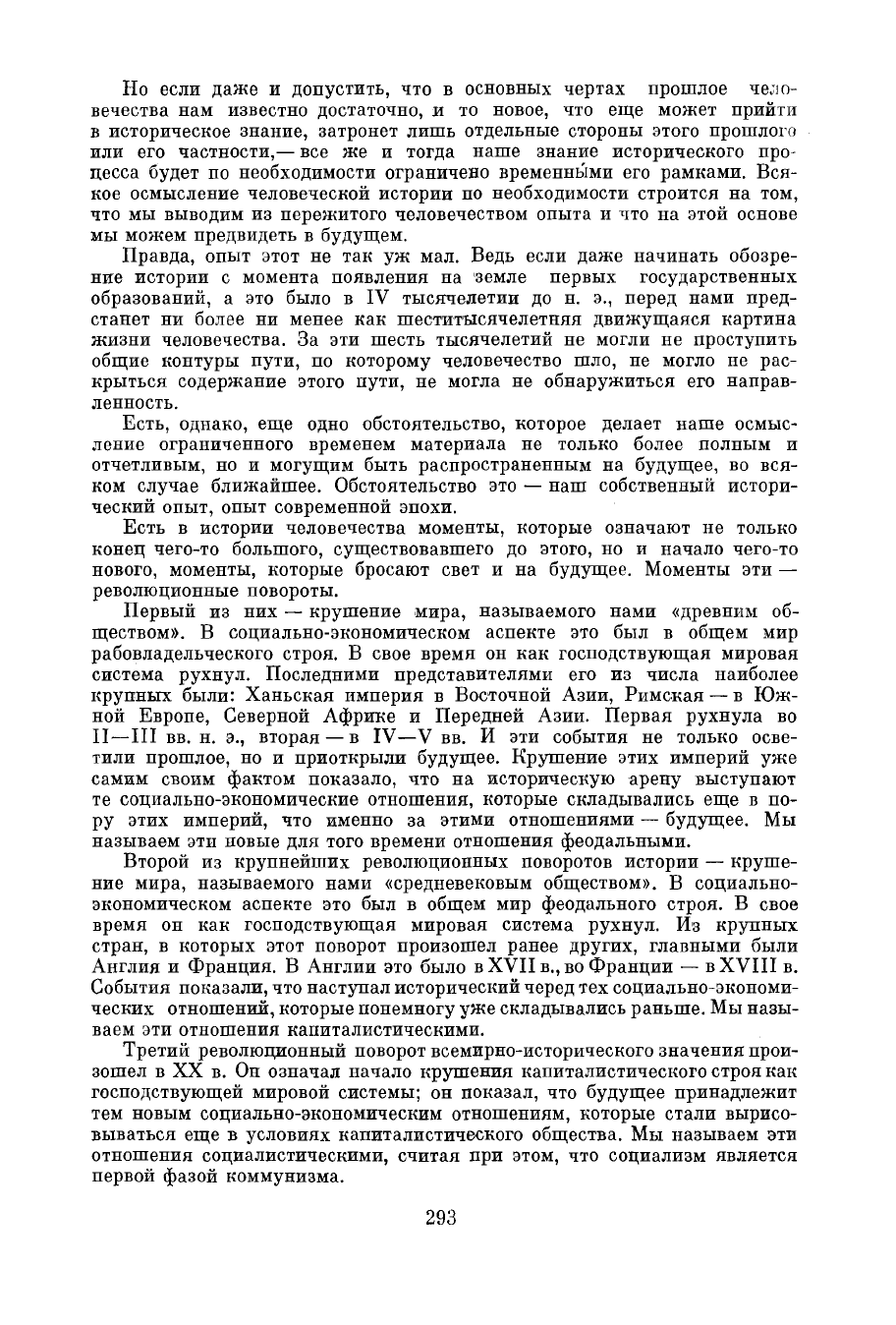
Но
если
даже
и допустить, что в основных
чертах
прошлое чело-
вечества нам известно достаточно, и то новое, что еще может прийти
в историческое знание, затронет лишь отдельные стороны этого прошлого
или его частности,— все же и
тогда
наше знание исторического про-
цесса
будет
по необходимости ограничено временными его рамками. Вся-
кое осмысление человеческой истории по необходимости строится на том,
что мы выводим из пережитого человечеством опыта и что на этой основе
мы можем предвидеть в
будущем.
Правда, опыт этот не так уж мал.
Ведь
если
даже
начинать обозре-
ние
истории с момента появления на земле первых государственных
образований, а это было в IV тысячелетии до н. э., перед нами пред-
станет ни более ни менее как шеститысячелетняя движущаяся картина
жизни
человечества. За эти шесть тысячелетий не могли не проступить
общие контуры пути, по которому человечество шло, не могло не рас-
крыться содержание этого пути, не могла не обнаружиться его направ-
ленность.
Есть, однако, еще одно обстоятельство, которое
делает
наше осмыс-
ление ограниченного временем материала не только более полным и
отчетливым, но и могущим быть распространенным на
будущее,
во вся-
ком
случае
ближайшее. Обстоятельство это — наш собственный истори-
ческий опыт, опыт современной эпохи.
Есть в истории человечества моменты, которые означают не только
конец
чего-то большого, существовавшего до этого, но и начало чего-то
нового, моменты, которые бросают свет и на
будущее.
Моменты эти —
революционные повороты.
Первый из них — крушение мира, называемого нами «древним об-
ществом». В социально-экономическом аспекте это был в общем мир
рабовладельческого строя. В свое время он как господствующая мировая
система
рухнул.
Последними представителями его из числа наиболее
крупных были: Ханьская империя в Восточной Азии, Римская — в Юж-
ной
Европе, Северной Африке и Передней Азии. Первая
рухнула
во
II—III
вв. н. э., вторая — в
IV—V
вв. И эти события не только осве-
тили прошлое, но и приоткрыли
будущее.
Крушение этих империй уже
самим своим фактом показало, что на историческую арену выступают
те социально-экономические отношения, которые складывались еще в по-
ру этих империй, что именно за этими отношениями —
будущее.
Мы
называем эти новые для того времени отношения феодальными.
Второй из крупнейших революционных поворотов истории — круше-
ние
мира, называемого нами «средневековым обществом». В социально-
экономическом аспекте это был в общем мир феодального строя. В свое
время он как господствующая мировая система
рухнул.
Из крупных
стран, в которых этот поворот произошел ранее
других,
главными были
Англия и Франция. В Англии это было в
XVII
в., во Франции — в
XVIII
в.
События показали, что наступал исторический черед тех социально-экономи-
ческих отношений, которые понемногу уже складывались раньше. Мы назы-
ваем эти отношения капиталистическими.
Третий революционный поворот всемирно-исторического значения прои-
зошел в XX в. Он означал начало крушения капиталистического строя как
господствующей мировой системы; он показал, что
будущее
принадлежит
тем новым социально-экономическим отношениям, которые стали вырисо-
вываться еще в условиях капиталистического общества. Мы называем эти
отношения социалистическими, считая при этом, что социализм является
первой фазой коммунизма.
293
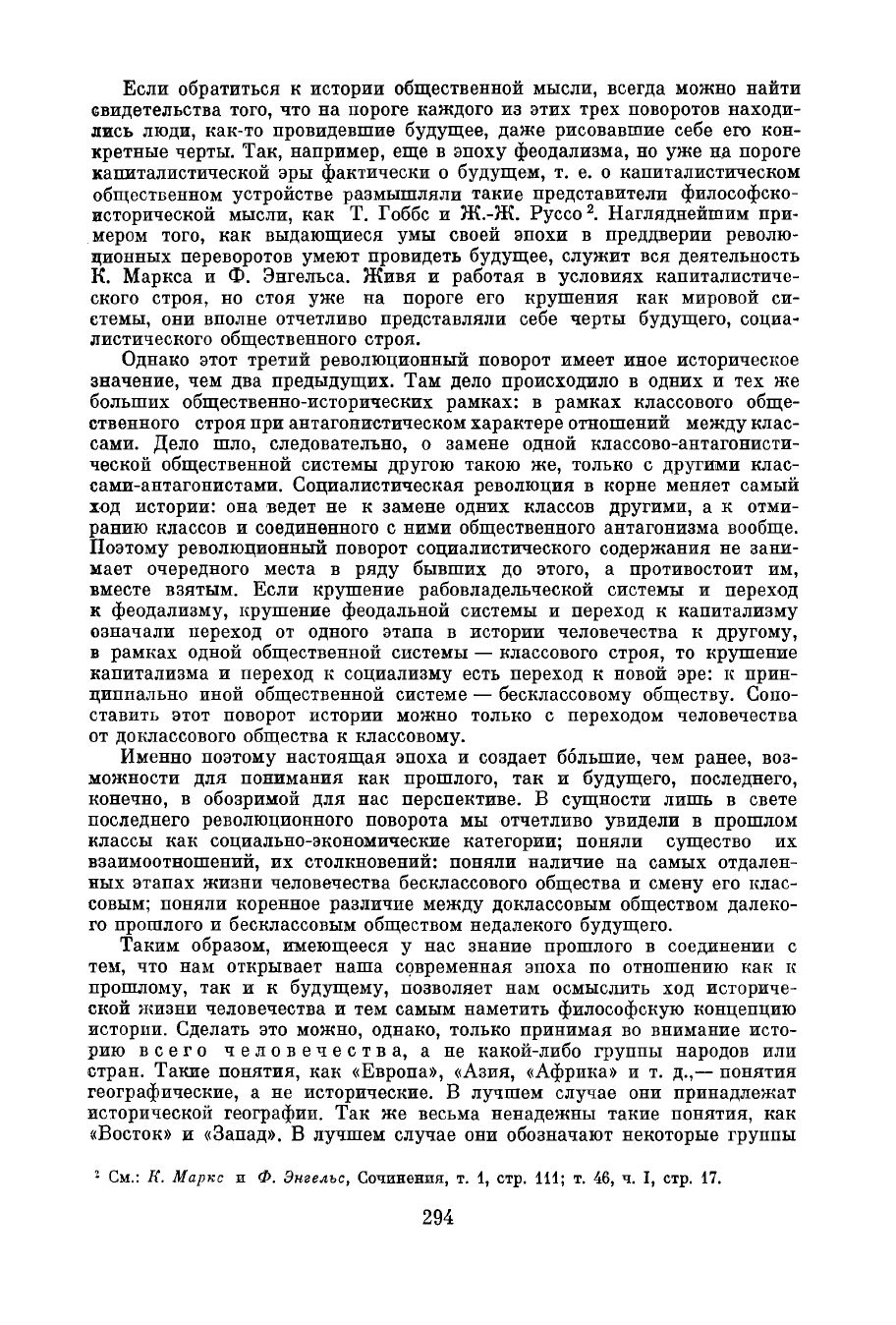
Если
обратиться к истории общественной мысли, всегда можно найти
свидетельства того, что на пороге каждого из этих
трех
поворотов находи-
лись люди, как-то провидевшие
будущее,
даже
рисовавшие себе его кон-
кретные черты. Так, например, еще в эпоху феодализма, но уже на пороге
капиталистической эры фактически о
будущем,
т. е. о капиталистическом
общественном устройстве размышляли такие представители философско-
исторической мысли, как Т. Гоббс и Ж.-Ж. Руссо
2
. Нагляднейпшм при-
мером того, как выдающиеся умы своей эпохи в преддверии револю-
ционных
переворотов
умеют
провидеть
будущее,
служит вся деятельность
К.
Маркса и Ф. Энгельса. Живя и работая в условиях капиталистиче-
ского строя, но стоя уже на пороге его крушения как мировой си-
стемы, они вполне отчетливо представляли себе черты
будущего,
социа-
листического общественного строя.
Однако этот третий революционный поворот имеет иное историческое
значение,
чем два предыдущих. Там дело происходило в одних и тех же
больших общественно-исторических рамках: в рамках классового обще-
ственного строя при антагонистическом характере отношений
между
клас-
сами.
Дело шло, следовательно, о замене одной классово-антагонисти-
ческой общественной системы
другою
такою же, только с другими клас-
сами-антагонистами. Социалистическая революция в корне меняет самый
ход истории: она
ведет
не к замене одних классов другими, а к отми-
ранию
классов и соединенного с ними общественного антагонизма вообще.
Поэтому революционный поворот социалистического содержания не зани-
мает очередного места в ряду бывших до этого, а противостоит им,
вместе взятым. Если крушение рабовладельческой системы и переход
к
феодализму, крушение феодальной системы и переход к капитализму
означали переход от одного этапа в истории человечества к
другому,
в
рамках одной общественной системы — классового строя, то крушение
капитализма и переход к социализму есть переход к новой эре: к
прин-
ципиально
иной общественной системе — бесклассовому обществу. Сопо-
ставить этот поворот истории можно только с переходом человечества
от доклассового общества к классовому.
Именно
поэтому настоящая эпоха и создает большие, чем ранее, воз-
можности для понимания как прошлого, так и
будущего,
последнего,
конечно,
в обозримой для нас перспективе. В сущности лишь в свете
последнего революционного поворота мы отчетливо увидели в прошлом
классы как социально-экономические категории; поняли существо их
взаимоотношений,
их столкновений: поняли наличие на самых отдален-
ных этапах жизни человечества бесклассового общества и смену его клас-
совым; поняли коренное различие
между
доклассовым обществом далеко-
го прошлого и бесклассовым обществом недалекого
будущего.
Таким
образом, имеющееся у нас знание прошлого в соединении с
тем, что нам открывает наша современная эпоха по отношению как к
прошлому, так и к
будущему,
позволяет нам осмыслить ход историче-
ской
жизни человечества и тем самым наметить философскую концепцию
истории.
Сделать это можно, однако, только принимая во внимание исто-
рию всего человечества, а не какой-либо группы народов или
стран.
Такие понятия, как «Европа»,
«Азия,
«Африка»
и т. д.,— понятия
географические, а не исторические. В лучшем
случае
они принадлежат
исторической географии. Так же весьма ненадежны такие понятия, как
«Восток»
и
«Запад».
В лучшем
случае
они обозначают некоторые группы
2
См.: К.
Маркс
и Ф.
Энгельс,
Сочинения, т. 1, стр. 111; т. 46, ч. I, стр. 17.
294
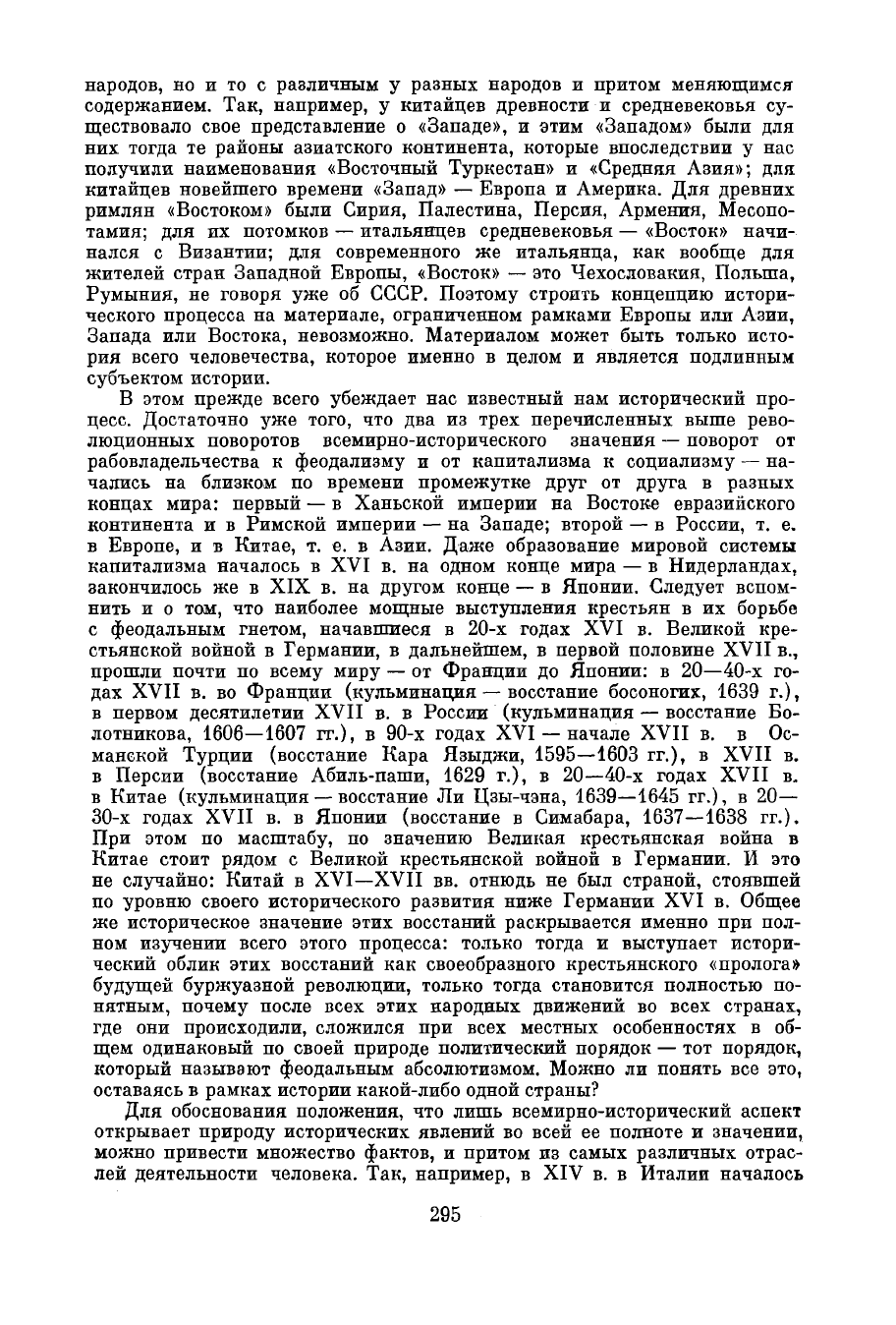
народов, но и то с различным у разных народов и притом меняющимся
содержанием. Так, например, у китайцев древности и средневековья су-
ществовало свое представление о
«Западе»,
и этим
«Западом»
были для
них
тогда
те районы азиатского континента, которые впоследствии у нас
получили наименования «Восточный Туркестан» и «Средняя Азия»; для
китайцев
новейшего времени
«Запад»
— Европа и Америка. Для древних
римлян
«Востоком»
были Сирия, Палестина, Персия, Армения, Месопо-
тамия;
для их потомков — итальянцев средневековья —
«Восток»
начи-
нался
с Византии; для современного же итальянца, как вообще для
жителей стран Западной Европы,
«Восток»
— это Чехословакия, Польша,
Румыния,
не говоря уже об
СССР.
Поэтому строить концепцию истори-
ческого процесса на материале, ограниченном рамками Европы или Азии,
Запада или Востока, невозможно. Материалом может быть только исто-
рия
всего человечества, которое именно в целом и является подлинным
субъектом истории.
В этом прежде всего
убеждает
нас известный нам исторический про-
цесс.
Достаточно уже того, что два из
трех
перечисленных выше рево-
люционных поворотов всемирно-исторического значения — поворот от
рабовладельчества к феодализму и от капитализма к социализму — на-
чались на близком по времени промежутке
друг
от
друга
в разных
концах
мира: первый — в Ханьской империи на Востоке евразийского
континента
и в Римской империи — на Западе; второй — в России, т. е.
в
Европе, и в Китае, т. е. в Азии. Даже образование мировой системы
капитализма началось в XVI в. на одном конце мира — в Нидерландах,
закончилось
же в XIX в. на
другом
конце — в Японии.
Следует
вспом-
нить
и о том, что наиболее мощные выступления крестьян в их борьбе
с феодальным гнетом, начавшиеся в 20-х
годах
XVI в. Великой кре-
стьянской
войной в Германии, в дальнейшем, в первой половине
XVII
в.,
прошли
почти по всему миру — от Франции до Японии: в
20—40-х
го-
дах
XVII
в. во Франции (кульминация — восстание босоногих, 1639 г.),
в
первом десятилетии
XVII
в. в России (кульминация — восстание Бо-
лотникова,
1606—1607
гг.), в 90-х
годах
XVI — начале
XVII
в. в Ос-
манской
Турции (восстание Кара Языджи,
1595—1603
гг.), в
XVII
в.
в
Персии (восстание Абиль-паши, 1629 г.), в
20—40-х
годах
XVII
в.
в
Китае (кульминация — восстание Ли Цзы-чэна,
1639—1645
гг.), в 20—
30-х
годах
XVII
в. в Японии (восстание в Симабара,
1637—1638
гг.).
При
этом по масштабу, по значению Великая крестьянская война в
Китае
стоит рядом с Великой крестьянской войной в Германии. И это
не
случайно: Китай в
XVI—XVII
вв. отнюдь не был страной, стоявшей
по
уровню своего исторического развития ниже Германии XVI в. Общее
же историческое значение этих восстаний раскрывается именно при пол-
ном
изучении всего этого процесса: только
тогда
и выступает истори-
ческий
облик этих восстаний как своеобразного крестьянского
«пролога»
будущей
буржуазной революции, только
тогда
становится полностью по-
нятным,
почему после
всех
этих народных движений во
всех
странах,
где они происходили, сложился при
всех
местных особенностях в об-
щем одинаковый по своей природе политический порядок — тот порядок,
который
называют феодальным абсолютизмом. Можно ли понять все это,
оставаясь в рамках истории какой-либо одной страны?
Для обоснования положения, что лишь всемирно-исторический аспект
открывает природу исторических явлений во всей ее полноте и значении,
можно привести множество фактов, и притом из самых различных отрас-
лей деятельности человека. Так, например, в XIV в. в Италии началось
295
