Конрад Н.И. Избранные труды. История
Подождите немного. Документ загружается.

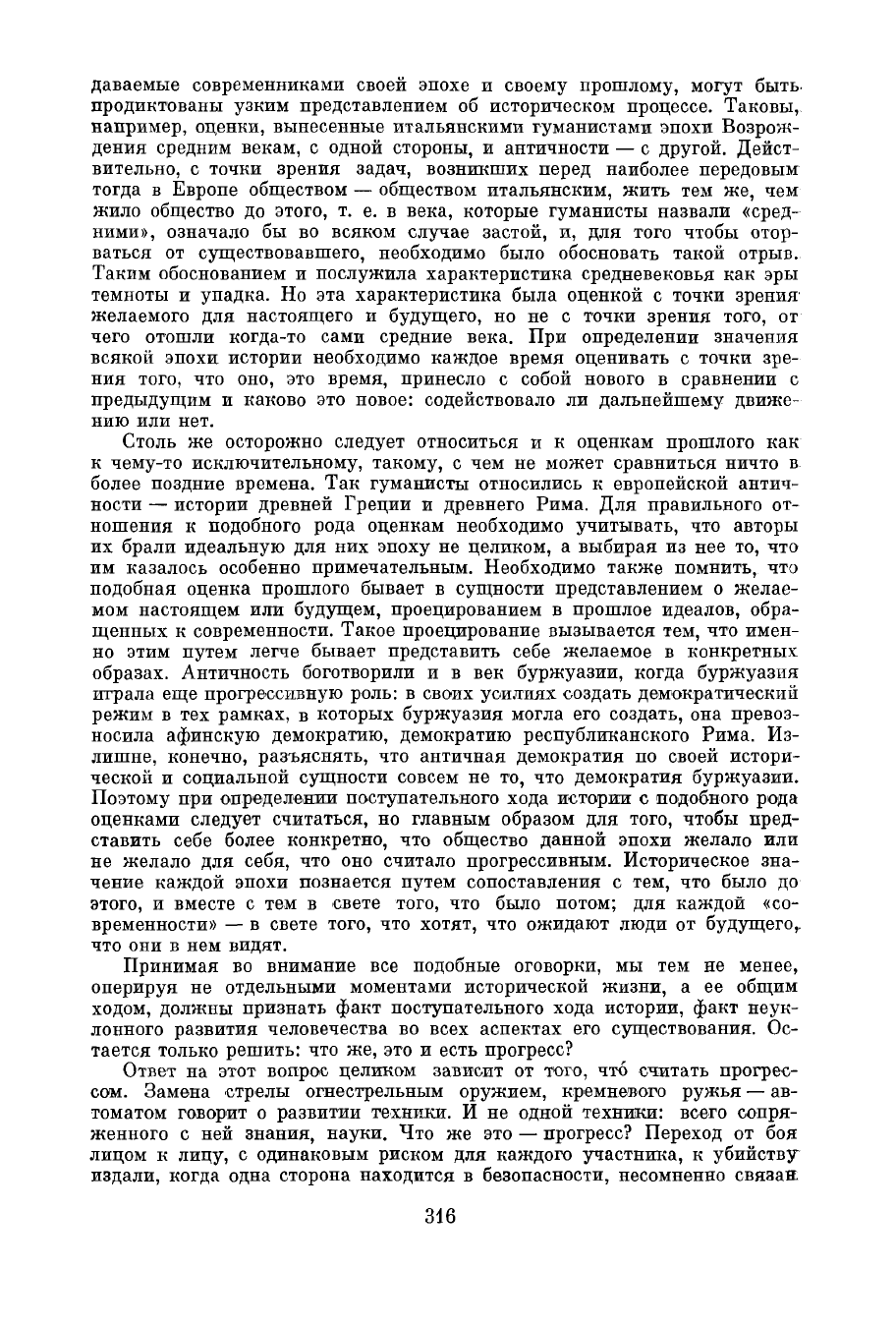
даваемые современниками своей эпохе и своему прошлому,
могут
быть-
продиктованы узким представлением об историческом процессе. Таковы,
например,
оценки, вынесенные итальянскими гуманистами эпохи Возрож-
дения
средним векам, с одной стороны, и античности — с другой. Дейст-
вительно, с точки зрения задач, возникших перед наиболее передовым
тогда
в Европе обществом — обществом итальянским, жить тем же, чем
жило общество до этого, т. е. в века, которые гуманисты назвали
«сред-
ними»,
означало бы во всяком
случае
застой, и, для того чтобы отор-
ваться от существовавшего, необходимо было обосновать такой отрыв.
Таким
обоснованием и послужила характеристика средневековья как эры
темноты и упадка. Но эта характеристика была оценкой с точки зрения
желаемого для настоящего и
будущего,
но не с точки зрения того, от
чего отошли когда-то сами средние века. При определении значения
всякой
эпохи истории необходимо каждое время оценивать с точки зре-
ния
того, что оно, это время, принесло с собой нового в сравнении с
предыдущим и каково это новое: содействовало ли дальнейшему движе-
нию
или нет.
Столь же осторожно
следует
относиться и к оценкам прошлого как
к
чему-то
исключительному, такому, с чем не может сравниться ничто в
более поздние времена. Так гуманисты относились к европейской антич-
ности
— истории древней Греции и древнего Рима. Для правильного от-
ношения
к подобного рода оценкам необходимо учитывать, что авторы
их брали идеальную для них эпоху не целиком, а выбирая из нее то, что
им
казалось особенно примечательным. Необходимо также помнить, что
подобная оценка прошлого бывает в сущности представлением о желае-
мом настоящем или
будущем,
проецированием в прошлое идеалов, обра-
щенных к современности. Такое проецирование вызывается тем, что имен-
но
этим путем
легче
бывает представить себе желаемое в конкретных
образах. Античность боготворили и в век буржуазии, когда буржуазия
играла еще прогрессивную роль: в своих усилиях создать демократический
режим в тех рамках, в которых буржуазия могла его создать, она превоз-
носила
афинскую демократию, демократию республиканского Рима. Из-
лишне,
конечно, разъяснять, что античная демократия по своей истори-
ческой и социальной сущности совсем не то, что демократия буржуазии.
Поэтому при определении поступательного
хода
истории с подобного рода
оценками
следует
считаться, но главным образом для того, чтобы пред-
ставить себе более конкретно, что общество данной эпохи желало или
не
желало для себя, что оно считало прогрессивным. Историческое зна-
чение каждой эпохи познается путем сопоставления с тем, что было до
этого,
и вместе с тем в свете того, что было потом; для каждой «со-
временности» — в свете того, что хотят, что ожидают люди от
будущего,,
что они в нем видят.
Принимая
во внимание все подобные оговорки, мы тем не менее,
оперируя не отдельными моментами исторической жизни, а ее общим
ходом, должны признать факт поступательного
хода
истории, факт неук-
лонного развития человечества во
всех
аспектах его существования. Ос-
тается только решить: что же, это и есть прогресс?
Ответ на этот вопрос целиком зависит от того, что считать прогрес-
сом.
Замена стрелы огнестрельным оружием, кремневого ружья — ав-
томатом говорит о развитии техники. И не одной техники: всего сопря-
женного с ней
знания,
науки. Что же это — прогресс? Переход от боя
лицом
к лицу, с одинаковым риском для каждого участника, к убийству
издали, когда одна сторона находится в безопасности, несомненно связан.
316
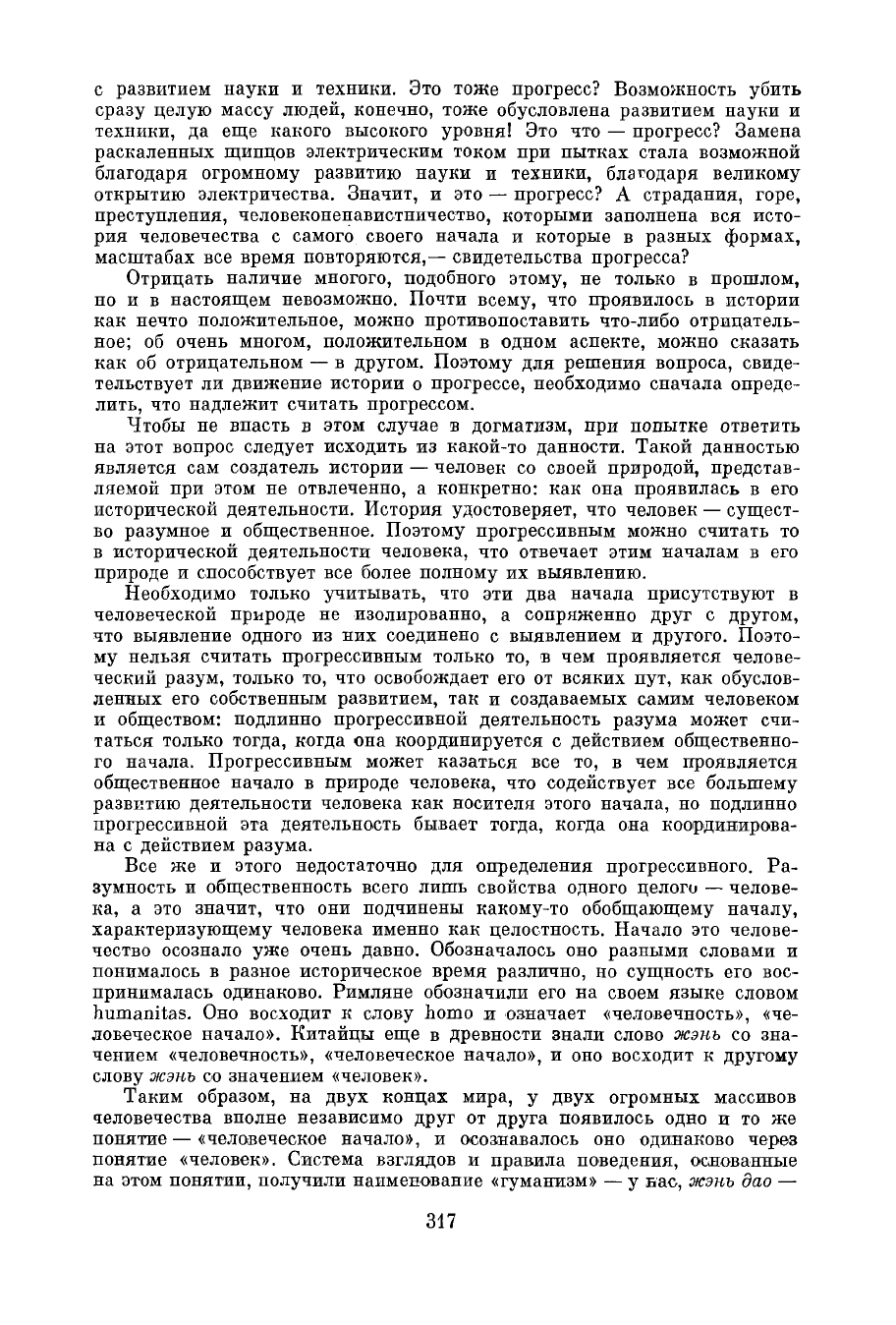
с развитием науки и техники. Это тоже прогресс? Возможность убить
сразу целую массу людей, конечно, тоже обусловлена развитием науки и
техники, да еще какого высокого уровня! Это что — прогресс? Замена
раскаленных щипцов электрическим током при пытках стала возможной
благодаря огромному развитию науки и техники, благодаря великому
открытию электричества. Значит, и это — прогресс? А страдания, горе,
преступления, человеконенавистничество, которыми заполнена вся исто-
рия
человечества с самого своего начала и которые в разных формах,
масштабах все время повторяются,— свидетельства прогресса?
Отрицать наличие многого, подобного этому, не только в прошлом,
но
и в настоящем невозможно. Почти всему, что проявилось в истории
как
нечто положительное, можно противопоставить что-либо отрицатель-
ное;
об очень многом, положительном в одном аспекте, можно сказать
как
об отрицательном — в другом. Поэтому для решения вопроса, свиде-
тельствует
ли движение истории о прогрессе, необходимо сначала опреде-
лить, что надлежит считать прогрессом.
Чтобы не впасть в этом
случае
в догматизм, при попытке ответить
на
этот вопрос
следует
исходить из какой-то данности. Такой данностью
является сам создатель истории — человек со своей природой, представ-
ляемой
при этом не отвлеченно, а конкретно: как она проявилась в его
исторической деятельности. История удостоверяет, что человек — сущест-
во разумное и общественное. Поэтому прогрессивным можно считать то
в
исторической деятельности человека, что отвечает этим началам в его
природе и способствует все более полному их выявлению.
Необходимо только учитывать, что эти два начала присутствуют в
человеческой природе не изолированно, а сопряженно
друг
с другом,
что выявление одного из них соединено с выявлением и
другого.
Поэто-
му нельзя считать прогрессивным только то, в чем проявляется челове-
ческий
разум, только то, что освобождает его от всяких пут, как обуслов-
ленных его собственным развитием, так и создаваемых самим человеком
и
обществом: подлинно прогрессивной деятельность разума может счи-
таться только
тогда,
когда она координируется с действием общественно-
го начала. Прогрессивным может казаться все то, в чем проявляется
общественное начало в природе человека, что содействует все большему
развитию деятельности человека как носителя этого начала, но подлинно
прогрессивной эта деятельность бывает
тогда,
когда она координирова-
на
с действием разума.
Все же и этого недостаточно для определения прогрессивного. Ра-
зумность и общественность всего лишь свойства одного целого — челове-
ка,
а это значит, что они подчинены какому-то обобщающему началу,
характеризующему человека именно как целостность. Начало это челове-
чество осознало уже очень давно. Обозначалось оно разными словами и
понималось
в разное историческое время различно, но сущность его вос-
принималась
одинаково. Римляне обозначили его на своем языке словом
humanitas. Оно восходит к слову homo и означает «человечность», «че-
ловеческое начало». Китайцы еще в древности знали слово
жэнъ
со зна-
чением «человечность», «человеческое начало», и оно восходит к
другому
слову
жэнъ
со значением
«человек».
Таким
образом, на
двух
концах мира, у
двух
огромных массивов
человечества вполне независимо
друг
от
друга
появилось одно и то же
понятие
— «человеческое начало», и осознавалось оно одинаково через
понятие
«человек».
Система взглядов и правила поведения, основанные
на
этом понятии, получили наименование
«гуманизм»
— у нас,
жэнъ
дао —
317
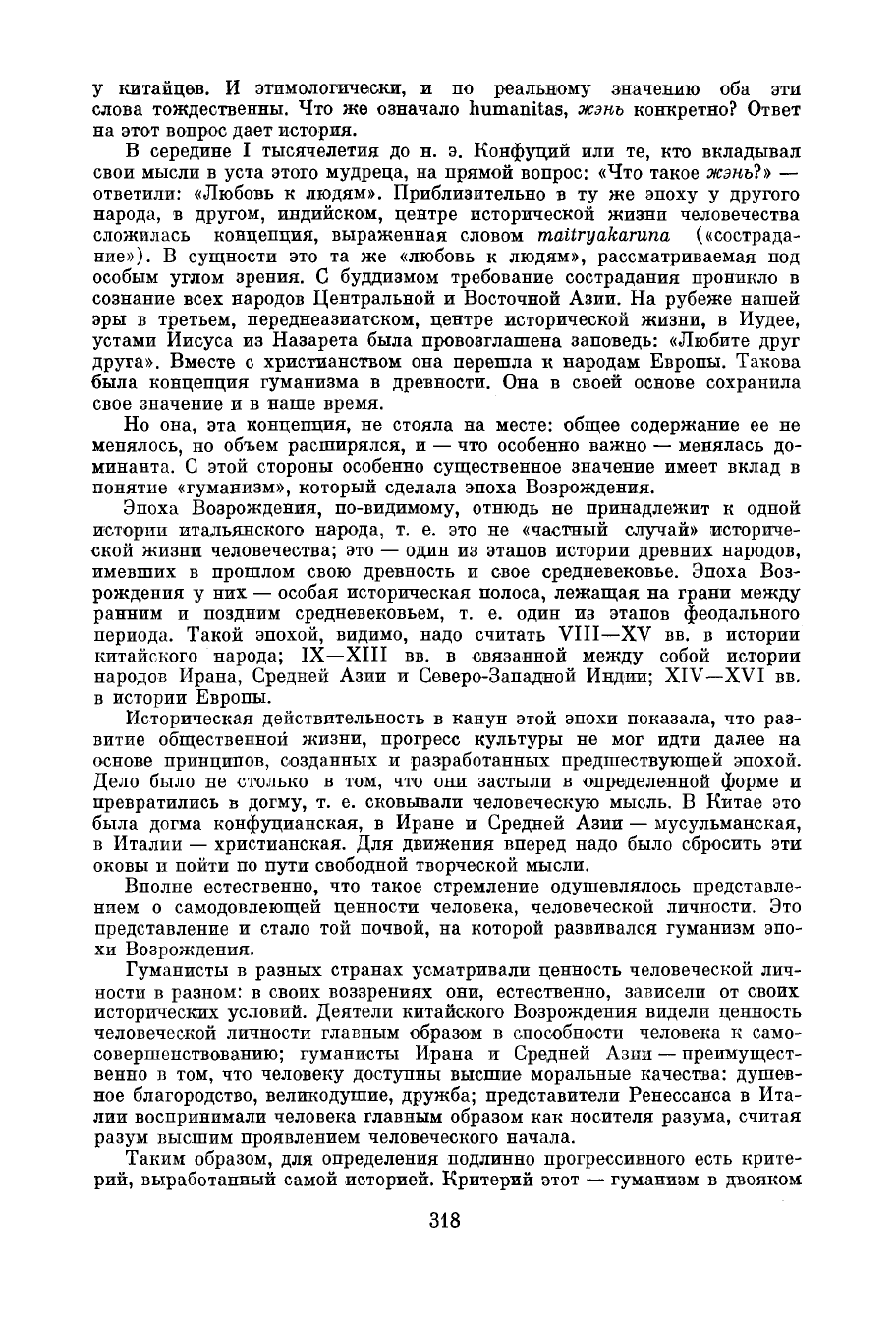
у китайцев.
И
этимологически,
и по
реальному значению
оба эти
слова тождественны.
Что же
означало humanitas,
жэнъ
конкретно? Ответ
на
этот вопрос
дает
история.
В середине
I
тысячелетия
до н. э.
Конфуций
или те, кто
вкладывал
свои мысли
в
уста
этого мудреца,
на
прямой вопрос:
«Что
такое
жэнъ?» —
ответили:
«Любовь
к
людям». Приблизительно
в ту же
эпоху
у
другого
народа,
в
другом, индийском, центре исторической жизни человечества
сложилась концепция, выраженная словом
maitryakaruna
(«сострада-
ние»).
В
сущности
это та же
«любовь
к
людям», рассматриваемая
под
особым
углом
зрения.
С
буддизмом требование сострадания проникло
в
сознание
всех
народов Центральной
и
Восточной Азии.
На
рубеже
нашей
эры
в
третьем, переднеазиатском, центре исторической жизни,
в
Иудее,
устами Иисуса
из
Назарета была провозглашена заповедь:
«Любите
друг
друга».
Вместе
с
христианством
она
перешла
к
народам Европы. Такова
была концепция гуманизма
в
древности.
Она в
своей основе сохранила
свое значение
и в
наше время.
Но
она, эта
концепция,
не
стояла
на
месте: общее содержание
ее не
менялось,
но
объем расширялся,
и — что
особенно важно
—
менялась
до-
минанта.
С
этой стороны особенно существенное значение имеет вклад
в
понятие
«гуманизм», который сделала эпоха Возрождения.
Эпоха Возрождения, по-видимому, отнюдь
не
принадлежит
к
одной
истории
итальянского народа,
т. е. это не
«частный
случай»
историче-
ской
жизни человечества;
это —
один
из
этапов истории древних народов,
имевших
в
прошлом свою древность
и
свое средневековье. Эпоха
Воз-
рождения
у них —
особая историческая полоса, лежащая
на
грани
между
ранним
и
поздним средневековьем,
т. е.
один
из
этапов феодального
периода. Такой эпохой, видимо, надо считать
VIII—XV
вв. в
истории
китайского народа; IX—XIII
вв. в
связанной
между
собой истории
народов Ирана, Средней Азии
и
Северо-Западной
Индии;
XIV—XVI вв.
в
истории Европы.
Историческая
действительность
в
канун этой эпохи показала,
что раз-
витие общественной жизни, прогресс культуры
не мог
идти далее
на
основе принципов, созданных
и
разработанных предшествующей эпохой.
Дело было
не
столько
в том, что они
застыли
в
определенной форме
и
превратились
в
догму,
т. е.
сковывали человеческую мысль.
В
Китае
это
была догма конфуцианская,
в
Иране
и
Средней Азии
—
мусульманская,
в
Италии
—
христианская.
Для
движения вперед надо было сбросить
эти
оковы
и
пойти
по
пути свободной творческой мысли.
Вполне естественно,
что
такое стремление одушевлялось представле-
нием
о
самодовлеющей ценности человека, человеческой личности.
Это
представление
и
стало
той
почвой,
на
которой развивался гуманизм
эпо-
хи Возрождения.
Гуманисты
в
разных странах усматривали ценность человеческой
лич-
ности
в
разном:
в
своих воззрениях
они,
естественно, зависели
от
своих
исторических условий. Деятели китайского Возрождения видели ценность
человеческой личности главным образом
в
способности человека
к
само-
совершенствованию; гуманисты Ирана
и
Средней Азии
—
преимущест-
венно
в том, что
человеку доступны высшие моральные качества: душев-
ное
благородство, великодушие,
дружба;
представители Ренессанса
в Ита-
лии
воспринимали человека главным образом
как
носителя разума, считая
разум высшим проявлением человеческого начала.
Таким
образом,
для
определения подлинно прогрессивного есть крите-
рий,
выработанный самой историей. Критерий этот
—
гуманизм
в
двояком
318
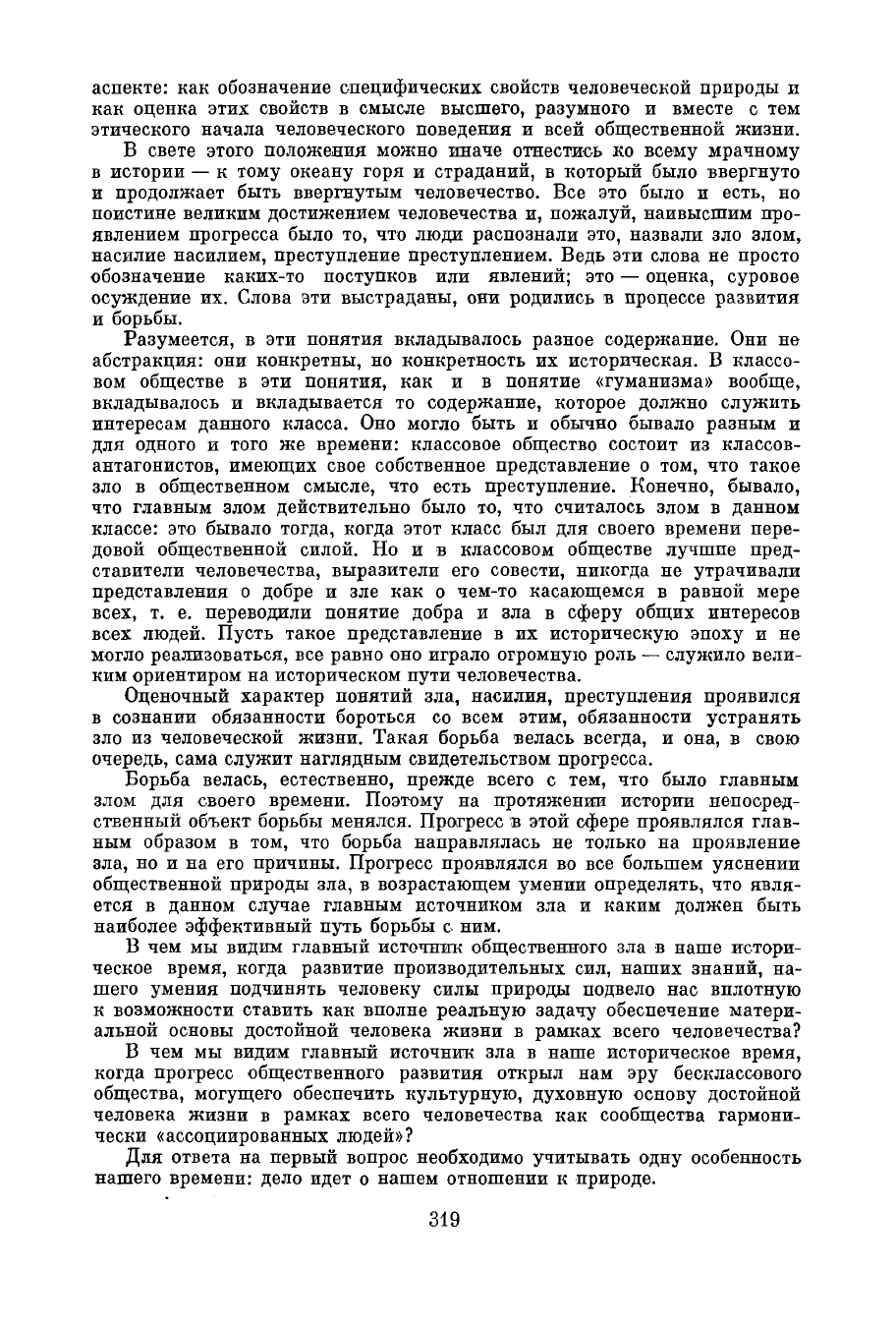
аспекте: как обозначение специфических свойств человеческой природы и
как
оценка этих свойств в смысле высшего, разумного и вместе с тем
этического начала человеческого поведения и всей общественной жизни.
В свете этого положения можно иначе отнестись ко всему мрачному
в
истории — к тому океану горя и страданий, в который было ввергнуто
и
продолжает быть ввергнутым человечество. Все это было и есть, но
поистине
великим достижением человечества и, пожалуй, наивысшим про-
явлением
прогресса было то, что люди распознали это, назвали зло злом,
насилие
насилием, преступление преступлением.
Ведь
эти слова не просто
обозначение каких-то поступков или явлений; это — оценка, суровое
осуждение их. Слова эти выстраданы, они родились в процессе развития
и
борьбы.
Разумеется, в эти понятия вкладывалось разное содержание. Они не
абстракция:
они конкретны, но конкретность их историческая. В классо-
вом обществе в эти понятия, как и в понятие
«гуманизма»
вообще,
вкладывалось и вкладывается то содержание, которое должно служить
интересам данного класса. Оно могло быть и обычно бывало разным и
для одного и того же времени: классовое общество состоит из классов-
антагонистов, имеющих свое собственное представление о том, что такое
зло в общественном смысле, что есть преступление. Конечно, бывало,
что главным злом действительно было то, что считалось злом в данном
классе:
это бывало
тогда,
когда этот класс был для своего времени пере-
довой общественной силой. Но и в классовом обществе лучшие пред-
ставители человечества, выразители его совести, никогда не утрачивали
представления о добре и зле как о чем-то касающемся в равной мере
всех,
т. е. переводили понятие добра и зла в сферу общих интересов
всех
людей. Пусть такое представление в их историческую эпоху и не
могло реализоваться, все равно оно играло огромную роль — служило вели-
ким
ориентиром на историческом пути человечества.
Оценочный
характер понятий зла, насилия, преступления проявился
в
сознании обязанности бороться со всем этим, обязанности устранять
зло из человеческой жизни. Такая борьба велась всегда, и она, в свою
очередь, сама служит наглядным свидетельством прогресса.
Борьба велась, естественно, прежде всего с тем, что было главным
злом для своего времени. Поэтому на протяжении истории непосред-
ственный
объект борьбы менялся. Прогресс в этой сфере проявлялся глав-
ным
образом в том, что борьба направлялась не только на проявление
зла, но и на его причины. Прогресс проявлялся во все большем уяснении
общественной природы зла, в возрастающем умении определять, что явля-
ется в данном
случае
главным источником зла и каким должен быть
наиболее эффективный путь борьбы с ним.
В чем мы видим главный источник общественного зла в наше истори-
ческое время, когда развитие производительных сил, наших знаний, на-
шего умения подчинять человеку силы природы подвело нас вплотную
к
возможности ставить как вполне реальную
задачу
обеспечение матери-
альной основы достойной человека жизни в рамках всего человечества?
В чем мы видим главный источник зла в наше историческое время,
когда прогресс общественного развития открыл нам эру бесклассового
общества, могущего обеспечить культурную,
духовную
основу достойной
человека жизни в рамках всего человечества как сообщества гармони-
чески «ассоциированных
людей»?
Для ответа на первый вопрос необходимо учитывать одну особенность
нашего времени: дело идет о нашем отношении к природе.
319
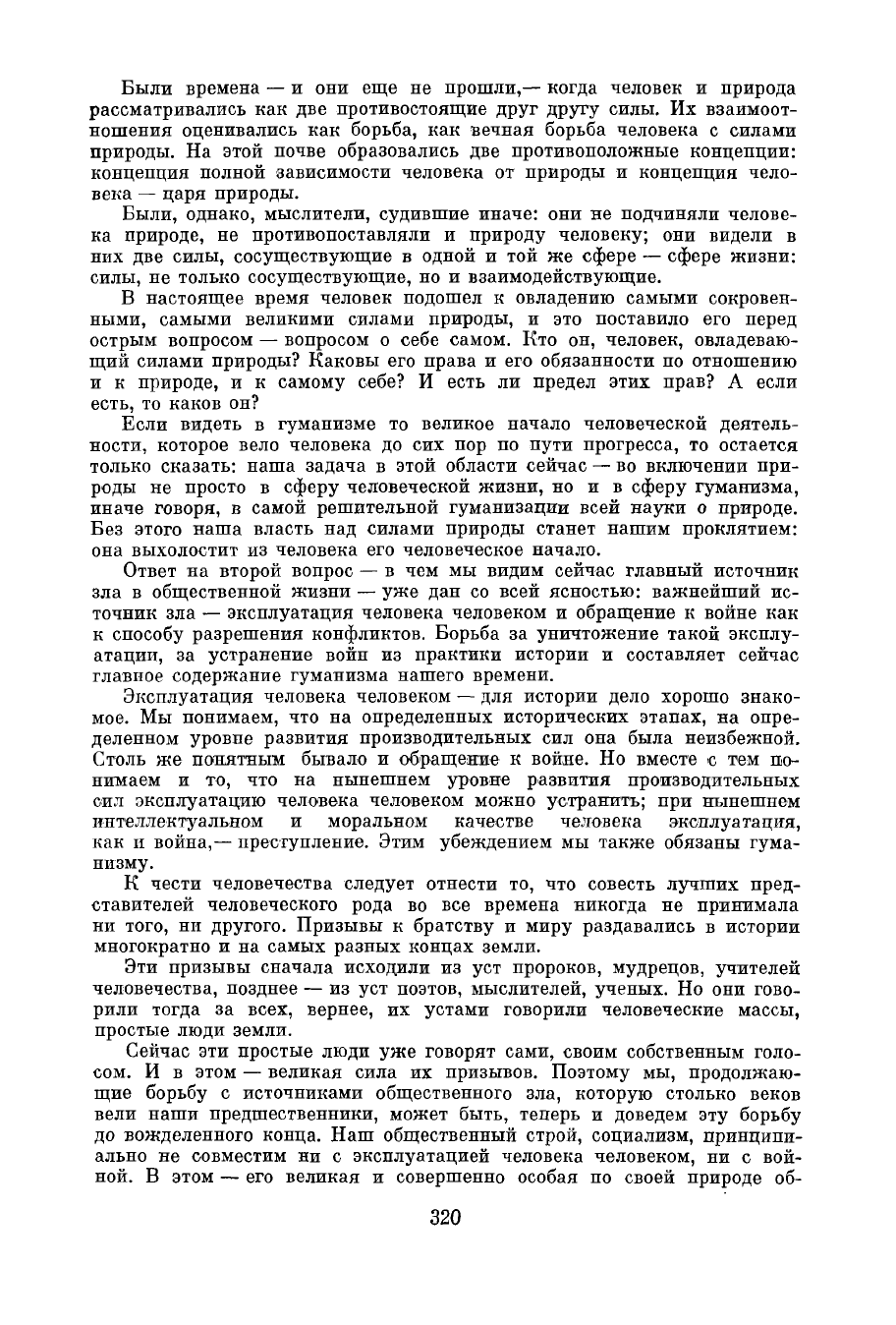
Были
времена — и они еще не прошли,— когда человек и природа
рассматривались как две противостоящие
друг
другу
силы. Их взаимоот-
ношения
оценивались как борьба, как вечная борьба человека с силами
природы. На этой почве образовались две противоположные концепции:
концепция
полной зависимости человека от природы и концепция чело-
века — царя природы.
Были,
однако, мыслители, судившие иначе: они не подчиняли челове-
ка
природе, не противопоставляли и природу человеку; они видели в
них две силы, сосуществующие в одной и той же сфере — сфере жизни:
силы,
не только сосуществующие, но и взаимодействующие.
В настоящее время человек подошел к овладению самыми сокровен-
ными,
самыми великими силами природы, и это поставило его перед
острым вопросом — вопросом о себе самом. Кто он, человек, овладеваю-
щий
силами природы? Каковы его права и его обязанности по отношению
и
к природе, и к самому
себе?
И есть ли предел этих прав? А если
есть, то каков он?
Если
видеть в гуманизме то великое начало человеческой деятель-
ности,
которое вело человека до сих пор по пути прогресса, то остается
только сказать: наша задача в этой области сейчас — во включении при-
роды не просто в сферу человеческой жизни, но и в сферу гуманизма,
иначе говоря, в самой решительной гуманизации всей науки о природе.
Без
этого наша власть над силами природы станет нашим проклятием:
она
выхолостит из человека его человеческое начало.
Ответ на второй вопрос — в чем мы видим сейчас главный источник
зла в общественной жизни — уже дан со всей ясностью: важнейший ис-
точник
зла — эксплуатация человека человеком и обращение к войне как
к
способу разрешения конфликтов. Борьба за уничтожение такой эксплу-
атации,
за устранение войн из практики истории и составляет сейчас
главное содержание гуманизма нашего времени.
Эксплуатация человека человеком — для истории дело хорошо знако-
мое.
Мы понимаем, что на определенных исторических этапах, на опре-
деленном уровне развития производительных сил она была неизбежной.
Столь же понятным бывало и обращение к войне. Но вместе с тем по-
нимаем
и то, что на нынешнем уровне развития производительных
сил эксплуатацию человека человеком можно устранить; при нынешнем
интеллектуальном и моральном качестве человека эксплуатация,
как
и война,— преступление. Этим убеждением мы также обязаны
гума-
низму.
К
чести человечества
следует
отнести то, что совесть лучших пред-
ставителей человеческого рода во все времена никогда не принимала
ни
того, ни
другого.
Призывы к братству и миру раздавались в истории
многократно и на самых разных концах земли.
Эти призывы сначала исходили из уст пророков, мудрецов, учителей
человечества, позднее — из уст поэтов, мыслителей, ученых. Но они гово-
рили
тогда
за
всех,
вернее, их устами говорили человеческие массы,
простые люди земли.
Сейчас эти простые люди уже говорят сами, своим собственным голо-
сом.
И в этом — великая сила их призывов. Поэтому мы, продолжаю-
щие
борьбу с источниками общественного зла, которую столько веков
вели наши предшественники, может быть, теперь и доведем эту борьбу
до вожделенного конца. Наш общественный строй, социализм, принципи-
ально не совместим ни с эксплуатацией человека человеком, ни с вой-
ной.
В этом — его великая и совершенно особая по своей природе об-
320
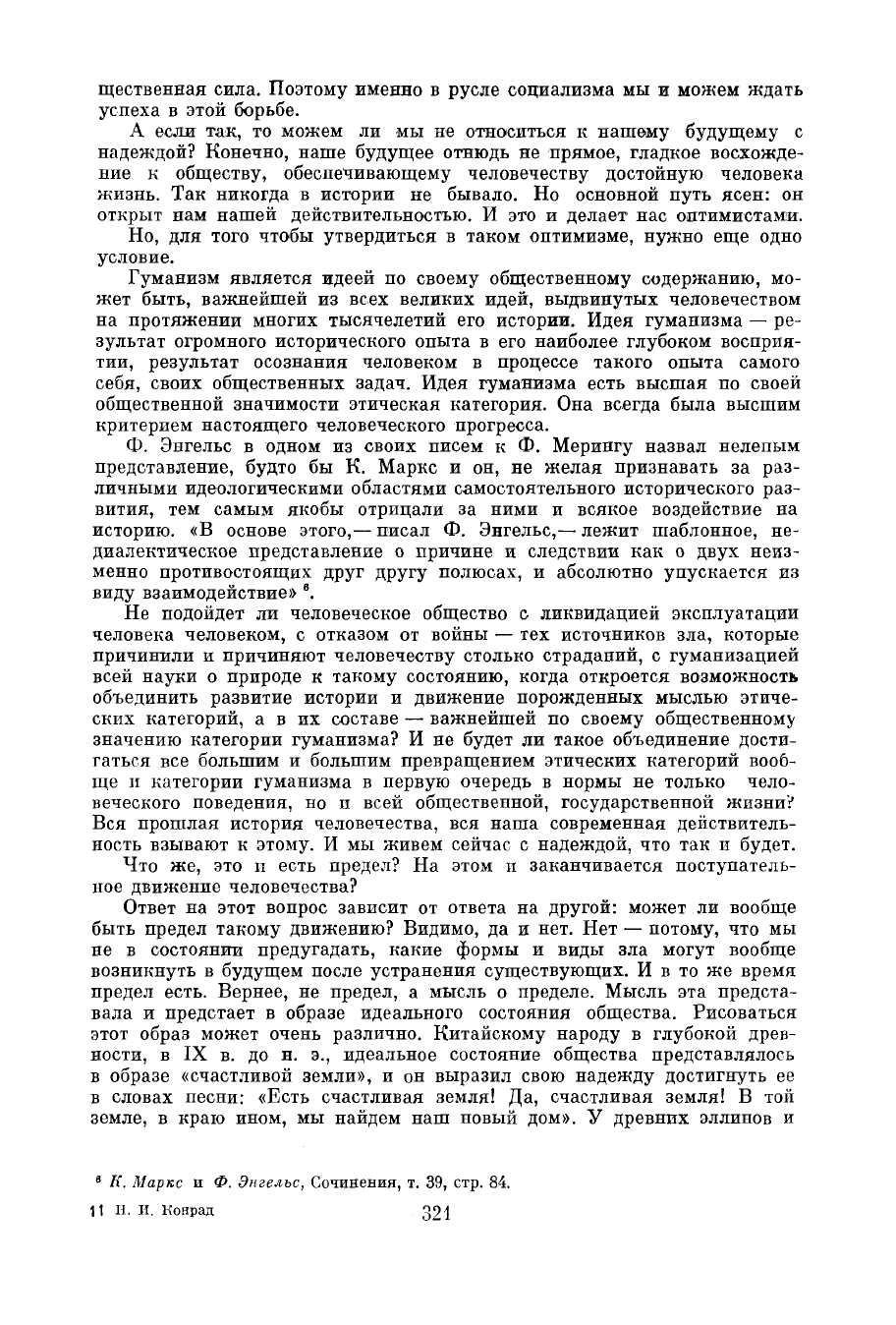
щественная сила. Поэтому именно в
русле
социализма мы и можем ждать
успеха
в этой борьбе.
А если так, то можем ли мы не относиться к нашему
будущему
с
надеждой? Конечно, наше
будущее
отнюдь не прямое, гладкое восхожде-
ние
к обществу, обеспечивающему человечеству достойную человека
жизнь.
Так никогда в истории не бывало. Но основной путь ясен: он
открыт нам нашей действительностью. И это и
делает
нас оптимистами.
Но,
для того чтобы утвердиться в таком оптимизме, нужно еще одно
условие.
Гуманизм является идеей по своему общественному содержанию, мо-
жет быть, важнейшей из
всех
великих идей, выдвинутых человечеством
на
протяжении многих тысячелетий его истории. Идея гуманизма — ре-
зультат
огромного исторического опыта в его наиболее глубоком восприя-
тии,
результат
осознания человеком в процессе такого опыта самого
себя,
своих общественных задач. Идея гуманизма есть высшая по своей
общественной значимости этическая категория. Она всегда была высшим
критерием настоящего человеческого прогресса.
Ф.
Энгельс в одном из своих писем к Ф. Мерингу назвал нелепым
представление,
будто
бы К. Маркс и он, не желая признавать за раз-
личными
идеологическими областями самостоятельного исторического раз-
вития,
тем самым якобы отрицали за ними и всякое воздействие на
историю. «В основе этого,— писал Ф. Энгельс,—лежит шаблонное, не-
диалектическое представление о причине и следствии как о
двух
неиз-
менно
противостоящих
друг
другу
полюсах, и абсолютно упускается из
виду взаимодействие»
6
.
Не
подойдет ли человеческое общество с ликвидацией эксплуатации
человека человеком, с отказом от войны — тех источников зла, которые
причинили
и причиняют человечеству столько страданий, с гуманизацией
всей науки о природе к такому состоянию, когда откроется возможность
объединить развитие истории и движение порожденных мыслью этиче-
ских категорий, а в их составе — важнейшей по своему общественному
значению категории гуманизма? И не
будет
ли такое объединение дости-
гаться все большим и большим превращением этических категорий вооб-
ще и категории гуманизма в первую очередь в нормы не только чело-
веческого поведения, но п всей общественной, государственной жизни?
Вся прошлая история человечества, вся наша современная действитель-
ность взывают к этому. И мы живем сейчас с надеждой, что так и
будет.
Что же, это п есть предел? На этом п заканчивается поступатель-
ное
движение человечества?
Ответ на этот вопрос зависит от ответа на другой: может ли вообще
быть предел такому движению? Видимо, да и нет. Нет — потому, что мы
не
в состоянии предугадать, какие формы и виды зла
могут
вообще
возникнуть в
будущем
после устранения существующих. И в то же время
предел есть. Вернее, не предел, а мысль о пределе. Мысль эта предста-
вала и предстает в образе идеального состояния общества. Рисоваться
этот образ может очень различно. Китайскому народу в глубокой древ-
ности,
в IX в. до н. э., идеальное состояние общества представлялось
в
образе «счастливой земли», и он выразил свою надежду достигнуть ее
в
словах песни: «Есть счастливая земля! Да, счастливая земля! В той
земле, в краю ином, мы найдем наш новый
дом».
У древних эллинов и
а
К.
Маркс
и Ф.
Энгельс,
Сочинения, т. 39, стр. 84.
11 н. и. Конрад 321
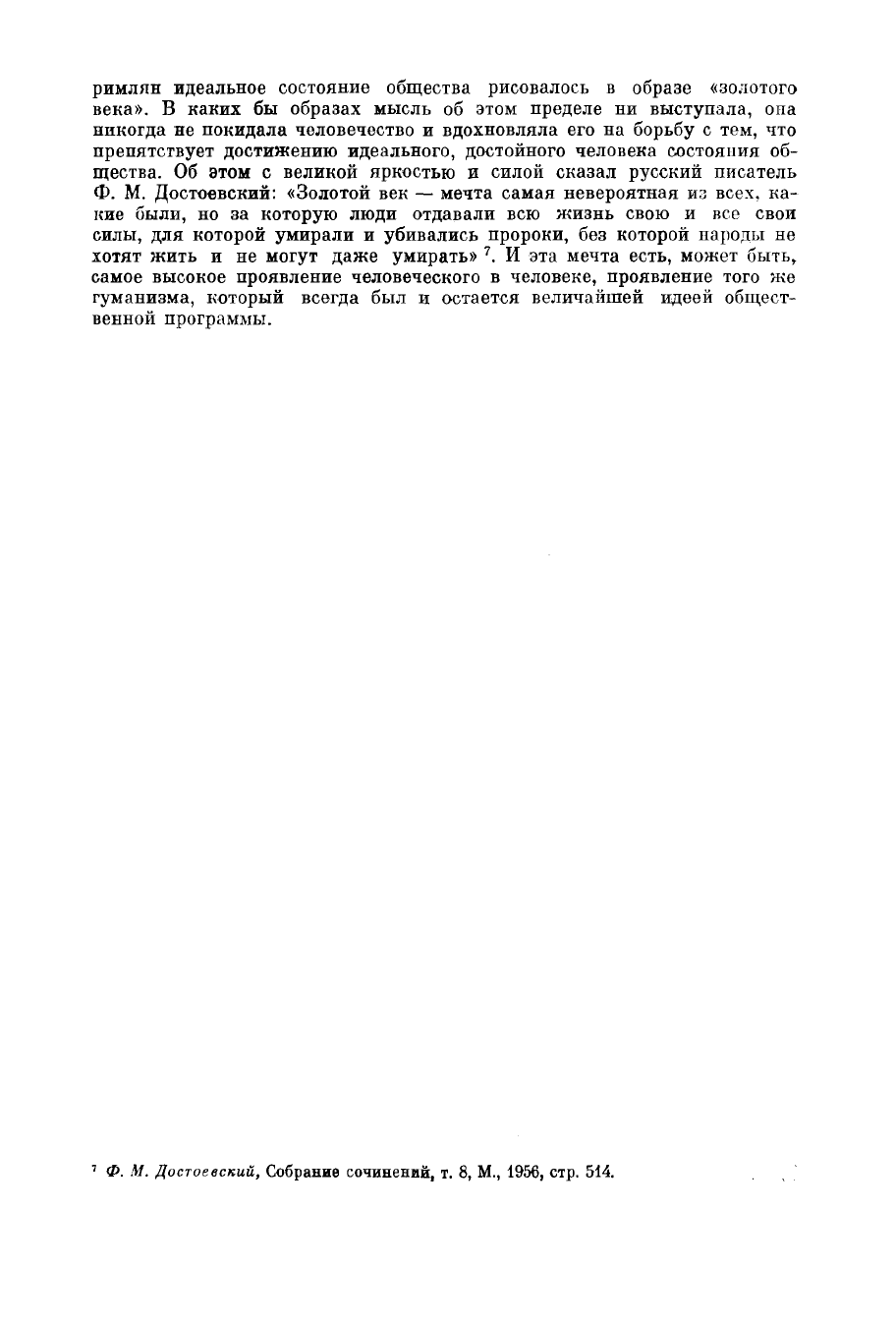
римлян
идеальное состояние общества рисовалось в образе «золотого
века». В каких бы образах мысль об этом пределе ни выступала, она
никогда не покидала человечество и вдохновляла его на борьбу с тем, что
препятствует достижению идеального, достойного человека состояния об-
щества. Об этом с великой яркостью и силой сказал русский писатель
Ф.
М. Достоевский: «Золотой век — мечта самая невероятная из
всех,
ка-
кие
были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои
силы,
для которой умирали и убивались пророки, без которой пароды не
хотят
жить и не
могут
даже
умирать»
7
. И эта мечта есть, может быть,
самое высокое проявление человеческого в человеке, проявление того же
гуманизма, который всегда был и остается величайшей идеей общест-
венной
программы.
7
Ф. М.
Достоевский,
Собрание сочинений, т. 8, М., 1956, стр. 514.
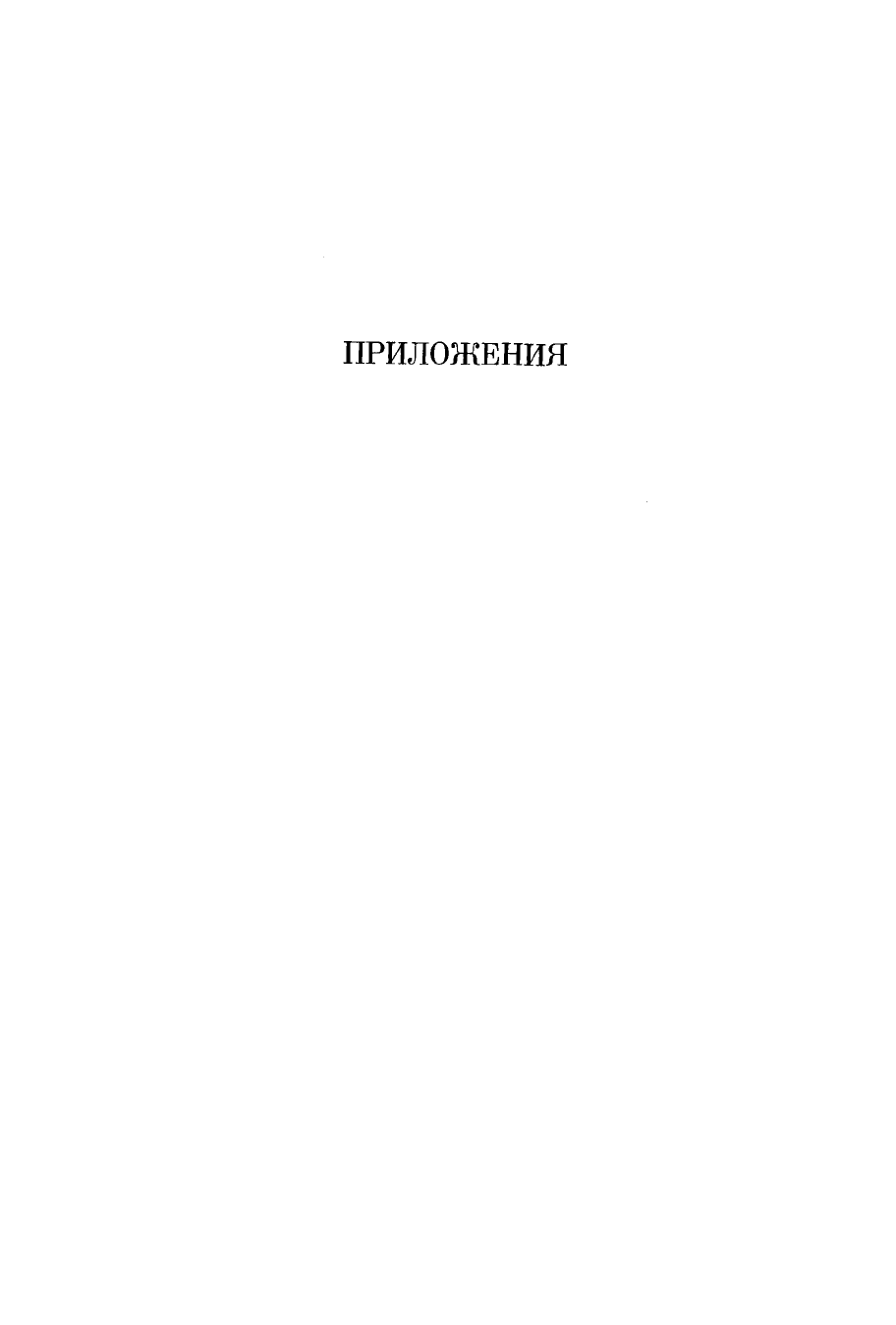
ПРИЛОЖЕНИЯ

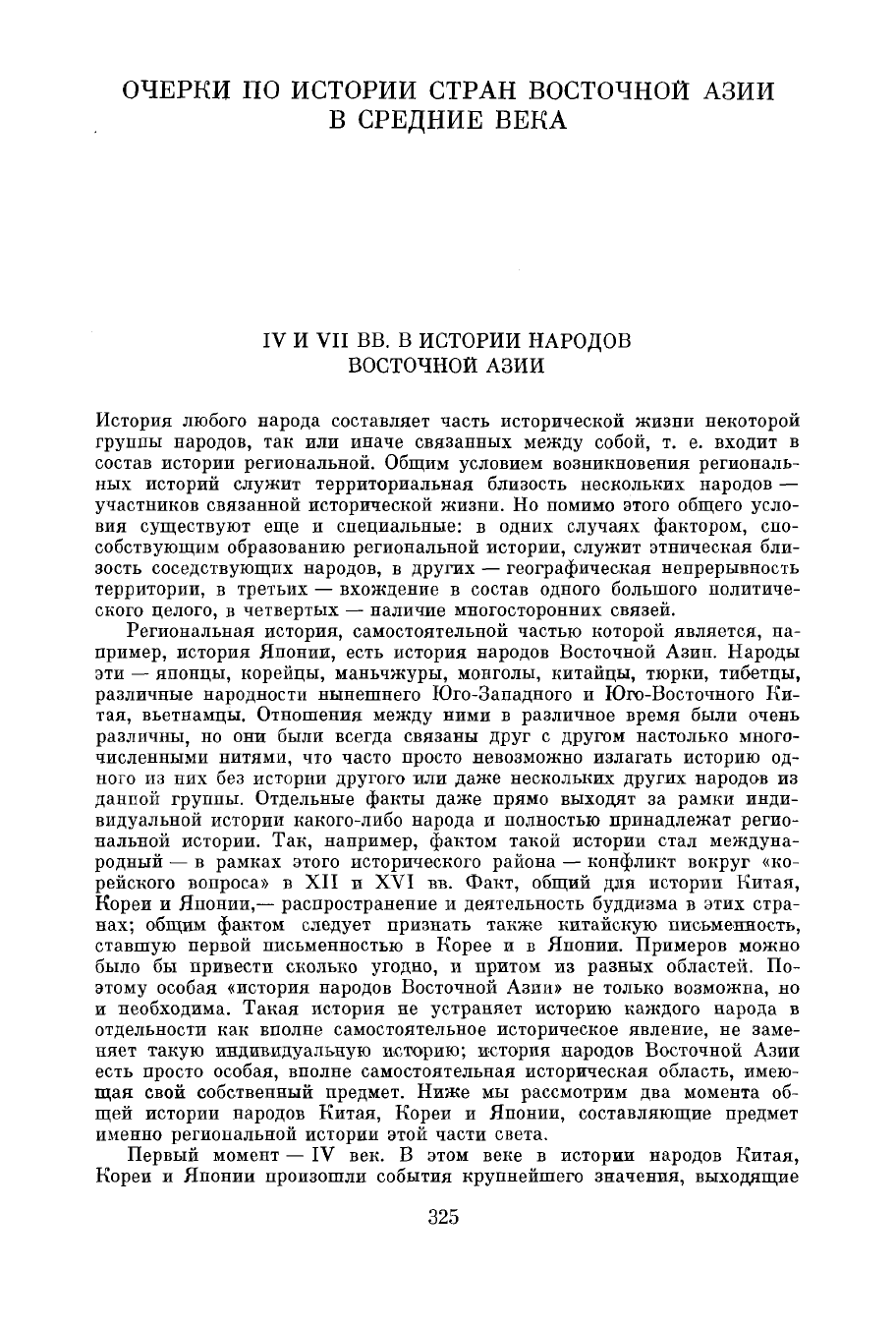
ОЧЕРКИ
ПО
ИСТОРИИ
СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
В СРЕДНИЕ ВЕКА
IV И VII ВВ. В
ИСТОРИИ
НАРОДОВ
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
История
любого народа составляет часть исторической жизни некоторой
группы народов, так или иначе связанных
между
собой, т. е.
входит
в
состав истории региональной. Общим условием возникновения региональ-
ных историй служит территориальная близость нескольких народов —
участников связанной исторической жизни. Но помимо этого общего усло-
вия
существуют
еще и специальные: в одних случаях фактором, спо-
собствующим образованию региональной истории, служит этническая бли-
зость соседствующих народов, в
других
— географическая непрерывность
территории, в третьих — вхождение в состав одного большого политиче-
ского целого, в четвертых — наличие многосторонних связей.
Региональная история, самостоятельной частью которой является, на-
пример, история Японии, есть история народов Восточной Азии. Народы
эти
— японцы, корейцы, маньчжуры, монголы, китайцы, тюрки, тибетцы,
различные народности нынешнего Юго-Западного и Юго-Восточного Ки-
тая, вьетнамцы. Отношения
между
ними в различное время были очень
различны, но они были всегда связаны
друг
с
другом
настолько много-
численными нитями, что часто просто невозможно излагать историю од-
ного из них без истории
другого
или
даже
нескольких
других
народов из
данной группы. Отдельные факты
даже
прямо выходят за рамки инди-
видуальной истории какого-либо народа и полностью принадлежат регио-
нальной истории. Так, например, фактом такой истории стал междуна-
родный — в рамках этого исторического района — конфликт вокруг «ко-
рейского вопроса» в XII и XVI вв. Факт, общий для истории Китая,
Кореи
и Японии,— распространение и деятельность буддизма в этих стра-
нах; общим фактом
следует
признать также китайскую письменность,
ставшую первой письменностью в Корее и в Японии. Примеров можно
было бы привести сколько угодно, и притом из разных областей. По-
этому особая «история народов Восточной
Азии»
не только возможна, но
и
необходима. Такая история не устраняет историю каждого народа в
отдельности как вполне самостоятельное историческое явление, не заме-
няет такую индивидуальную историю; история народов Восточной Азии
есть просто особая, вполне самостоятельная историческая область, имею-
щая
свой собственный предмет. Ниже мы рассмотрим два момента об-
щей истории народов Китая, Кореи и Японии, составляющие предмет
именно
региональной истории этой части света.
Первый момент — IV век. В этом веке в истории народов Китая,
Кореи
и Японии произошли события крупнейшего значения, выходящие
325
