Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции
Подождите немного. Документ загружается.

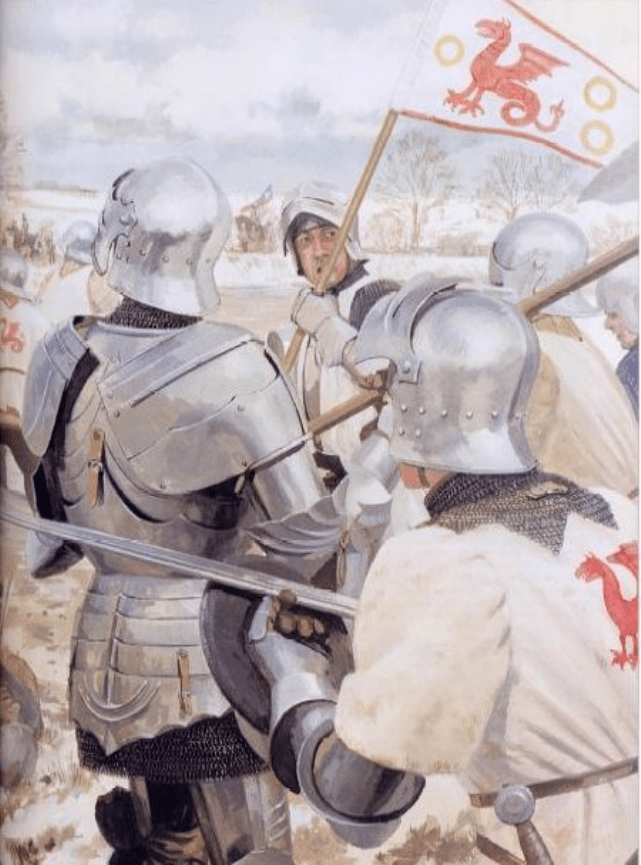
341
короле. Помимо этого, восставшие схватили и казнили нескольких видных баронов и
королевских чиновников [305]. Несмотря на первоначальный успех, восстание было
подавлено – после того как основная часть восставших поверила обещаниям короля и его
помощников и разошлась по домам, остатки армии Кэда были перебиты баронами.
Однако это восстание было лишь первым эпизодом в длительной гражданской
войне, которая получила название «войны Алой и Белой Розы». Она была так названа
потому, что герцоги Йорки, возглавившие восстание против короля, имели на своем гербе
белую розу, а королевская династия Ланкастеров – красную. Но это название обманчиво –
в действительности это была не борьба двух аристократических группировок за власть,
как об этом пишет ряд английских историков, а самая настоящая гражданская война,
причем такая, с которой по размаху не может сравниться ни один последующий
социальный конфликт в истории Англии.
Английские бароны и рыцари со своими вассалами в составе армии Ланкастеров в
сражении при Ферробридж в 1461 г. Художник Г.Тернер
Как видно на рисунке, ланкастерцы шли под знаменем дракона, в то время как сторонники
Эдуарда Йорка шли под знаменем льва, который после их победы стал символом Британии. Так
что правильнее было бы назвать эту гражданскую войну не «войной алой и белой розы», а
«войной льва с драконом».
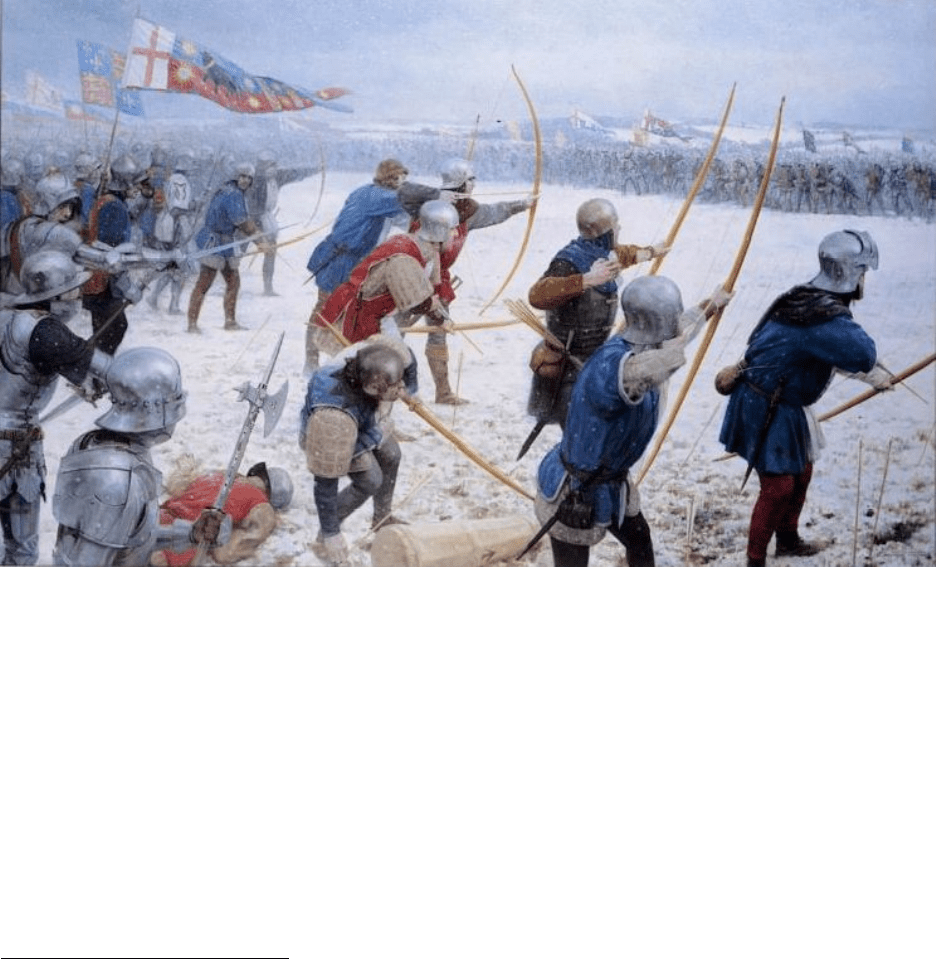
342
Что же указывает на то, что это была именно гражданская война, а не борьба
аристократических семейств? Во-первых, это было восстание против действующего
короля Генриха VI, имевшего, как отмечает Д.Грин, все юридические права на
занимаемый им английский трон ([29] 1, с.397-398), тем более, что до него правили
Англией его отец и дед, а у самого Генриха VI уже был малолетний сын – наследник
престола. Как сказал однажды сам Генрих VI, «мой отец был королем; его отец также был
королем, сам я сорок лет, с колыбели, носил корону; все вы клялись мне в верности как
своему государю, и то же делали ваши отцы относительно моего. Так как же можно
оспаривать мое право?» ([29] 1, с.397). По этой причине парламент отказался в 1460 г.
низложить Генриха VI и признать королем Ричарда Йорка – даже несмотря на то, что и
Лондон, и парламент, и сам король, после поражения в битве, в тот момент оказались в
руках последнего. У парламента не было юридических оснований низложить
действующего короля
1
. Следовательно, в любом случае, речь шла не о борьбе двух
претендентов на трон, освободившийся по каким-то обстоятельствам, а о свержении
действующего и абсолютно легитимного короля.
Битва при Тоутоне. Лучники армии Йорков. Художник Г.Тернер
Во-вторых, как указывает Д.Грин, Йорков поддерживал весь народ, во всяком
случае, жители Лондона и других крупных городов Англии ([29] 1, с.398), за них же
стояла и значительная часть рыцарства. Когда Эдуард, сын убитого Ричарда Йорка,
приехал в Лондон в 1461 г., то его встречала толпа лондонцев, крича: «Да здравствует
король Эдуард!». Таким образом, фактически народные массы сами спонтанно
провозгласили Эдуарда Йорка, будущего Эдуарда IV, королем. А бароны, наоборот,
стояли за Ланкастеров. Как пишет историк, бароны в Палате лордов приняли прошение
Ричарда Йорка о низложении Генриха VI в 1460 г. «с нескрываемым неудовольствием»
([29] 1, с.399). Фактически именно они отказались утвердить нового короля, что продлило
гражданскую войну еще на несколько лет. Таким образом, мы видим противостояние тех
1
Фактически дело было, конечно, не в юридических основаниях, а в противодействии со стороны Палаты
лордов парламента, которая была под контролем крупных баронов.
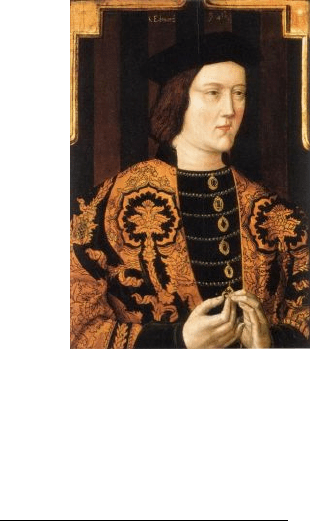
343
же двух классов, что и во всех других гражданских войнах – баронской олигархии с ее
вассалами и наемниками и всего остального населения.
В-третьих, размах сражений, происходивших в этот период, безошибочно
указывает на то, что речь шла не о борьбе двух семейств за власть, а именно о
гражданской войне. Так, во время первой (основной) фазы этих войн (1455-1461 гг.)
произошло около десятка средних и крупных сражений. Самое крупное из них – битва при
Тоутоне 29 марта 1461 г. – согласно военным энциклопедиям, является самым
кровопролитным сражением на английской земле за всю историю Англии! ([18] 2, с.408).
Потери армии Ланкастеров в битве составили 20 000 человек, армии Йорков – 8000, а
всего в битве, согласно имеющимся сведениям, участвовало до 120 000 человек с обеих
сторон ([18] 2, с.408; [29] 1, с.39). Если учесть, что по вполне достоверным данным
английских демографических историков, основанным на подробном анализе приходских
книг, население Англии в то время составляло всего лишь 2 миллиона человек ([314]
p.369; [319] table 7.8), и из них было, наверное, где-то 400-500 тысяч боеспособных
мужчин, то получается, что лишь в одной этой битве приняло участие примерно 25%, а
погибло – около 5-6%, от всех мужчин Англии, способных держать оружие. Можно с
уверенностью сказать, что не только эта битва является самой кровопролитной по
абсолютному числу погибших, но что по массовости участия населения (по числу
участников войны в пропорции ко всему населению) ни одна война в истории Англии
даже и рядом не стоит с этой так называемой «войной Роз»!
В-четвертых, мы видим здесь такое же массовое ожесточение, как и во время
любой гражданской войны. Битва при Тоутоне, согласно описаниям, к концу дня
превратилась в настоящую бойню – никто не брал пленных, всех даже захваченных
живьем противников просто убивали. Например, как отмечает Д.Грин, взятые в плен
графы Девоншира и Уилтшира были обезглавлены ([29] 1, с.400). Отсюда и такое большое
число убитых с побежденной стороны, и совсем ничего не известно о взятых в плен, что
принципиально отличает эту битву от других сражений и войн той эпохи
1
. В других
битвах этой «войны Роз» победившая сторона также неизменно убивала взятых в плен
врагов, в том числе самых знатных и богатых, о чем имеется множество свидетельств ([29]
1, с.399).
Король Англии Эдуард IV Йорк (1461-1483 гг.). Источник: [17]
Наконец, в-пятых, сам характер мер, принятых Эдуардом Йорком после победы
при Тоутоне (которая стала решающей), также свидетельствует о принципиальной
1
Например, во время Столетней войны одним из основных заработков участвовавших в ней рыцарей и
наемников было получение выкупа за пленников, который выплачивали, как правило, родственники
последних. И чем знатнее и богаче был пленник, тем бóльший можно было за него получить выкуп.
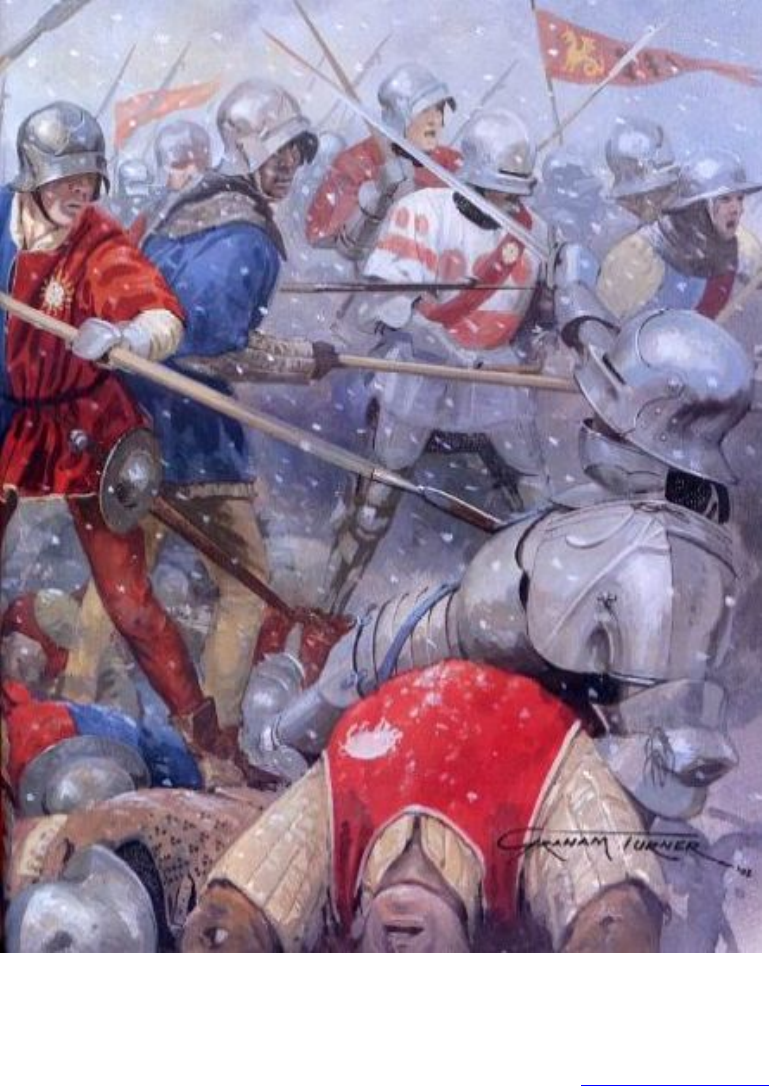
344
непримиримости не только самих Йорков и Ланкастеров по отношению друг к другу, но и
всех, кто оказался по разные стороны баррикад, что совсем не похоже на войну двух
семейств за власть. Имеется в виду, прежде всего, принятый Эдуардом IV сразу после
Тоутона закон об опале, в соответствии с которым все бароны и дворяне, выступавшие на
стороне Ланкастеров, лишались своих земель и имущества ([29] 1, с.400). Это была
настоящая земельная революция, которая вызвала целую серию новых восстаний и
сражений, длившихся еще более двух десятилетий.
Битва при Тоутоне. Рукопашная. Художник Г.Тернер
В Англии было опубликовано специальное исследование, посвященное этой битве: Gravett
C. Towton 1461. England’s bloodiest battle. Illustrated by G.Turner. Oxford, Osprey Publishing,
2003, - откуда взяты приведенные выше иллюстрации (http://all-ebooks.com
). Автор
исследования, военный историк К.Граветт, подвергает сомнению зафиксированное в
летописях число участников битвы, которое, по данным английских летописцев,
составляло от 120 до 200 тысяч человек, и дает свою оценку: 50-70 тысяч. Но главный
его аргумент при этом сводится к тому, что после тяжелых потерь в серии
кровопролитных сражений в 1455-1461 гг. Англия вряд ли была в состоянии выставить

345
для этого сражения более 50-70 тысяч бойцов. Таким образом, вне зависимости от того,
какие из этих цифр ближе к истине, сама аргументация военного историка
подтверждает главный вывод настоящей главы о том, что так называемая «война Роз»
была не поединком двух благородных семейств (Йорков и Ланкастеров), а
полномасштабной гражданской войной, в которой приняла участие (и полегла)
значительная часть населения Англии.
В дальнейшем при Тюдорах, пришедших на смену Йоркам, мы видим продолжение
передела земельной собственности
1
. Они окончательно конфисковали владения крупных
баронов, а также множества монастырей в Англии. Они также заставили всех
землевладельцев разрушить замки-крепости и запретили им держать наемные армии. Что
касается земель, конфискованных у баронов и монастырей, то они были пущены в
свободную продажу для всех желающих. Благодаря этим мерам, указывает К.Хилл, был
создан многочисленный класс средних и мелких помещиков (джентри), который стал в
последующем важной социальной силой английского общества ([212] pp.17-20). Именно
этот слой общества, распространившийся на всю страну, по словам современника Уолтера
Ралеха, стал «гарнизонами доброго порядка во всей стране» ([212] p.17),
противостоящими силам анархии и коррупции. Другой современник, Джон Леленд
(первая половина XVI в.) писал, что характерным явлением его эпохи был не
прекращающийся грохот разрушаемых по всей Англии замков-крепостей, в которых ранее
жили бароны, а также монастырских каменных зданий ([111] с.110). У католической
церкви, помимо всего прочего, были конфискованы и все хозяйственные объекты,
которых у нее было немало. Так, она сконцентрировала в своих руках почти всю
угольную промышленность нескольких графств Англии. Как указывает Д.Тревельян, вся
она была конфискована и распродана по частям мелким помещикам и предпринимателям
([111] с.117).
Тот факт, что переход власти от Ланкастеров к Йоркам и затем к Тюдорам означал
по своим результатам социальную революцию, признается большинством английских
историков. Все они согласны с тем, что вместо прежней баронской Англии, которая была
при Ланкастерах, при Тюдорах возникла Англия среднего землевладельческого класса
(джентри). Многие из них отмечают и другие черты произошедшей социальной
революции. Например, Элтон пишет о том, что Тюдоры совершили революцию в
управлении и что при них значительно возросла роль нижней палаты парламента - Палаты
общин – представлявшая интересы широких народных масс ([212] p.17). Тревельян
указывает, что при Ланкастерах «вся социальная система была поражена вследствие
дурного управления. Вред, нанесенный “слишком важными персонами” и “слабостью
государственной власти”, был настолько большим и столь широко распространившимся,
что в следующем столетии монархия Тюдоров была популярна потому, что она была
сильной и могла “обуздать строптивую знать…”» ([111] с.69). Согласно крылатому
английскому выражению, которое упоминают Хилл и другие английские историки,
«уничтожение баронских “свобод” было великой услугой, оказанной Тюдорами
английской свободе» ([212] p.20).
Получается какой-то парадокс. Английские историки признают социальную
революцию по ее результату, но не признают ее по факту свершения. Период гражданских
войн 1450-1485 гг. большинство из них считает войной между «организованными бандами
1
В период правления Йорков, помимо ряда баронских восстаний, были еще две попытки узурпировать
власть со стороны крупных баронов, приходившихся родственниками или друзьями самому королю – в
первый раз в 1470-71 гг. со стороны лорда Уорвика, второй раз – в 1483-1485 гг. со стороны Ричарда
Глостера, провозгласившего себя королем Ричардом III и убившего наследников Эдуарда IV Йорка. В итоге
Генрих Тюдор, свергнувший Ричарда III, был провозглашен новым королем Генрихом VII (1485-1509 гг.).

346
баронов» за власть ([212] p.16), не замечая того, что в этой «войне банд» участвовала,
возможно, половина населения Англии, способного держать оружие, и что она имела все
другие признаки полномасштабной гражданской войны. Но таких чудес в истории еще не
бывало, чтобы между собой воевали две или несколько банд, а в итоге получилась
социальная революция! Социальная история как раз и учит тому, что сколько бы магнаты
и их «банды» между собой ни дрались, они никогда друг друга не перебьют, от этих войн
будет только усиливаться анархия, преступность и социальные конфликты. Мы видели,
что там, где этой войне магнатов не был положен конец путем гражданской войны и
физического уничтожения магнатов и их имущества, как это было, например, в Риме при
Цезаре-Октавиане или в Византии при Фоке-Ираклии, то эта война магнатов между собой
и их война против общества никогда сама собой не прекращалась – вплоть до полного
уничтожения государства и нации, о чем может свидетельствовать пример Византии в
XII-XV вв. или Польши в XVI-XVIII вв.
По-видимому, нежелание английских историков признавать «войну Роз»
революцией или гражданской войной вопреки всем имеющимся фактам, и даже попытки
скрыть наиболее важные факты
1
, объясняются идеологическими установками. Наверное,
очень не хочется признавать стране, которая считает своей главной традицией
неприкосновенность частной собственности, тот факт, что два с половиной столетия своей
истории – с середины XV в. до конца XVII в. – она только и занималась тем, что
совершала революции и передел частной собственности. А ведь по масштабам
конфискаций собственности, произошедших в период между концом правления
Ланкастеров (1461 г.) и концом правления Тюдоров (1603 г.), Англия в Европе уступает
разве что только экспроприации собственности в России после 1917 года, превосходя все,
что было в других европейских странах. Даже в правление королевы Елизаветы I (1558-
1603 гг.) было конфисковано много земель, еще остававшихся у крупных землевладельцев
на севере Англии ([111] с.134). И за этим последовали новые переделы собственности –
уже в эпоху Английской революции XVII века. Но именно такие масштабы конфискаций
собственности у олигархии в пользу среднего класса и привели к резкому повороту в
английской истории – повороту, заложившему основы последующего динамичного
развития Англии.
В целом можно констатировать, что Англия была одной из двух стран Европы,
наряду с гуситской Чехией, которой удалось успешно преодолеть первый европейский
кризис коррупции (XIV-XV в.) - преодолеть очень болезненным, но возможно, и самым
эффективным, путем физического уничтожения олигархии и экспроприации ее
собственности. И так же как в других аналогичных примерах, результаты не заставили
себя ждать – при Тюдорах мы видим начавшийся экономический и культурный расцвет
страны, то, что историки называют «золотым веком» Англии. Как пишет К.Хилл, в конце
XV - начале XVI вв. подавляющая часть англичан еще жила в условиях натурального
хозяйства – они носили одежду из грубой кожи (которую сами же и шили), ели в
основном черный хлеб, который сами же и пекли, и затем прямо на деревянном поддоне
подавали на стол, не пользовались ни вилкой, ни носовым платком, и жили в основном в
домах, сделанных из глины и камыша ([212] p.9). Даже мореплавание, несмотря на
островное положение Англии, было развито намного хуже, чем в других странах Западной
Европы – так, значительная часть внешнеторговых перевозок осуществлялась
итальянскими и ганзейскими торговыми кораблями ([111] с.93). Но за последующие 100-
150 лет в Англии появилась передовая текстильная промышленность, изделия которой
начали носить широкие массы населения, а по уровню судостроения и мореплавания
страна уже почти превратилась в мирового лидера. Как указывает экономический историк
1
Битва при Тоутоне – самая кровопролитная в истории Англии - вообще почти никем из современных
английских историков не упоминается. А Тревельян утверждает, что в битвах «войны Роз» участвовало (!)
самое большее 10 тысяч чел., в то время как при Тоутоне погибло (!) 28 тысяч, а участвовало, согласно
летописям, 120 тысяч. ([111] с.68)

347
Д.Неф, в начале XVI в. Англия в промышленном отношении была отсталой страной по
сравнению с другими западноевропейскими странами, включая Францию, Италию,
Испанию. За сто последующих лет Англия не только догнала, но и перегнала эти страны –
в начале XVII в. уже их можно было считать промышленно отсталыми по отношению к
Англии ([256] p.1). В этой связи некоторые экономические историки полагают, что
промышленная революция в Англии происходила не только в XVIII в., но что ее первый
этап начался уже в XVI в. ([309] p.260)
Генрих VII (1485-1509) – первый английский король династии Тюдоров. Источник: [17]
Век Тюдоров был не только первым веком английского экономического чуда, но и
веком расцвета английской культуры, веком Томаса Мора и Уильяма Шекспира. При
Тюдорах, как уже отмечалось выше, народные массы начали широко участвовать в
управлении страной через участие в парламенте. Кроме того, Тюдоры впервые в
европейской истории начали уделять большое и постоянное внимание проблеме бедности
– бедным оказывалась регулярная материальная помощь, для них было открыто
множество приютов, больниц, школ. В итоге, как отмечает Д.Тревельян, в Англии даже в
период худших кризисов XVII века никогда не было такого ужасающего количества
нищих и в столь безобразном состоянии, как это было во Франции и других странах
Западной Европы в тот период ([111] с.249). Впервые общество также всерьез задумалось
о проблеме безработицы, которая являлась главной причиной деградации масс людей и
роста преступности. При Тюдорах не только начали выплачивать пособия по безработице,
но и начали думать о трудовом воспитании подростков и о создании рабочих мест для
безработных – в этих целях создавались работные дома и организовывались
общественные работы ([111] с.122-123; [29] 1, с.570). Наконец, при Тюдорах
осуществилась Реформация церкви, что для массы простых людей означало отказ от
прежних жестких рамок и ненужных запретов католической церкви (в соответствии с
которыми даже Библию нельзя было прочесть на родном языке). Это способствовало
формированию в Англии значительно более свободного общества, ориентированного на
прогресс и творчество.
Все это привело к тому, что за период правления Тюдоров англичане как нация
очень сильно изменились, что отразилось и в тех представлениях, которые имели о них
другие нации. Так, в конце XV в. находившийся в Англии венецианский посол писал, что
к простым людям в этом островном государстве относятся не с бóльшим уважением, чем к
рабам. Как видим, статус простых англичан в своей собственной стране в XV веке был
очень низким. Сто или сто пятьдесят лет спустя картина резко изменилась. В начале XVII
в. один иностранец писал, что простые люди в Англии очень наглые и высокомерные,
ввиду того что слишком богатые ([212] p.40). Очевидно, достаток простых англичан,
348
появившееся у них чувство собственного достоинства и отсутствие в них раболепия
показались иностранцу (скорее всего, знатному) столь удивительными в сравнении с его
собственной страной, что такое поведение он даже посчитал наглым и высокомерным.
Изменилось и представление о привычке англичан к труду. К.Хилл пишет, что в
прошлом они воспринимались как исключительно ленивая нация: «английская лень» была
крылатой фразой среди иностранцев ([212] p.76). К XVII в. это мнение уже сильно
изменилось, но еще больше оно изменилось в течение XVIII в., когда англичане стали
восприниматься уже как самая трудолюбивая и предприимчивая нация в Европе.
Итак, можно сделать вывод, что 1450-1603 гг. были эпохой первой социальной
революции в истории Англии, которую было бы правильнее называть не «революцией
Тюдоров», как это делают английские историки, а «революцией Йорков-Тюдоров». Ведь
Тюдоры продолжали дело, начатое Йорками, по конфискации крупной земельной
собственности и ликвидации всевластия баронов и их наемных армий. Кроме того, обе
династии: Йорки и Тюдоры, - пользовались безусловной поддержкой и доверием
английского народа, что также свидетельствует о внутреннем духовном родстве этих
династий.
Конечно, их роль в истории Англии неодинакова. Йорки выполняли роль
«кровавого тирана» Октавиана, а Тюдоры - роль «мудрого и божественного императора»
Августа. Однако цель и тех, и других была одна и та же – вернуть власти ее народный
характер, который у нее был при наиболее достойных Плантагенетах, и который был
утрачен при Ланкастерах, правивших исключительно в интересах крупных баронов и
епископов. Но такова судьба революционеров, что потомки стараются поскорее забыть
содеянное ими. Как римляне постарались поскорее забыть «кровавого тирана» Октавиана,
но еще столетия спустя прославляли «мудрого и божественного императора» Августа
(хотя это был один и тот же человек!), то же самое сделали англичане. Именно поэтому
конец средневековья в Англии устойчиво связывали с восшествием на трон Тюдоров в
1485 году – когда позади остались кровь и ужасы гражданской войны, когда были
окончательно пресечены попытки повернуть революцию вспять и когда на троне
окончательно воцарилась династия, думающая о благе всего народа, а не о своем личном
благе или благе узкого круга лиц.
12.2. Борьба с коррупцией в эпоху правления Тюдоров
В главе X уже говорилось о том, что с середины XVI века в Европе опять стала
бурными темпами развиваться международная торговля, и начался новый цикл
коррупции. Большинстве европейских стран пострадало в период «кризиса XVII века»
даже сильнее, чем в период «кризиса XIV века», для целого ряда стран: Испании, Италии,
Франции и для всей Восточной Европы, - он закончился экономической и социальной
катастрофой или длительным застоем, затормозившим дальнейшее развитие этих стран.
Основная причина этого, как было сказано, состоит в том, что кризис коррупции в этих
странах не был преодолен революционным путем ни в XV в., как это произошло в
Англии, ни в XVI-XVII вв., как это произошло в Нидерландах, Германии и скандинавских
странах.
Совершенно очевидно, что Реформация, приведшая к ликвидации всевластия
католической церкви и магнатов, поддерживавших «католическую коалицию» (а также к
конфискации их имущества), были для Нидерландов, Германии и скандинавских стран
такой же социальной и экономической революцией, как и «революция Йорков-Тюдоров»
в Англии. Но победа этим странам далась более дорогой ценой, так как им пришлось
выдержать столетнюю войну против мировой олигархии, и в течение этого времени
территории этих стран многократно подвергались нападению, грабежу и разорению со
стороны «католической коалиции» (см. предыдущую главу).
349
В других странах попытки преодолеть кризис коррупции также предпринимались,
но они не увенчались успехом – слишком могущественны были противостоявшие народам
этих стран силы коррупции. Примером такой попытки можно считать восстание
коммунерос в Испании в 1520-21 гг. Оно охватило значительную часть Испании, и в нем
участвовали самые разные слои населения – крестьянские и городские массы, дворяне и
даже представители крупной аристократии. Целью восстания было освобождение от
власти императора Карла V и поддерживавших его магнатов. Первоначально восстанию
сопутствовал успех – в руках восставших оказался целый ряд городов в центре Испании.
Но затем возникли разногласия между деревенской и городской беднотой, с одной
стороны, и дворянством, с другой, что раскололо восстание и резко ослабило его силу. В
итоге Карл V подтянул свои наемные войска из Австрии и без труда разгромил
восставших, а затем казнил наиболее активных его участников ([19] 10, с.237-241).
Интересно, что английские историки ставят в один ряд события «войны Роз» и
последовавшей «революции Тюдоров», с одной стороны, и восстание испанских
коммунерос, с другой, полагая, что они имели одну и ту же природу. Как указывает
К.Хилл, в Испании, в отличие от Англии, в ходе этих событий победил не народ и средние
классы, а крупные землевладельцы, которые, подобно английским баронам, захватили
значительную часть земель и монополизировали производство и экспорт шерсти и другие
сферы экономической деятельности. В итоге, пишет историк, у испанского среднего
класса не осталось никакого будущего, и вместо того чтобы развивать деятельность на
пользу своей стране, они сделались конкистадорами и грабителями Нового Света,
завоевав и покорив всю Латинскую Америку ([212] p.72). А в самой Испании тем
временем кризис все более углублялся, промышленность разрушалась, сельское хозяйство
приходило в упадок, население сокращалось и огромные территории превращались в
пустыню. И некогда самая могущественная европейская держава превращалась в
отсталую «периферию», в захолустье Европы. Как указывает И.Валлерстайн, к концу
XVII в. Испания упала так низко в глазах остального мира, что Франция, Австрия, Англия
и Нидерланды на международных конференциях обсуждали план раздела Испанской
империи между собой ([310] p.188).
Можно сказать, что испанцам, в отличие от англичан, очень сильно не повезло. Им
противостоял не слабый король Генрих VI Ланкастер (1422-1461 гг.), периодически
впадавший в безумие, а император Карл V со всей мощью и силой своей огромной
империи, опиравшейся на богатства, стекавшиеся со всего света. Поэтому восстание
коммунерос, в отличие от восстания Йорков, было с самого начала фактически обречено
на неудачу. Повезло англичанам и в другом. Островное положение Англии всегда
обеспечивало ей прекрасную защиту от внешних интервенций. В любой другой стране
Европы 35 лет почти непрерывных гражданских войн и междоусобиц («война Алой и
Белой Розы» 1450-1485 гг.) обязательно соблазнили бы кого-то из соседей на военную
интервенцию, на желание воспользоваться ослаблением страны в своих интересах. Но
решиться на морскую экспедицию, рискуя потерять флот, а вместе с ним и возможность
вернуться назад, было намного сложнее, чем на простой переход сухопутной границы.
Поэтому Англия имела возможность, в отличие от других стран, спокойно решать свои
внутренние проблемы, и поэтому она их решила раньше, чем любая другая страна в
Европе.
Справедливое правление Тюдоров не избавило Англию от второго цикла
коррупции, начавшегося в первой половине XVI в. одновременно с резким ростом
европейской торговли. Объемы перевозок грузов голландскими судами, которые на этом
этапе выполняли роль основных посредников в международной торговле, с 1500 г. по
1700 г. увеличились в 10 раз ([310] p.46) - из чего следует, что интенсивность внешней
торговли за это время выросла на порядок. Как и во все другие эпохи, глобализация
привела к появлению большого числа купцов и грабителей, а также купцов-грабителей,
совмещавших эти два вида деятельности. Именно об этом явлении писал в 1524 г.

350
главный идеолог Реформации Мартин Лютер: «Теперь купцы очень жалуются на дворян
или на разбойников, на то, что им приходится торговать с большой опасностью… Но так
как сами купцы творят столь великое беззаконие и противохристианское воровство и
разбой по всему миру и даже по отношению друг к другу, то нет ничего удивительного в
том, что бог делает так, что столь большое имущество, несправедливо приобретенное,
снова утрачивается или подвергается разграблению, а их самих вдобавок еще избивают
или захватывают в плен… Купцы – не меньшие разбойники, чем рыцари, ибо купцы
ежедневно грабят мир, тогда как рыцарь в течение года ограбит раз или два, одного или
двух» ([70] 25/1, с.364).
Разумеется, английские купцы ничем не отличались от своих немецких или
голландских коллег. Именно об английских купцах писал русский царь Иван Грозный
королеве Елизавете во второй половине XVI в. – о купцах, которые игнорируют интересы
своего государства и думают лишь о личном обогащении. А современные английские
историки пишут о том, что внешняя торговля Англии, начиная с эпохи Елизаветы I (1558-
1603 гг.), приобрела «хищническую форму» ([212] p.56).
Елизавета I (1558-1603 гг.) – последняя представительница династии Тюдоров. Картина
М.Гирертса-младшего
Именно в таких условиях в Англии начала формироваться новая олигархия. Как
указывает К.Хилл, уже в 1530 г. был введен закон, по которому любой человек даже
среднего достатка
1
мог беспрепятственно купить дворянский титул и герб ([212] p.36).
Поэтому все купцы и нувориши немедленно начали этим пользоваться для того, чтобы
стать дворянами, а некоторые особенно богатые приобретали титул лорда. Так, графы
Мидлсекс и Уорвик, жившие в начале XVII в., не были дворянского происхождения, а
являлись всего лишь обычными купцами, купившими себе баронский титул ([212] p.56).
Особенно активная распродажа аристократических титулов началась при Стюартах,
правивших в Англии, начиная с 1603 года. По данным К.Хилла, только с 1615 по 1628 гг.
было продано столько титулов лордов, что число последних за эти 13 лет увеличилось на
56% ([212] p.84).
Учитывая вышеизложенное, самой большой иллюзией было бы думать, что в ходе
последующих событий 1641-1688 гг., называемых Английской революцией, народ
1
Имевший движимое имущество стоимостью 300 фунтов или недвижимость, приносящую ежегодный доход
в 10 фунтов.
