Лотман Ю.М. Сборник работ (Ю.М. Лотман и тартусско-московская семиотическая школа)
Подождите немного. Документ загружается.

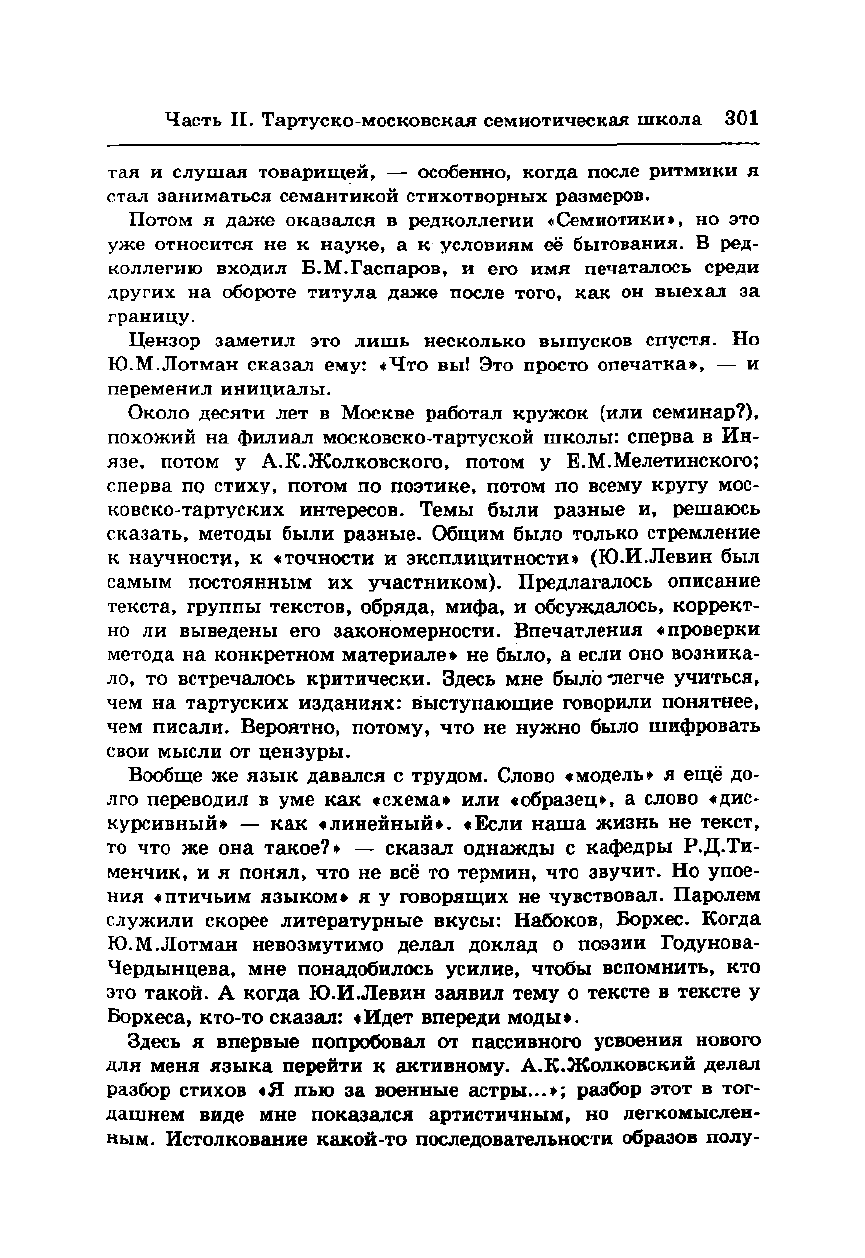
Часть II. Тартуско-московская семиотическая школа 301
тая и слушая товарищей, — особенно, когда после ритмики я
стал заниматься семантикой стихотворных размеров.
Потом я даже оказался в редколлегии «Семиотики», но это
уже относится не к науке, а к условиям её бытования. В ред-
коллегию входил Б.М.Гаспаров, и его имя печаталось среди
других на обороте титула даже после того, как он выехал за
границу.
Цензор заметил это лишь несколько выпусков спустя. Но
Ю.М.Лотман сказал ему: «Что вы! Это просто опечатка», — и
переменил инициалы.
Около десяти лет в Москве работал кружок (или семинар?),
похожий на филиал московско-тартуской школы: сперва в Ин-
язе,
потом у А.К.Жолковского, потом у Е.М.Мелетинского;
сперва по стиху, потом по поэтике, потом по всему кругу мос-
ковско-тартуских интересов. Темы были разные и, решаюсь
сказать, методы были разные. Общим было только стремление
к научности, к «точности и эксплицитности» (Ю.И.Левин был
самым постоянным их участником). Предлагалось описание
текста, группы текстов, обряда, мифа, и обсуждалось, коррект-
но ли выведены его закономерности. Впечатления «проверки
метода на конкретном материале» не было, а если оно возника-
ло,
то встречалось критически. Здесь мне было 'легче учиться,
чем на тартуских изданиях: выступающие говорили понятнее,
чем писали. Вероятно, потому, что не нужно было шифровать
свои мысли от цензуры.
Вообще же язык давался с трудом. Слово «модель» я ещё до-
лго переводил в уме как «схема» или «образец», а слово «дис-
курсивный» — как «линейный». «Если наша жизнь не текст,
то что же она такое?» — сказал однажды с кафедры Р.Д.Ти-
менчик, и я понял, что не всё то термин, что звучит. Но упое-
ния «птичьим языком» я у говорящих не чувствовал. Паролем
служили скорее литературные вкусы: Набоков, Борхес. Когда
Ю.М.Лотман невозмутимо делал доклад о поэзии Годунова-
Чердынцева, мне понадобилось усилие, чтобы вспомнить, кто
это такой. А когда Ю.И.Левин заявил тему о тексте в тексте у
Борхеса, кто-то сказал: «Идет впереди моды».
Здесь я впервые попробовал от пассивного усвоения нового
для меня языка перейти к активному. А.К.Жолковский делал
разбор стихов «Я пью за военные астры...»; разбор этот в тог-
дашнем виде мне показался артистичным, но легкомыслен-
ным. Истолкование какой-то последовательности образов полу-
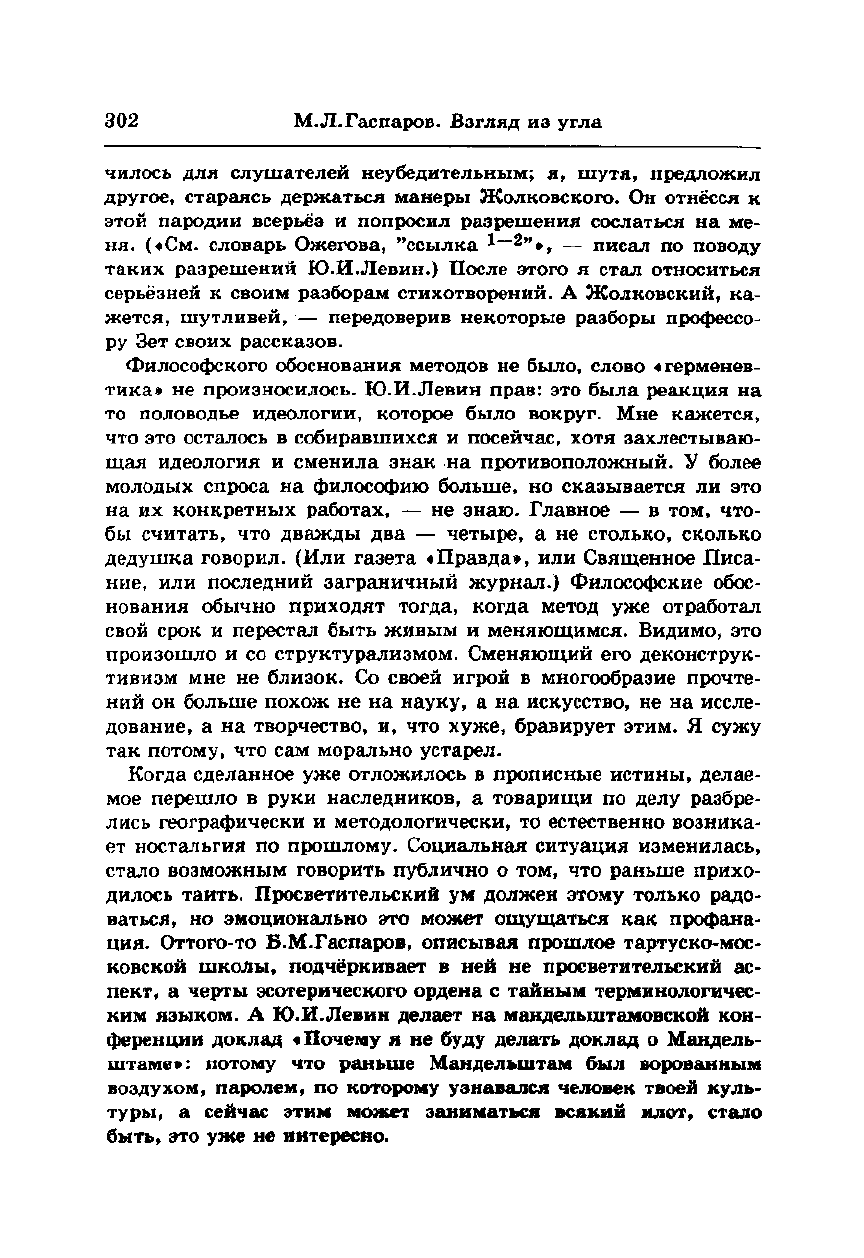
302
М.Л.Гаспаров. Взгляд из угла
чилось для слушателей неубедительным; я, шутя, предложил
другое, стараясь держаться манеры Жолковского. Он отнёсся к
этой пародии всерьёз и попросил разрешения сослаться на ме-
ня.
(«См. словарь Ожегова, "ссылка
1—2
"»
г
— писал по поводу
таких разрешений Ю.И.Левин.) После этого я стал относиться
серьёзней к своим разборам стихотворений. А Жолковский, ка-
жется, шутливей, — передоверив некоторые разборы профессо-
ру Зет своих рассказов.
Философского обоснования методов не было, слово «герменев-
тика» не произносилось. Ю.И.Левин прав: это была реакция на
то половодье идеологии, которое было вокруг. Мне кажется,
что это осталось в собиравшихся и посейчас, хотя захлестываю-
щая идеология и сменила знак на противоположный. У более
молодых спроса на философию больше, но сказывается ли это
на их конкретных работах, — не знаю. Главное — в том, что-
бы считать, что дважды два — четыре, а не столько, сколько
дедушка говорил. (Или газета «Правда», или Священное Писа-
ние,
или последний заграничный журнал.) Философские обос-
нования обычно приходят тогда, когда метод уже отработал
свой срок и перестал быть живым и меняющимся. Видимо, это
произошло и со структурализмом. Сменяющий его деконструк-
тивизм мне не близок. Со своей игрой в многообразие прочте-
ний он больше похож не на науку, а на искусство, не на иссле-
дование, а на творчество, и, что хуже, бравирует этим. Я сужу
так потому, что сам морально устарел.
Когда сделанное уже отложилось в прописные истины, делае-
мое перешло в руки наследников, а товарищи по делу разбре-
лись географически и методологически, то естественно возника-
ет ностальгия по прошлому. Социальная ситуация изменилась,
стало возможным говорить публично о том, что раньше прихо-
дилось таить. Просветительский ум должен этому только радо-
ваться, но эмоционально это может ощущаться как профана-
ция.
Оттого-то Б.М.Гаспаров, описывая прошлое тартуско-мос-
ковской школы, подчёркивает в ней не просветительский ас-
пект, а черты эсотерического ордена с тайным терминологичес-
ким языком. А Ю.И.Левин делает на мандельштамовской кон-
ференции доклад «Почему я не буду делать доклад о Мандель-
штаме»: потому что раньше Мандельштам был ворованным
воздухом, паролем, по которому узнавался человек твоей куль-
туры,
а сейчас этим может заниматься всякий илот, стало
быть, это уже не интересно.
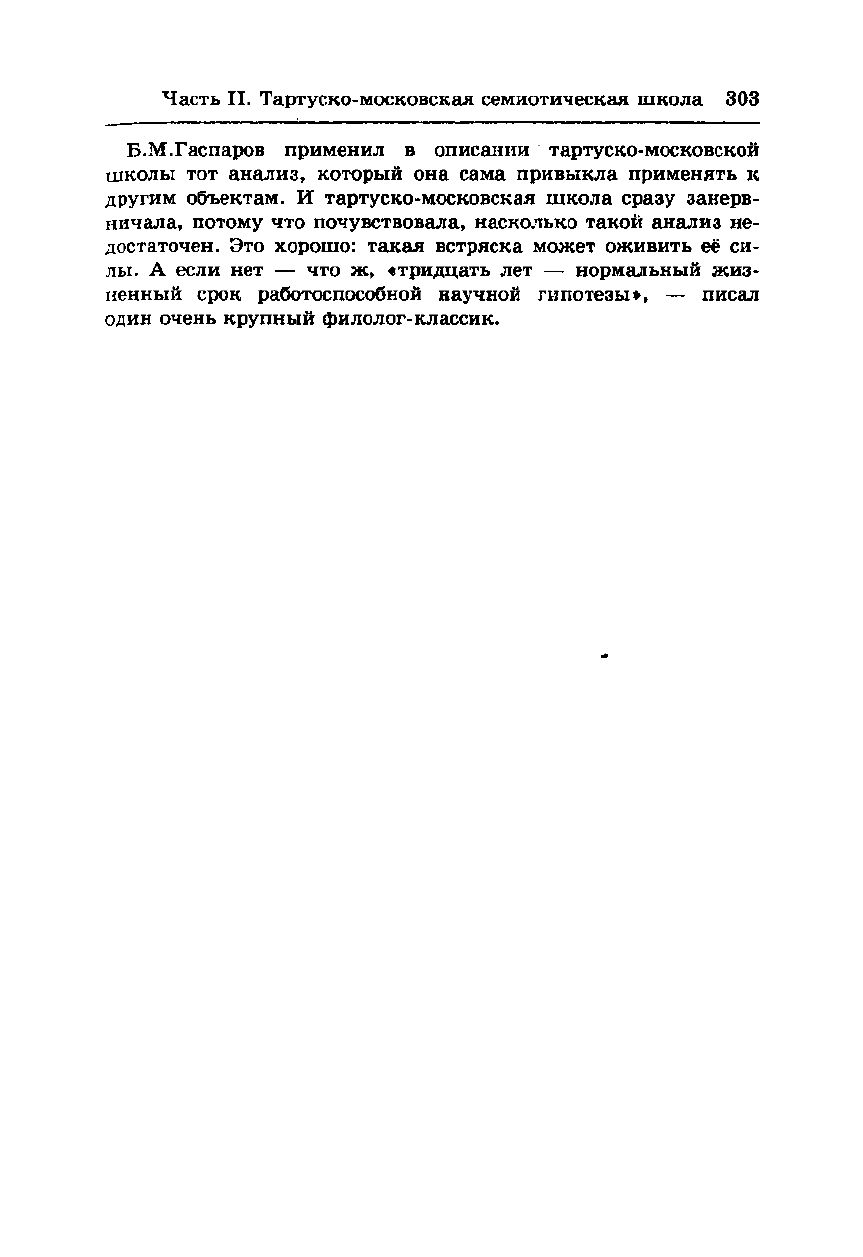
Часть II. Тартуско-московская семиотическая школа 303
Б.М.Гаспаров применил в описании тартуско-московской
школы тот анализ, который она сама привыкла применять к
другим объектам. И тартуско-московскал школа сразу занерв-
ничала, потому что почувствовала, насколько такой анализ не-
достаточен. Это хорошо: такая встряска может оживить её си-
лы.
А если нет — что ж, «тридцать лет — нормальный жиз-
ненный срок работоспособной научной гипотезы», — писал
один очень крупный филолог-классик.
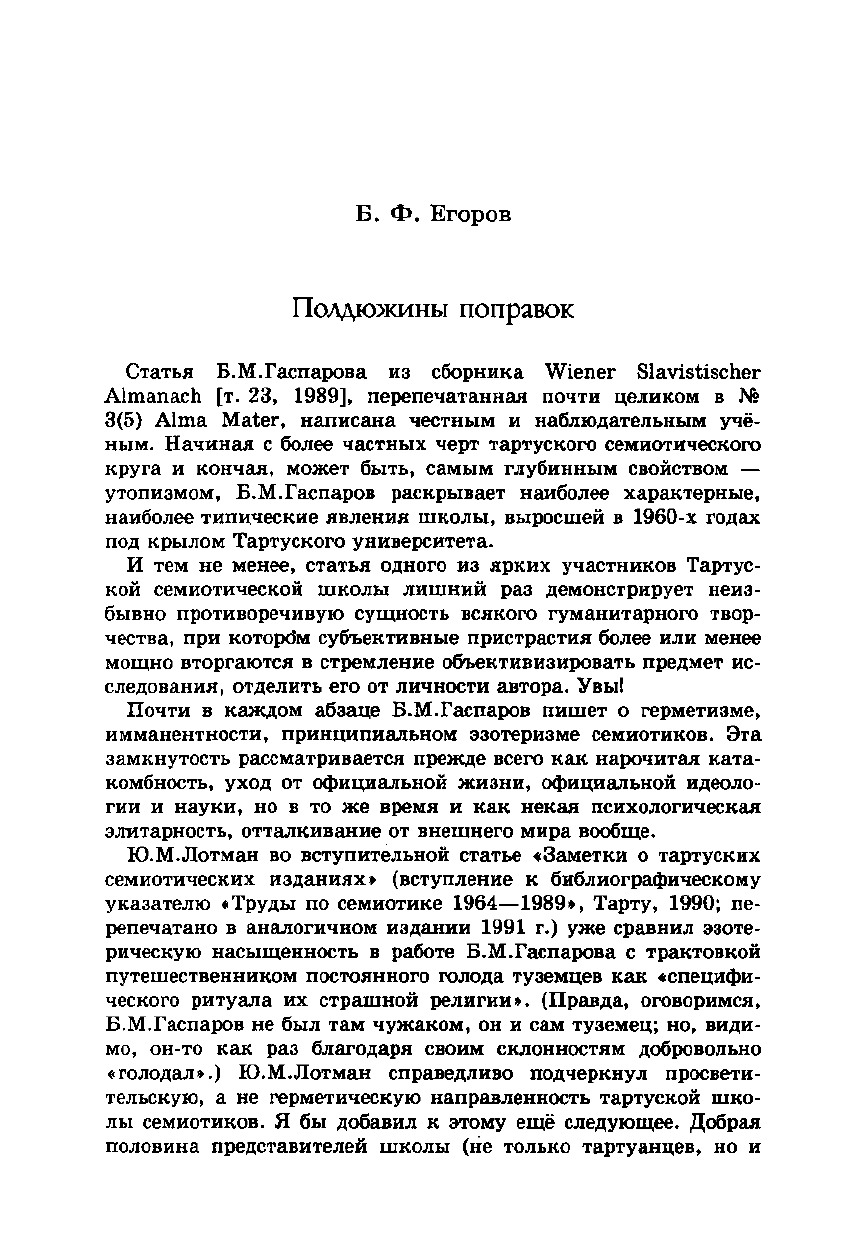
Б.
Ф. Егоров
Полдюжины поправок
Статья Б.М.Гаспарова из сборника Wiener Slavistischer
Almanach [т. 23, 1989], перепечатанная почти целиком в №
3(5) Alma Mater, написана честным и наблюдательным учё-
ным. Начиная с более частных черт тартуского семиотического
круга и кончая, может быть, самым глубинным свойством —
утопизмом, Б.М.Гаспаров раскрывает наиболее характерные,
наиболее типические явления школы, выросшей в 1960-х годах
под крылом Тартуского университета.
И тем не менее, статья одного из ярких участников Тартус-
кой семиотической школы лишний раз демонстрирует неиз-
бывно противоречивую сущность всякого гуманитарного твор-
чества, при которсЗм субъективные пристрастия более или менее
мощно вторгаются в стремление объективизировать предмет ис-
следования, отделить его от личности автора. Увы!
Почти в каждом абзаце Б.М.Гаспаров пишет о герметизме,
имманентности, принципиальном эзотеризме семиотиков. Эта
замкнутость рассматривается прежде всего как нарочитая ката-
комбность, уход от официальной жизни, официальной идеоло-
гии и науки, но в то же время и как некая психологическая
элитарность, отталкивание от внешнего мира вообще.
Ю.М.Лотман во вступительной статье «Заметки о тартуских
семиотических изданиях» (вступление к библиографическому
указателю «Труды по семиотике 1964—1989», Тарту, 1990; пе-
репечатано в аналогичном издании 1991 г.) уже сравнил эзоте-
рическую насыщенность в работе Б.М.Гаспарова с трактовкой
путешественником постоянного голода туземцев как «специфи-
ческого ритуала их страшной религии». (Правда, оговоримся,
Б.М.Гаспаров не был там чужаком, он и сам туземец; но, види-
мо,
он-то как раз благодаря своим склонностям добровольно
«голодал».) Ю.М.Лотман справедливо подчеркнул просвети-
тельскую, а не герметическую направленность тартуской шко-
лы семиотиков. Я бы добавил к этому ещё следующее. Добрая
половина представителей школы (не только тартуанцев, но и
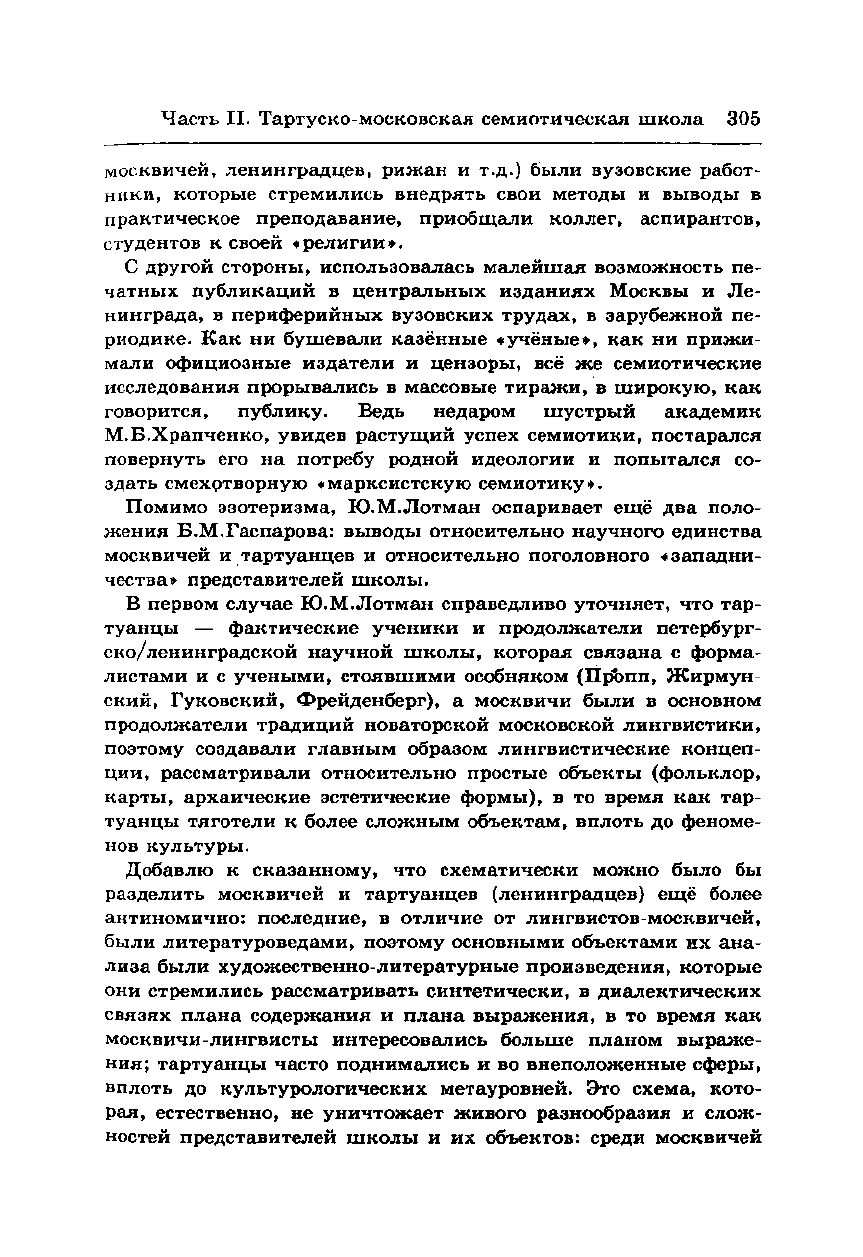
Часть II. Тартуско-московская семиотическая школа 305
москвичей, ленинградцев, рижан и т.д.) были вузовские работ-
ники, которые стремились внедрять свои методы и выводы в
практическое преподавание, приобщали коллег, аспирантов,
студентов к своей «религии».
С другой стороны, использовалась малейшая возможность пе-
чатных публикаций в центральных изданиях Москвы и Ле-
нинграда, в периферийных вузовских трудах, в зарубежной пе-
риодике. Как ни бушевали казённые «учёные», как ни прижи-
мали официозные издатели и цензоры, всё же семиотические
исследования прорывались в массовые тиражи, в широкую, как
говорится, публику. Ведь недаром шустрый академик
М.Б.Храпченко, увидев растущий успех семиотики, постарался
повернуть его на потребу родной идеологии и попытался со-
здать смехртворную «марксистскую семиотику».
Помимо эзотеризма, Ю.М.Лотман оспаривает ещё два поло-
жения Б.М.Гаспарова: выводы относительно научного единства
москвичей и тартуанцев и относительно поголовного «западни-
чества» представителей школы.
В первом случае Ю.М.Лотман справедливо уточняет, что тар-
туанцы — фактические ученики и продолжатели петербург-
ско/ленинградской научной школы, которая связана с форма-
листами и с учеными, стоявшими особняком (Пропп, Жирмун-
ский, Гуковский, Фрейденберг), а москвичи были в основном
продолжатели традиций новаторской московской лингвистики,
поэтому создавали главным образом лингвистические концеп-
ции, рассматривали относительно простые объекты (фольклор,
карты, архаические эстетические формы), в то время как Тар-
ту анцы тяготели к более сложным объектам, вплоть до феноме-
нов культуры.
Добавлю к сказанному, что схематически можно было бы
разделить москвичей и тартуанцев (ленинградцев) ещё более
антиномично: последние, в отличие от лингвистов-москвичей,
были литературоведами, поэтому основными объектами их ана-
лиза были художественно-литературные произведения, которые
они стремились рассматривать синтетически, в диалектических
связях плана содержания и плана выражения, в то время как
москвичи-лингвисты интересовались больше планом выраже-
ния; тартуанцы часто поднимались и во внеположенные сферы,
вплоть до культурологических метауровней. Это схема, кото-
рая,
естественно, не уничтожает живого разнообразия и слож-
ностей представителей школы и их объектов: среди москвичей
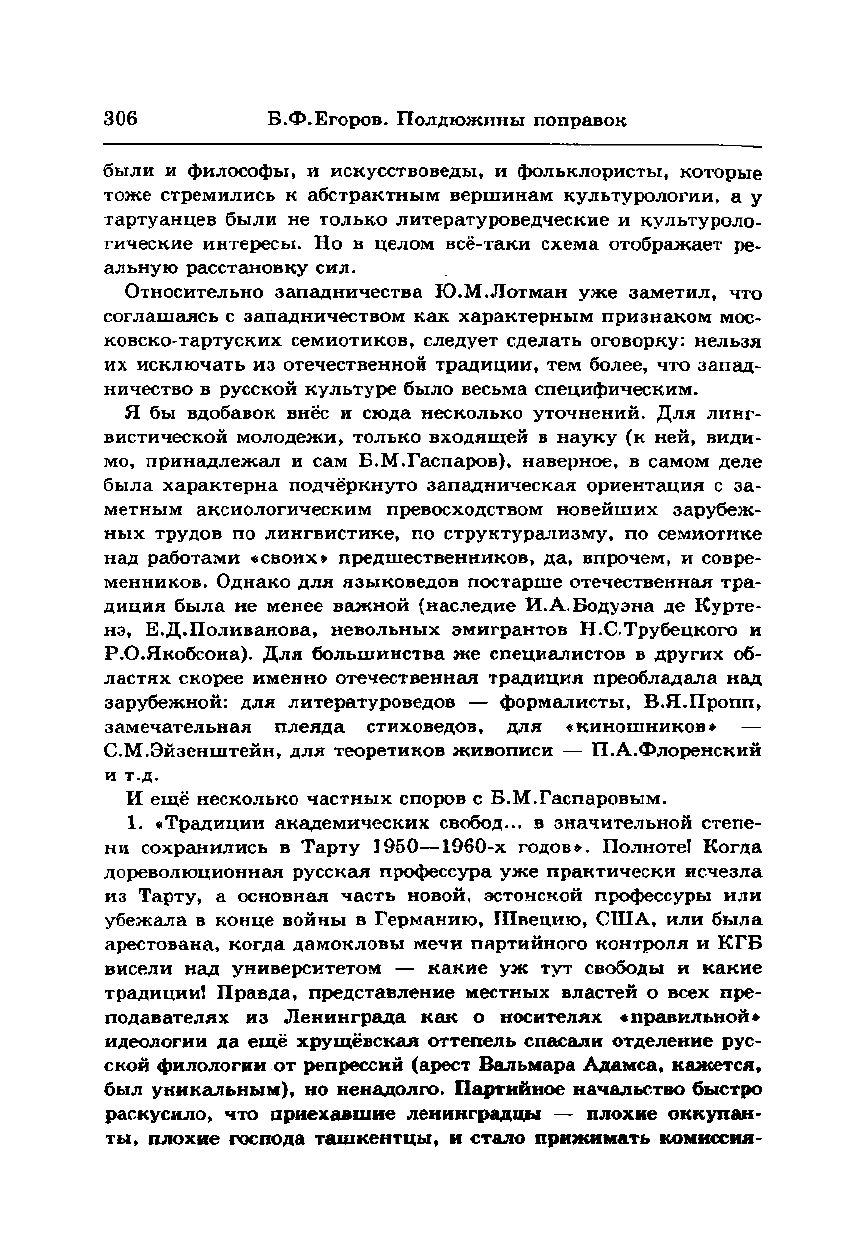
306
Б.Ф.Егоров. Полдюжины поправок
были и философы, и искусствоведы, и фольклористы, которые
тоже стремились к абстрактным вершинам культурологии, а у
тартуанцев были не только литературоведческие и культуроло-
гические интересы. Но в целом всё-таки схема отображает ре-
альную расстановку сил.
Относительно западничества Ю.М.Лотман уже заметил, что
соглашаясь с западничеством как характерным признаком мос-
ковско-тартуских семиотиков, следует сделать оговорку: нельзя
их исключать из отечественной традиции, тем более, что запад-
ничество в русской культуре было весьма специфическим.
Я бы вдобавок внёс и сюда несколько уточнений. Для линг-
вистической молодежи, только входящей в науку (к ней, види-
мо,
принадлежал и сам Б.М.Гаспаров), наверное, в самом деле
была характерна подчёркнуто западническая ориентация с за-
метным аксиологическим превосходством новейших зарубеж-
ных трудов по лингвистике, по структурализму, по семиотике
над работами «своих» предшественников, да, впрочем, и совре-
менников. Однако для языковедов постарше отечественная тра-
диция была не менее важной (наследие И.А.Бодуэна де Курте-
нэ,
Е.Д.Поливанова, невольных эмигрантов Н.СТрубецкого и
Р.О.Якобсона). Для большинства же специалистов в других об-
ластях скорее именно отечественная традиция преобладала над
зарубежной: для литературоведов — формалисты, В.Я.Пропп,
замечательная плеяда стиховедов, для «киношников» —
С.М.Эйзенштейн, для теоретиков живописи — П.А.Флоренский
и т.д.
И ещё несколько частных споров с Б.М.Гаспаровым.
1.
«Традиции академических свобод... в значительной степе-
ни сохранились в Тарту 1950—1960-х годов». Полноте! Когда
дореволюционная русская профессура уже практически исчезла
из Тарту, а основная часть новой, эстонской профессуры или
убежала в конце войны в Германию, Швецию, США, или была
арестована, когда дамокловы мечи партийного контроля и КГБ
висели над университетом — какие уж тут свободы и какие
традиции! Правда, представление местных властей о всех пре-
подавателях из Ленинграда как о носителях «правильной»
идеологии да ещё хрущёвская оттепель спасали отделение рус-
ской филологии от репрессий (арест Вальмара Адамса, кажется,
был уникальным), но ненадолго. Партийное начальство быстро
раскусило, что приехавшие ленинградцы — плохие оккупан-
ты,
плохие господа ташкентцы, и стало прижимать комиссия-
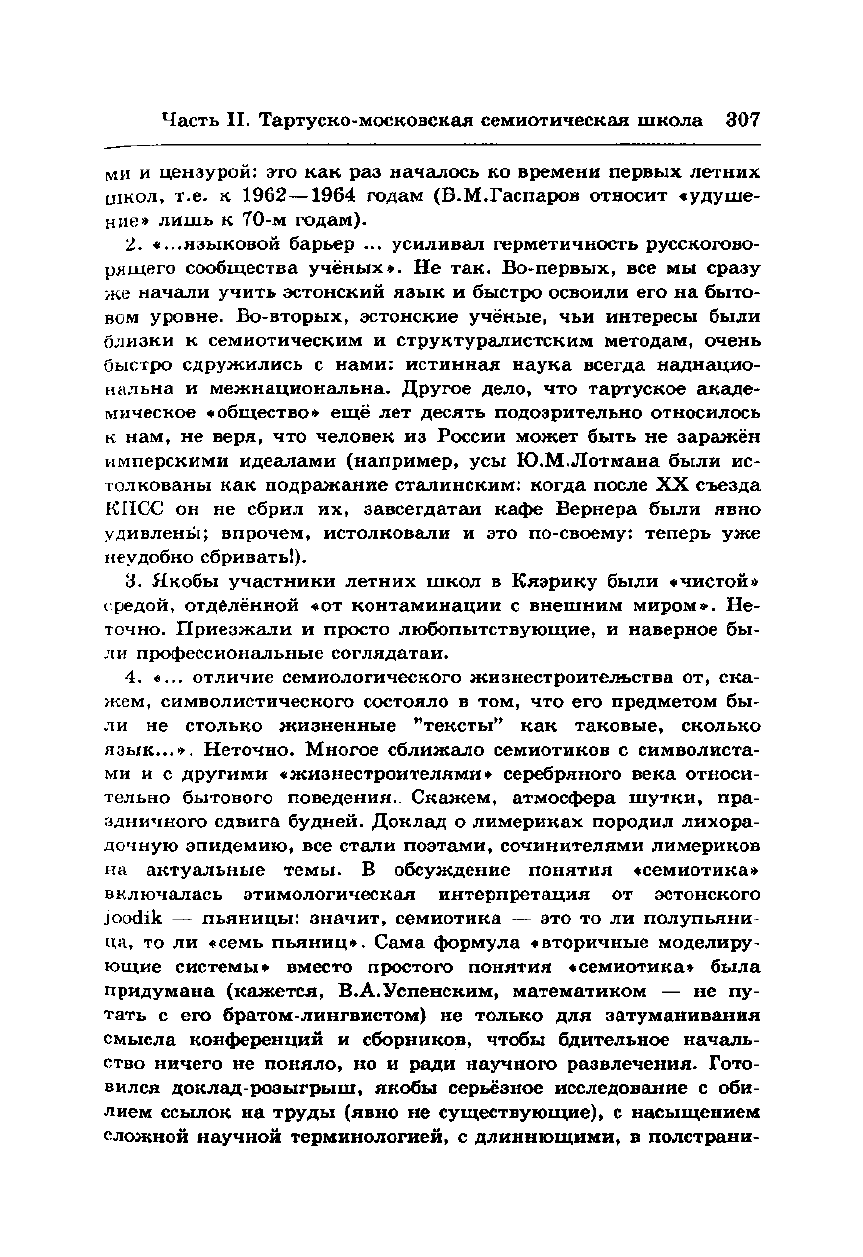
Часть II. Тартуско-московская семиотическая школа 307
ми и цензурой: это как раз началось ко времени первых летних
школ, т.е. к 1962—1964 годам (Б.М.Гаспаров относит «удуше-
ние» лишь к 70-м годам).
2.
«...языковой барьер ... усиливал герметичность русскогово-
рящего сообщества учёных». Не так. Во-первых, все мы сразу
же начали учить эстонский язык и быстро освоили его на быто-
вом уровне. Во-вторых, эстонские учёные, чьи интересы были
близки к семиотическим и структуралистским методам, очень
быстро сдружились с нами: истинная наука всегда наднацио-
нальна и межнациональна. Другое дело, что тартуское акаде-
мическое «общество» ещё лет десять подозрительно относилось
к нам, не веря, что человек из России может быть не заражён
имперскими идеалами (например, усы Ю.М.Лотмана были ис-
толкованы как подражание сталинским: когда после XX съезда
КПСС он не сбрил их, завсегдатаи кафе Вернера были явно
удивлены; впрочем, истолковали и это по-своему: теперь уже
неудобно сбривать!).
3.
Якобы участники летних школ в Кяэрику были «чистой»
средой, отделённой «от контаминации с внешним миром». Не-
точно. Приезжали и просто любопытствующие, и наверное бы-
ли профессиональные соглядатаи.
4.
«... отличие семиологического жизнестроительства от, ска-
жем, символистического состояло в том, что его предметом бы-
ли не столько жизненные "тексты" как таковые, сколько
язык...». Неточно. Многое сближало семиотиков с символиста-
ми и с другими «жизнестроителями» серебряного века относи-
тельно бытового поведения. Скажем, атмосфера шутки, пра-
здничного сдвига будней. Доклад о лимериках породил лихора-
дочную эпидемию, все стали поэтами, сочинителями лимериков
на актуальные темы. В обсуждение понятия «семиотика»
включалась этимологическая интерпретация от эстонского
joodik — пьяницы: значит, семиотика — это то ли полупьяни-
ца, то ли «семь пьяниц». Сама формула «вторичные моделиру-
ющие системы» вместо простого понятия «семиотика» была
придумана (кажется, В.А.Успенским, математиком — не пу-
тать с его братом-лингвистом) не только для затуманивания
смысла конференций и сборников, чтобы бдительное началь-
ство ничего не поняло, но и ради научного развлечения. Гото-
вился доклад-розыгрыш, якобы серьёзное исследование с оби-
лием ссылок на труды (явно не существующие), с насыщением
сложной научной терминологией, с длиннющими, в полстрани-
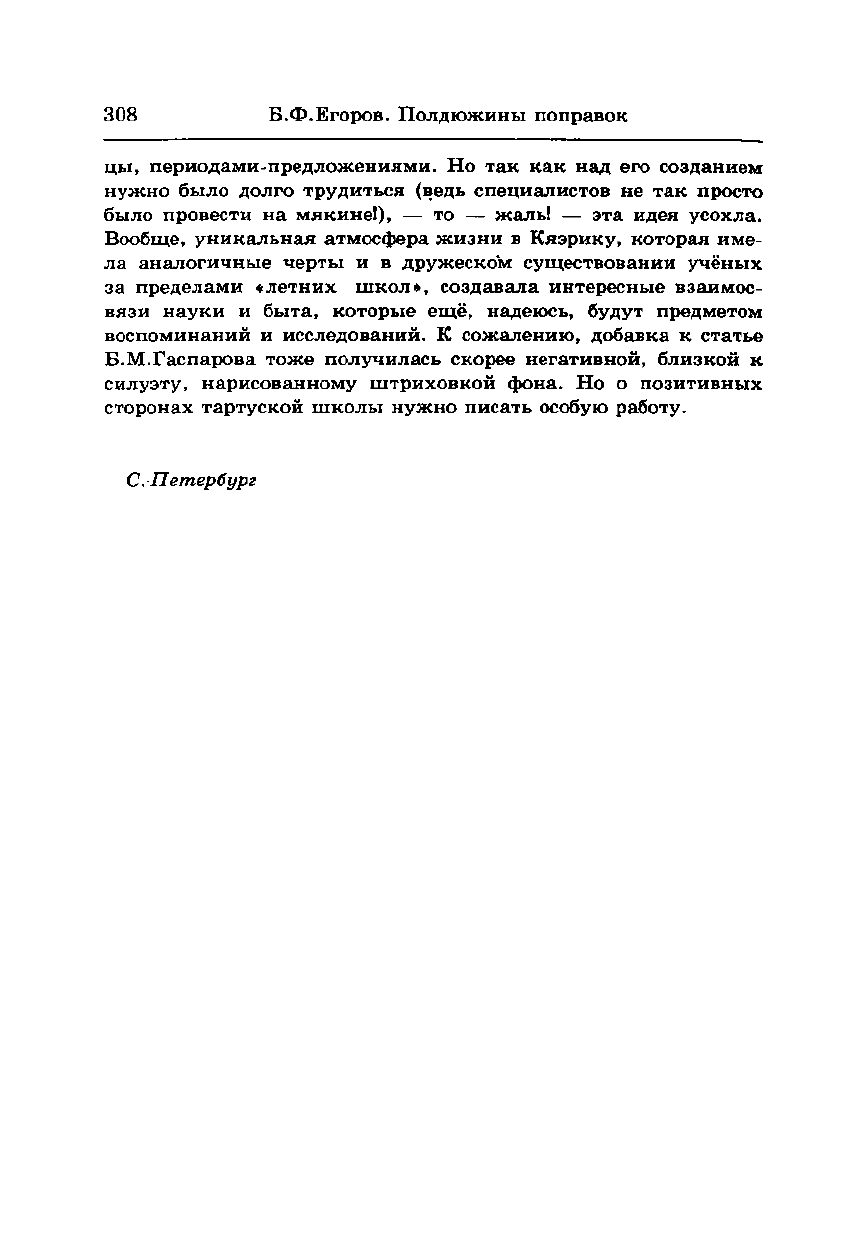
308 Б.Ф.Егоров. Полдюжины поправок
цы,
периодами-предложениями. Но так как над его созданием
нужно было долго трудиться (ведь специалистов не так просто
было провести на мякине!), — то — жаль! — эта идея усохла.
Вообще, уникальная атмосфера жизни в Кяэрику, которая име-
ла аналогичные черты и в дружеском существовании учёных
за пределами «летних школ», создавала интересные взаимос-
вязи науки и быта, которые ещё, надеюсь, будут предметом
воспоминаний и исследований. К сожалению, добавка к статье
Б.М.Гаспарова тоже получилась скорее негативной, близкой к
силуэту, нарисованному штриховкой фона. Но о позитивных
сторонах тартуской школы нужно писать особую работу.
С.-Петербург
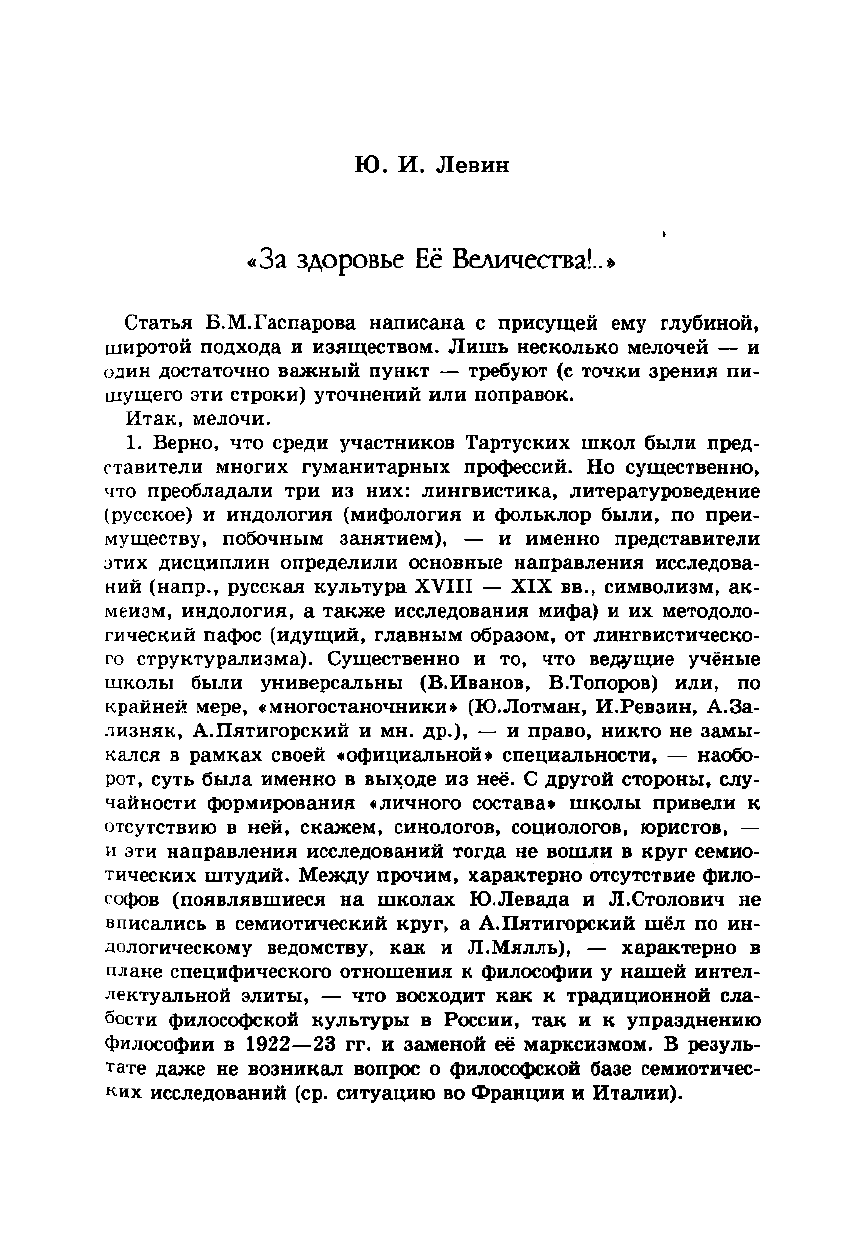
Ю.
И. Левин
«За здоровье Её Величества!..»
Статья Б.М.Гаспарова написана с присущей ему глубиной,
широтой подхода и изяществом. Лишь несколько мелочей — и
один достаточно важный пункт — требуют (с точки зрения пи-
шущего эти строки) уточнений или поправок.
Итак, мелочи.
1.
Верно, что среди участников Тартуских школ были пред-
ставители многих гуманитарных профессий. Но существенно,
что преобладали три из них: лингвистика, литературоведение
(русское) и индология (мифология и фольклор были, по преи-
муществу, побочным занятием), — и именно представители
этих дисциплин определили основные направления исследова-
ний (напр., русская культура XVIII — XIX вв., символизм, ак-
меизм, индология, а также исследования мифа) и их методоло-
гический пафос (идущий, главным образом, от лингвистическо-
го структурализма). Существенно и то, что ведущие учёные
школы были универсальны (В.Иванов, В.Топоров) или, по
крайней мере, «многостаночники» (Ю.Лотман, И.Ревзин, А.За-
лизняк, А.Пятигорский и мн. др.), — и право, никто не замы-
кался в рамках своей «официальной» специальности, — наобо-
рот, суть была именно в выходе из неё. С другой стороны, слу-
чайности формирования «личного состава» школы привели к
отсутствию в ней, скажем, синологов, социологов, юристов, —
и эти направления исследований тогда не вошли в круг семио-
тических штудий. Между прочим, характерно отсутствие фило-
софов (появлявшиеся на школах Ю.Левада и Л.Столович не
вписались в семиотический круг, а А.Пятигорский шёл по ин-
дологическому ведомству, как и Л.Мялль), — характерно в
плане специфического отношения к философии у нашей интел-
лектуальной элиты, — что восходит как к традиционной сла-
бости философской культуры в России, так и к упразднению
философии в 1922—23 гг. и заменой её марксизмом. В резуль-
тате даже не возникал вопрос о философской базе семиотичес-
ких исследований (ср. ситуацию во Франции и Италии).
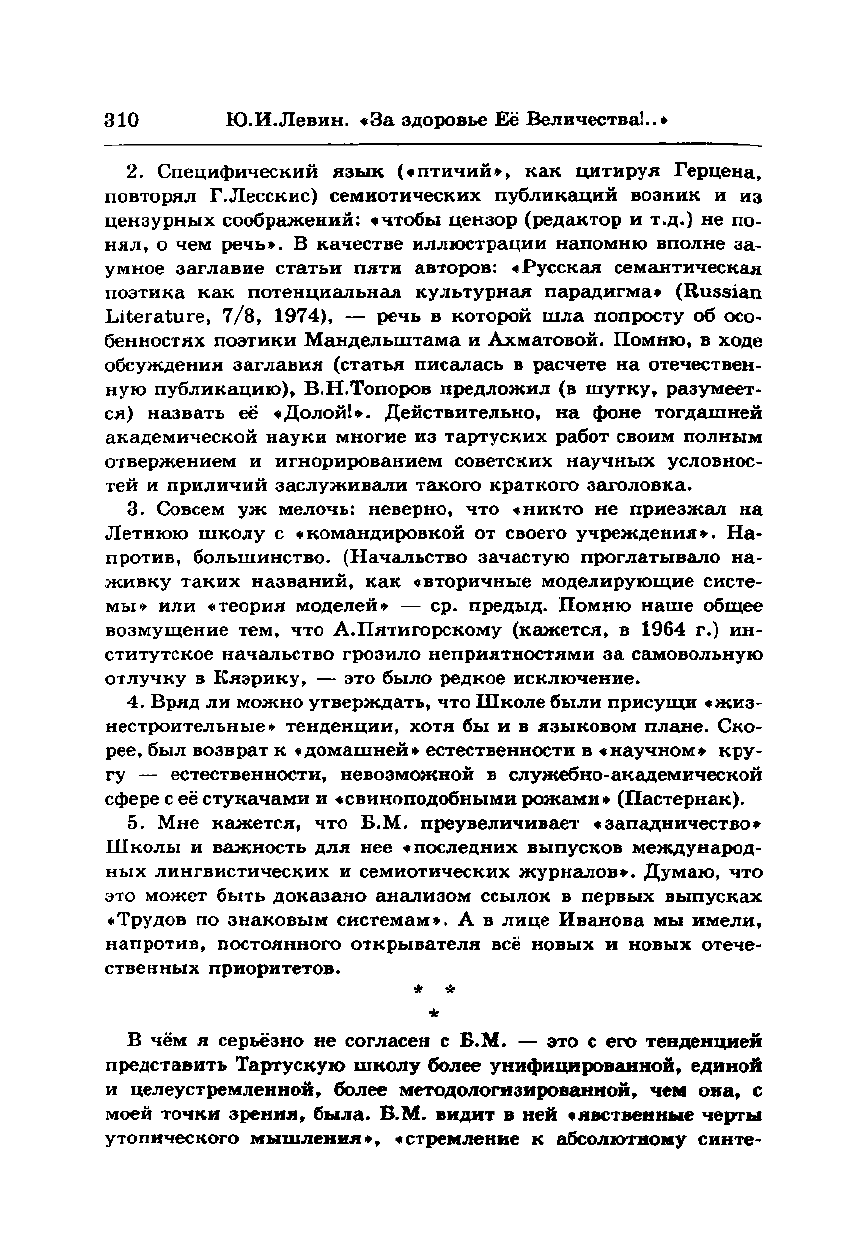
310 Ю.И.Левин. «За здоровье Её Величества!..»
2.
Специфический язык («птичий», как цитируя Герцена,
повторял Г.Лесскис) семиотических публикаций возник и из
цензурных соображений: «чтобы цензор (редактор и т.д.) не по-
нял, о чем речь». В качестве иллюстрации напомню вполне за-
умное заглавие статьи пяти авторов: «Русская семантическая
поэтика как потенциальная культурная парадигма» (Russian
Literature, 7/8, 1974), — речь в которой шла попросту об осо-
бенностях поэтики Мандельштама и Ахматовой. Помню, в ходе
обсуждения заглавия (статья писалась в расчете на отечествен-
ную публикацию), В.Н.Топоров предложил (в шутку, разумеет-
ся) назвать её «Долой!». Действительно, на фоне тогдашней
академической науки многие из тартуских работ своим полным
отвержением и игнорированием советских научных условнос-
тей и приличий заслуживали такого краткого заголовка.
3.
Совсем уж мелочь: неверно, что «никто не приезжал на
Летнюю школу с «командировкой от своего учреждения». На-
против, большинство. (Начальство зачастую проглатывало на-
живку таких названий, как «вторичные моделирующие систе-
мы» или «теория моделей» — ср. предыд. Помню наше общее
возмущение тем, что А.Пятигорскому (кажется, в 1964 г.) ин-
ститутское начальство грозило неприятностями за самовольную
отлучку в Кяэрику, — это было редкое исключение.
4.
Вряд ли можно утверждать, что Школе были присущи «жиз-
нестроительные» тенденции, хотя бы и в языковом плане. Ско-
рее,
был возврат к «домашней» естественности в «научном» кру-
гу — естественности, невозможной в служебно-академической
сфере с её стукачами и «свиноподобными рожами» (Пастернак).
5.
Мне кажется, что Б.М. преувеличивает «западничество»
Школы и важность для нее «последних выпусков международ-
ных лингвистических и семиотических журналов». Думаю, что
это может быть доказано анализом ссылок в первых выпусках
«Трудов по знаковым системам». А в лице Иванова мы имели,
напротив, постоянного открывателя всё новых и новых отече-
ственных приоритетов.
*
В чём я серьёзно не согласен с Б.М. — это с его тенденцией
представить Тартускую школу более унифицированной, единой
и целеустремленной, более методолога з и ров ан ной, чем она, с
моей точки зрения, была. Б.М. видит в ней «явственные черты
утопического мышления», «стремление к абсолютному синте-
