Лотман Ю.М. Сборник работ (Ю.М. Лотман и тартусско-московская семиотическая школа)
Подождите немного. Документ загружается.

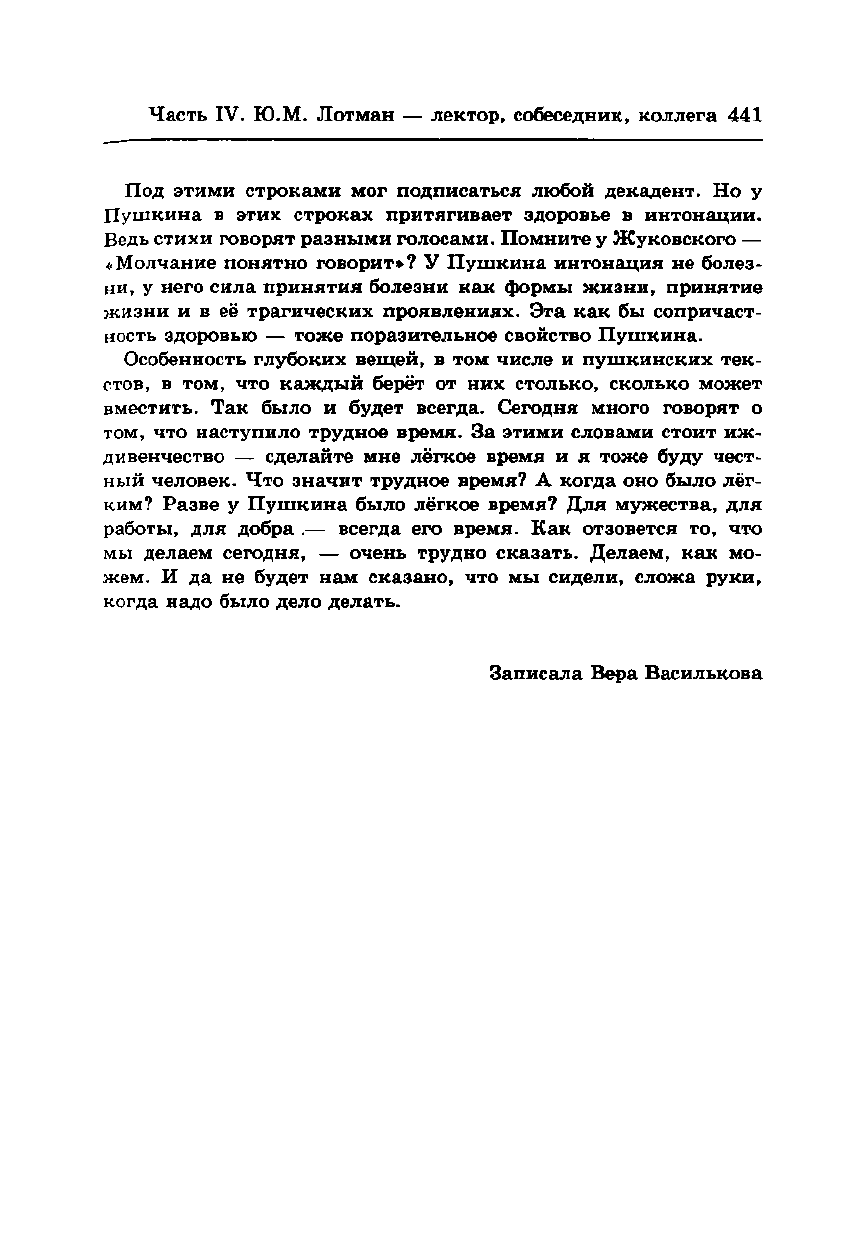
Часть IV. Ю.М. Лотман — лектор, собеседник, коллега 441
Под этими строками мог подписаться любой декадент. Но у
Пушкина в этих строках притягивает здоровье в интонации.
Ведь стихи говорят разными голосами. Помните у Жуковского
—
«Молчание понятно говорит»? У Пушкина интонация не болез-
ни,
у него сила принятия болезни как формы жизни, принятие
жизни и в её трагических проявлениях. Эта как бы сопричаст-
ность здоровью — тоже поразительное свойство Пушкина.
Особенность глубоких вещей, в том числе и пушкинских тек-
стов,
в том, что каждый берёт от них столько, сколько может
вместить. Так было и будет всегда. Сегодня много говорят о
том,
что наступило трудное время. За этими словами стоит иж-
дивенчество — сделайте мне лёгкое время и я тоже буду чест-
ный человек. Что значит трудное время? А когда оно было лёг-
ким? Разве у Пушкина было лёгкое время? Для мужества, для
работы, для добра .— всегда его время. Как отзовется то, что
мы делаем сегодня, — очень трудно сказать. Делаем, как мо-
жем.
И да не будет нам сказано, что мы сидели, сложа руки,
когда надо было дело делать.
Записала Вера Василькова
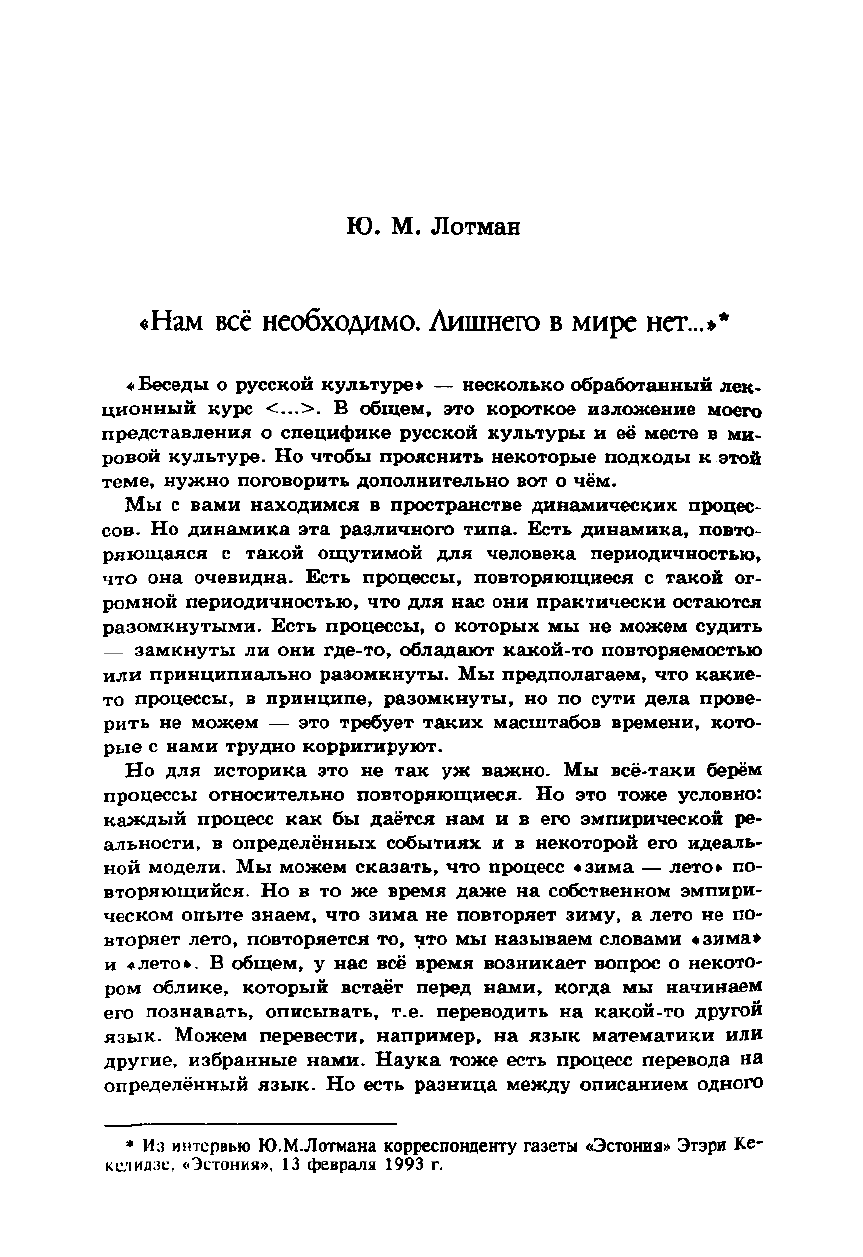
Ю.
М. Лотман
«Нам всё необходимо. Лишнего в мире нет...»*
«Беседы о русской культуре* — несколько обработанный лек-
ционный курс <...>. В общем, это короткое изложение моего
представления о специфике русской культуры и её месте в ми-
ровой культуре. Но чтобы прояснить некоторые подходы к этой
теме, нужно поговорить дополнительно вот о чём.
Мы с вами находимся в пространстве динамических процес-
сов.
Но динамика эта различного типа. Есть динамика, повто-
ряющаяся с такой ощутимой для человека периодичностью,
что она очевидна. Есть процессы, повторяющиеся с такой ог-
ромной периодичностью, что для нас они практически остаются
разомкнутыми. Есть процессы, о которых мы не можем судить
— замкнуты ли они где-то, обладают какой-то повторяемостью
или принципиально разомкнуты. Мы предполагаем, что какие-
то процессы, в принципе, разомкнуты, но по сути дела прове-
рить не можем — это требует таких масштабов времени, кото-
рые с нами трудно корригируют.
Но для историка это не так уж важно. Мы всё-таки берём
процессы относительно повторяющиеся. Но это тоже условно:
каждый процесс как бы даётся нам и в его эмпирической ре-
альности, в определённых событиях и в некоторой его идеаль-
ной модели. Мы можем сказать, что процесс «зима — лето» по-
вторяющийся. Но в то же время даже на собственном эмпири-
ческом опыте знаем, что зима не повторяет зиму, а лето не по-
вторяет лето, повторяется то, что мы называем словами «зима»
и «лето». В общем, у нас всё время возникает вопрос о некото-
ром облике, который встаёт перед нами, когда мы начинаем
его познавать, описывать, т.е. переводить на какой-то другой
язык. Можем перевести, например, на язык математики или
другие, избранные нами. Наука тоже есть процесс перевода на
определённый язык. Но есть разница между описанием одного
* Из интервью Ю.М.Лотмана корреспонденту газеты «Эстония» Этэри Ке-
келидзе, «Эстония», 13 февраля 1993 г.
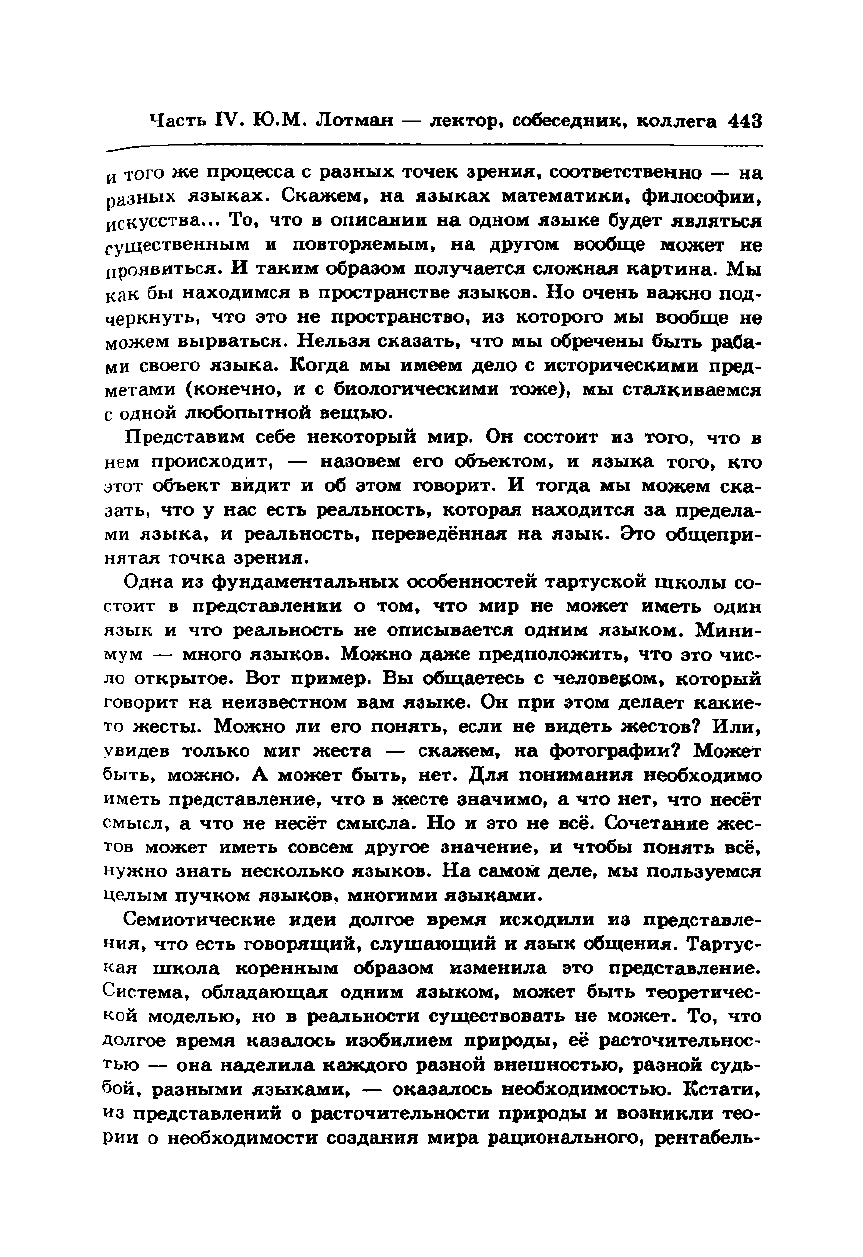
Часть IV. Ю.М. Лотман — лектор, собеседник, коллега 443
и
того же процесса с разных точек зрения, соответственно — на
разных языках. Скажем, на языках математики, философии,
искусства... То, что в описании на одном языке будет являться
существенным и повторяемым, на другом вообще может не
проявиться. И таким образом получается сложная картина. Мы
как бы находимся в пространстве языков. Но очень важно под-
черкнуть, что это не пространство, из которого мы вообще не
можем вырваться. Нельзя сказать, что мы обречены быть раба-
ми своего языка. Когда мы имеем дело с историческими пред-
метами (конечно, и с биологическими тоже), мы сталкиваемся
с одной любопытной вещью.
Представим себе некоторый мир. Он состоит из того, что в
нем происходит, — назовем его объектом, и языка того, кто
этот объект видит и об этом говорит. И тогда мы можем ска-
зать,
что у нас есть реальность, которая находится за предела-
ми языка, и реальность, переведённая на язык. Это общепри-
нятая точка зрения.
Одна из фундаментальных особенностей тартуской школы со-
стоит в представлении о том, что мир не может иметь один
язык и что реальность не описывается одним языком. Мини-
мум — много языков. Можно даже предположить, что это чис-
ло открытое. Вот пример. Вы общаетесь с человеком, который
говорит на неизвестном вам языке. Он при этом делает какие-
то жесты. Можно ли его понять, если не видеть жестов? Или,
увидев только миг жеста — скажем, на фотографии? Может
быть, можно. А может быть, нет. Для понимания необходимо
иметь представление, что в жесте значимо, а что нет, что несёт
смысл, а что не несёт смысла. Но и это не всё. Сочетание жес-
тов может иметь совсем другое значение, и чтобы понять всё,
нужно знать несколько языков. На самом деле, мы пользуемся
целым пучком языков, многими языками.
Семиотические идеи долгое время исходили из представле-
ния,
что есть говорящий, слушающий и язык общения. Тартус-
кая школа коренным образом изменила это представление.
Система, обладающая одним языком, может быть теоретичес-
кой моделью, но в реальности существовать не может. То, что
долгое время казалось изобилием природы, её расточительнос-
тью — она наделила каждого разной внешностью, разной судь-
бой,
разными языками, — оказалось необходимостью. Кстати,
из представлений о расточительности природы и возникли тео-
рии о необходимости создания мира рационального, рентабель-
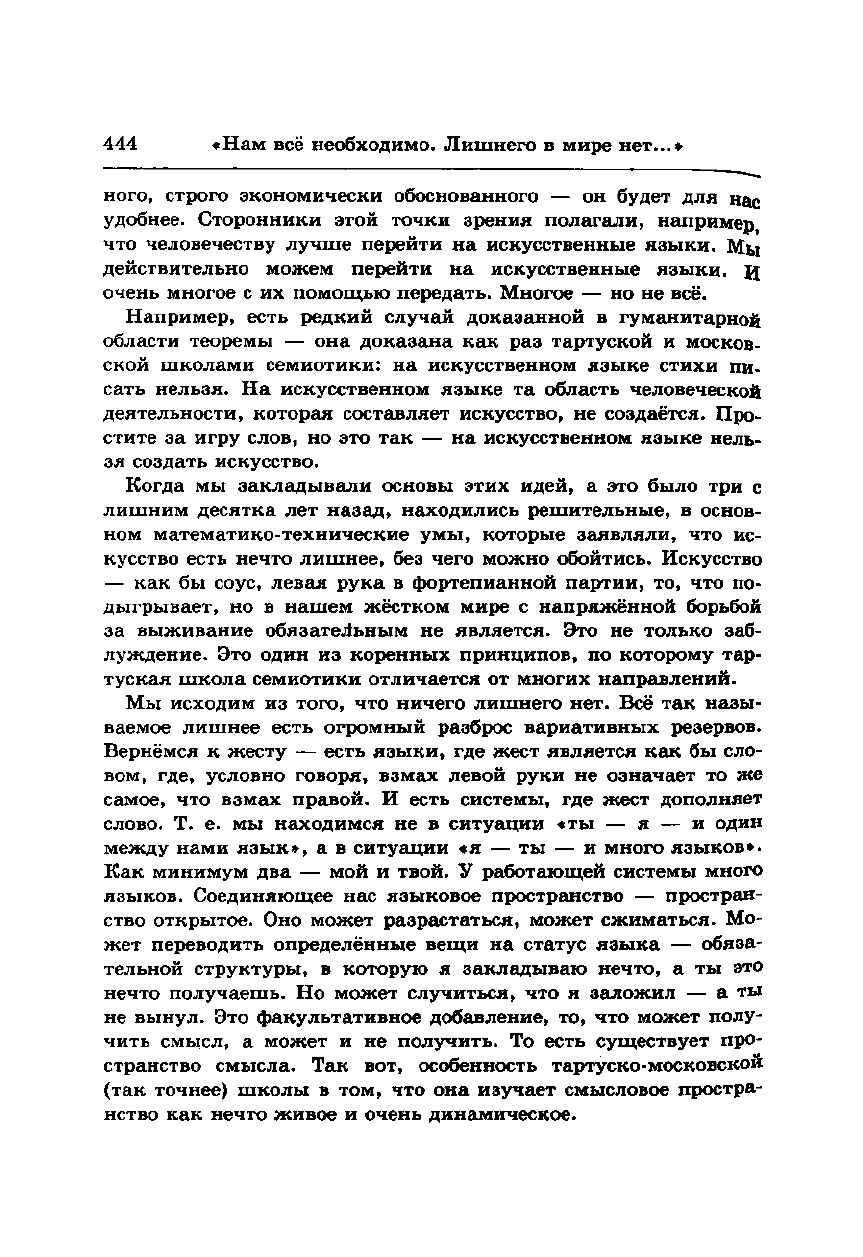
444 «Нам всё необходимо. Лишнего в мире нет...»
ного,
строго экономически обоснованного — он будет для нас
удобнее. Сторонники этой точки зрения полагали, например
что человечеству лучше перейти на искусственные языки. Мы
действительно можем перейти на искусственные языки. Ц
очень многое с их помощью передать. Многое — но не всё.
Например, есть редкий случай доказанной в гуманитарной
области теоремы — она доказана как раз тартуской и москов-
ской школами семиотики: на искусственном языке стихи пи-
сать нельзя. На искусственном языке та область человеческой
деятельности, которая составляет искусство, не создаётся. Про-
стите за игру слов, но это так — на искусственном языке нель-
зя создать искусство.
Когда мы закладывали основы этих идей, а это было три с
лишним десятка лет назад, находились решительные, в основ-
ном математико-технические умы, которые заявляли, что ис-
кусство есть нечто лишнее, без чего можно обойтись. Искусство
— как бы соус, левая рука в фортепианной партии, то, что по-
дыгрывает, но в нашем жёстком мире с напряжённой борьбой
за выживание обязательным не является. Это не только заб-
луждение. Это один из коренных принципов, по которому тар-
туская школа семиотики отличается от многих направлений.
Мы исходим из того, что ничего лишнего нет. Всё так назы-
ваемое лишнее есть огромный разброс вариативных резервов.
Вернёмся к жесту — есть языки, где жест является как бы сло-
вом,
где, условно говоря, взмах левой руки не означает то же
самое, что взмах правой. И есть системы, где жест дополняет
слово. Т. е. мы находимся не в ситуации «ты — я — и один
между нами язык», а в ситуации «я — ты — и много языков».
Как минимум два — мой и твой. У работающей системы много
языков. Соединяющее нас языковое пространство — простран-
ство открытое. Оно может разрастаться, может сжиматься. Мо-
жет переводить определённые вещи на статус языка — обяза-
тельной структуры, в которую я закладываю нечто, а ты это
нечто получаешь. Но может случиться, что я заложил — а ты
не вынул. Это факультативное добавление, то, что может полу-
чить смысл, а может и не получить. То есть существует про-
странство смысла. Так вот, особенность тартуско-московской
(так точнее) школы в том, что она изучает смысловое простра-
нство как нечто живое и очень динамическое.
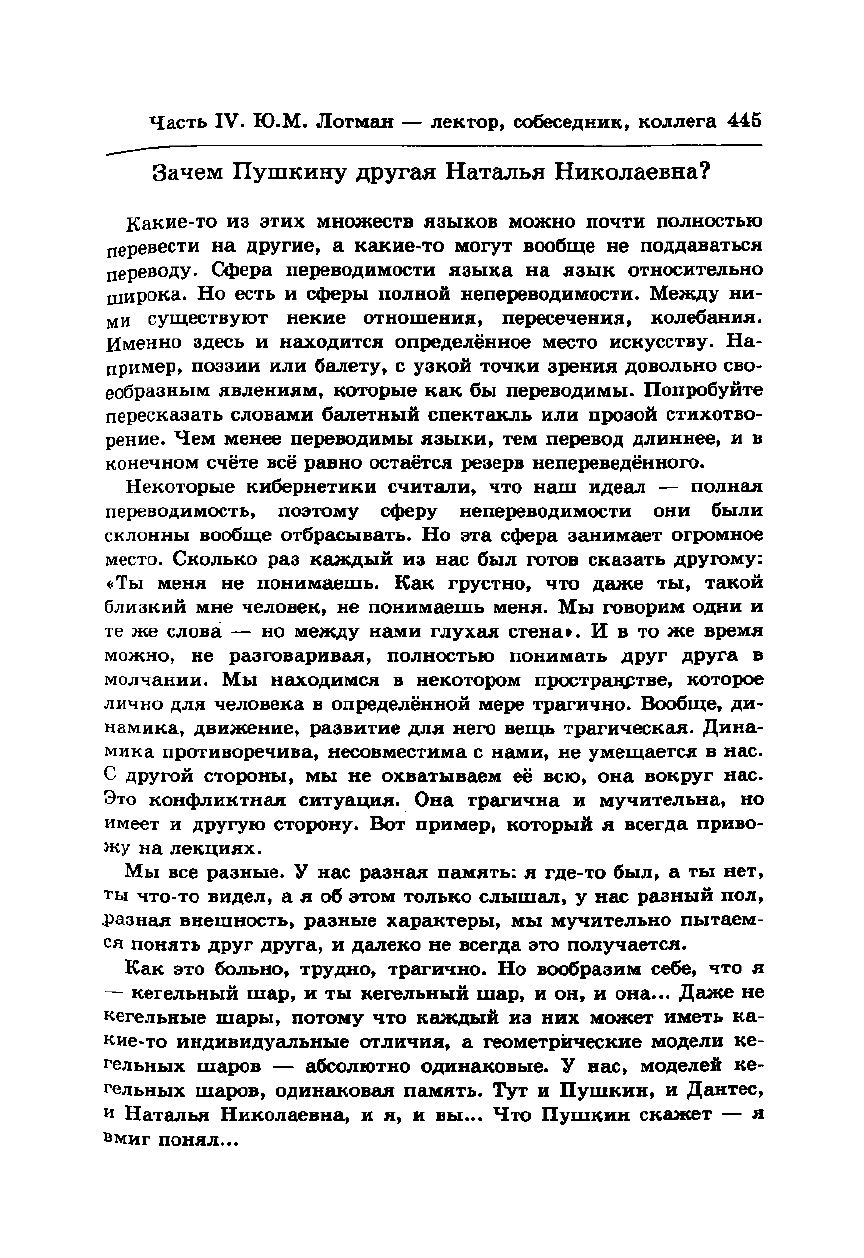
Часть IV. Ю.М. Лотман — лектор, собеседник, коллега 445
Зачем Пушкину другая Наталья Николаевна?
Какие-то из этих множеств языков можно почти полностью
перевести на другие, а какие-то могут вообще не поддаваться
переводу. Сфера переводимости языка на язык относительно
широка. Но есть и сферы полной непереводимости. Между ни-
ми существуют некие отношения, пересечения, колебания.
Именно здесь и находится определённое место искусству. На-
пример, поэзии или балету, с узкой точки зрения довольно сво-
еобразным явлениям, которые как бы переводимы. Попробуйте
пересказать словами балетный спектакль или прозой стихотво-
рение. Чем менее переводимы языки, тем перевод длиннее, и в
конечном счёте всё равно остаётся резерв непереведённого.
Некоторые кибернетики считали, что наш идеал — полная
переводимость, поэтому сферу непереводимости они были
склонны вообще отбрасывать. Но эта сфера занимает огромное
место. Сколько раз каждый из нас был готов сказать другому:
«Ты меня не понимаешь. Как грустно, что даже ты, такой
близкий мне человек, не понимаешь меня. Мы говорим одни и
те же слова — но между нами глухая стена». И в то же время
можно, не разговаривая, полностью понимать друг друга в
молчании. Мы находимся в некотором прострацртве, которое
лично для человека в определённой мере трагично. Вообще, ди-
намика, движение, развитие для него вещь трагическая. Дина-
мика противоречива, несовместима с нами, не умещается в нас.
С другой стороны, мы не охватываем её всю, она вокруг нас.
Это конфликтная ситуация. Она трагична и мучительна, но
имеет и другую сторону. Вот пример, который я всегда приво-
жу на лекциях.
Мы все разные. У нас разная память: я где-то был, а ты нет,
ты что-то видел, а я об этом только слышал, у нас разный пол,
разная внешность, разные характеры, мы мучительно пытаем-
ся понять друг друга, и далеко не всегда это получается.
Как это больно, трудно, трагично. Но вообразим себе, что я
— кегельный шар, и ты кегельный шар, и он, и она... Даже не
кегельные шары, потому что каждый из них может иметь ка-
кие-то индивидуальные отличия, а геометрические модели ке-
гельных шаров — абсолютно одинаковые. У нас, моделей ке-
гельных шаров, одинаковая память. Тут и Пушкин, и Дантес,
и Наталья Николаевна, и я, и вы... Что Пушкин скажет — я
вмиг понял...
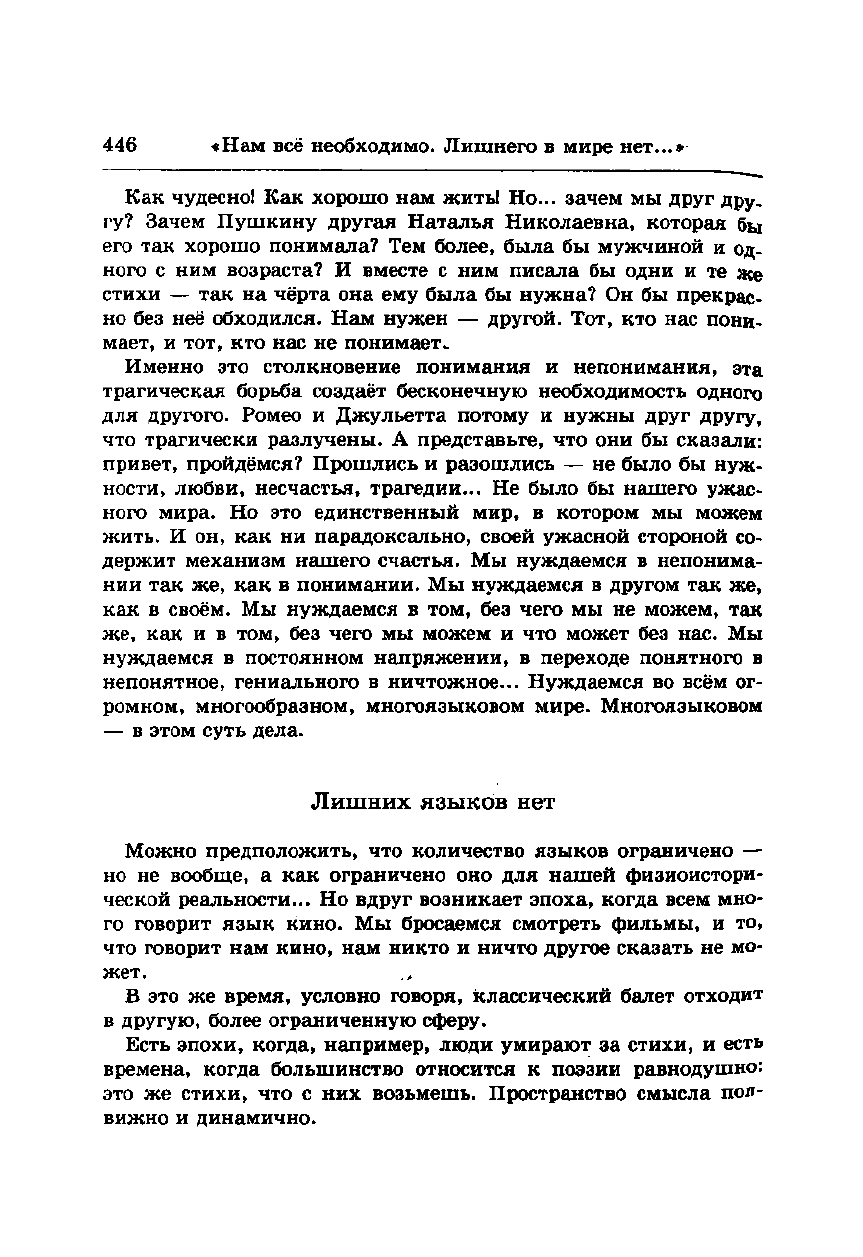
446 «Нам всё необходимо. Лишнего в мире нет...»
Как чудесно! Как хорошо нам жить! Но... зачем мы друг дру.
гу? Зачем Пушкину другая Наталья Николаевна, которая бы
его так хорошо понимала? Тем более, была бы мужчиной и од-
ного с ним возраста? И вместе с ним писала бы одни и те же
стихи — так на чёрта она ему была бы нужна? Он бы прекрас-
но без неё обходился. Нам нужен — другой. Тот, кто нас пони-
мает, и тот, кто нас не понимает-
Именно это столкновение понимания и непонимания, эта
трагическая борьба создаёт бесконечную необходимость одного
для другого. Ромео и Джульетта потому и нужны друг другу,
что трагически разлучены. А представьте, что они бы сказали:
привет, пройдёмся? Прошлись и разошлись — не было бы нуж-
ности, любви, несчастья, трагедии... Не было бы нашего ужас-
ного мира. Но это единственный мир, в котором мы можем
жить. И он, как ни парадоксально, своей ужасной стороной со-
держит механизм нашего счастья. Мы нуждаемся в непонима-
нии так же, как в понимании. Мы нуждаемся в другом так же,
как в своём. Мы нуждаемся в том, без чего мы не можем, так
же,
как и в том, без чего мы можем и что может без нас. Мы
нуждаемся в постоянном напряжении, в переходе понятного в
непонятное, гениального в ничтожное... Нуждаемся во всём ог-
ромном, многообразном, многоязыковом мире. Многоязыковом
— в этом суть дела.
Лишних языков нет
Можно предположить, что количество языков ограничено —
но не вообще, а как ограничено оно для нашей физиоистори-
ческой реальности... Но вдруг возникает эпоха, когда всем мно-
го говорит язык кино. Мы бросаемся смотреть фильмы, и то,
что говорит нам кино, нам никто и ничто другое сказать не мо-
жет.
В это же время, условно говоря, классический балет отходит
в другую, более ограниченную сферу.
Есть эпохи, когда, например, люди умирают за стихи, и есть
времена, когда большинство относится к поэзии равнодушно:
это же стихи, что с них возьмешь. Пространство смысла под-
вижно и динамично.
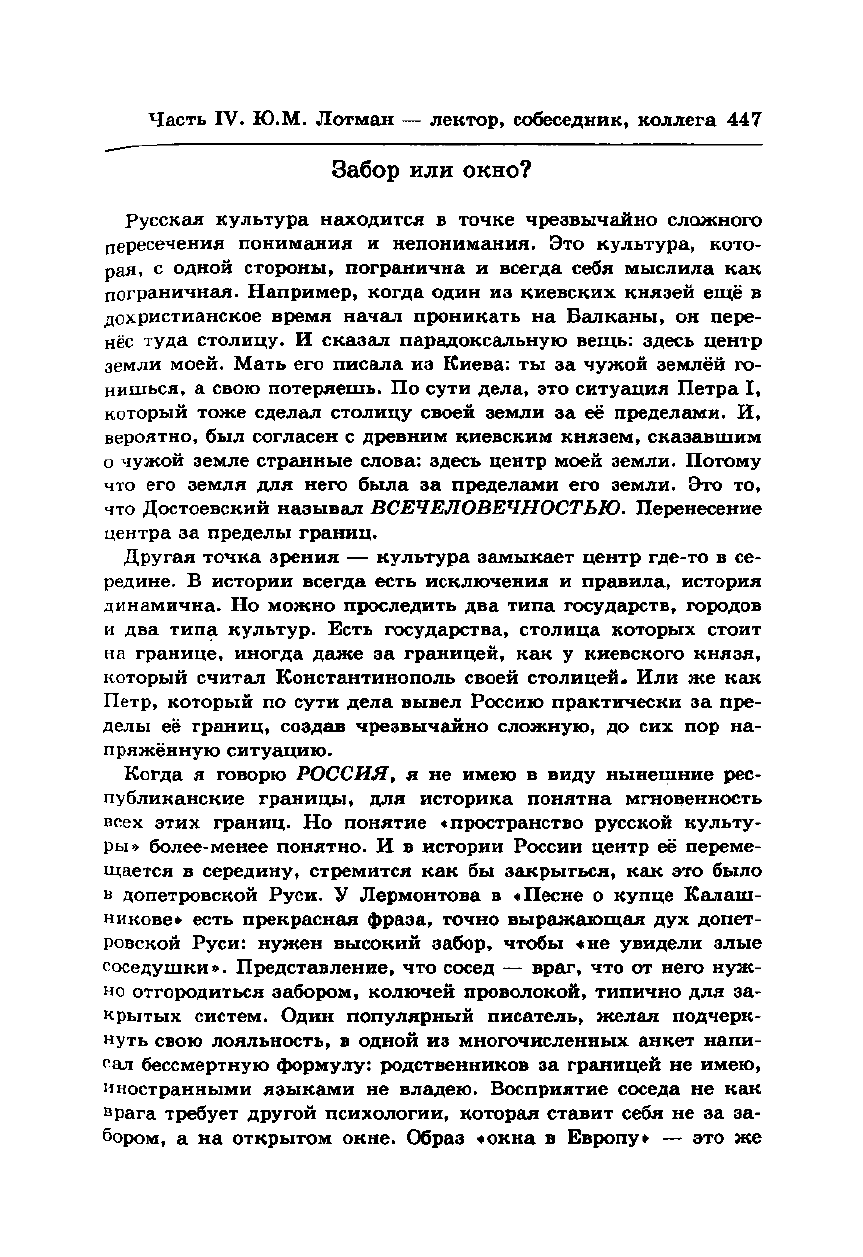
Часть IV. Ю.М. Лотман — лектор, собеседник, коллега 447
Забор или окно?
Русская культура находится в точке чрезвычайно сложного
пересечения понимания и непонимания. Это культура, кото-
рая,
с одной стороны, погранична и всегда себя мыслила как
пограничная. Например, когда один из киевских князей ещё в
дохристианское время начал проникать на Балканы, он пере-
нёс туда столицу. И сказал парадоксальную вещь: здесь центр
земли моей. Мать его писала из Киева: ты за чужой землёй го-
нишься, а свою потеряешь. По сути дела, это ситуация Петра I,
который тоже сделал столицу своей земли за её пределами. И,
вероятно, был согласен с древним киевским князем, сказавшим
о чужой земле странные слова: здесь центр моей земли. Потому
что его земля для него была за пределами его земли. Это то,
что Достоевский называл ВСЕЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ. Перенесение
центра за пределы границ.
Другая точка зрения — культура замыкает центр где-то в се-
редине. В истории всегда есть исключения и правила, история
динамична. Но можно проследить два типа государств, городов
и два типа культур. Есть государства, столица которых стоит
на границе, иногда даже за границей, как у киевского князя,
который считал Константинополь своей столицей. Или лее как
Петр,
который по сути дела вывел Россию практически за пре-
делы её границ, создав чрезвычайно сложную, до сих пор на-
пряжённую ситуацию.
Когда я говорю РОССИЯ, я не имею в виду нынешние рес-
публиканские границы, для историка понятна мгновенность
всех этих границ. Но понятие * пространство русской культу-
ры» более-менее понятно. И в истории России центр её переме-
щается в середину, стремится как бы закрыться, как это было
в допетровской Руси. У Лермонтова в «Песне о купце Калаш-
никове» есть прекрасная фраза, точно выражающая дух допет-
ровской Руси: нужен высокий забор, чтобы «не увидели злые
соседушки». Представление, что сосед — враг, что от него нуж-
но отгородиться забором, колючей проволокой, типично для за-
крытых систем. Один популярный писатель, желая подчерк-
нуть свою лояльность, в одной из многочисленных анкет напи-
сал бессмертную формулу: родственников за границей не имею,
иностранными языками не владею. Восприятие соседа не как
врага требует другой психологии, которая ставит себя не за за-
бором, а на открытом окне. Образ «окна в Европу» — это же
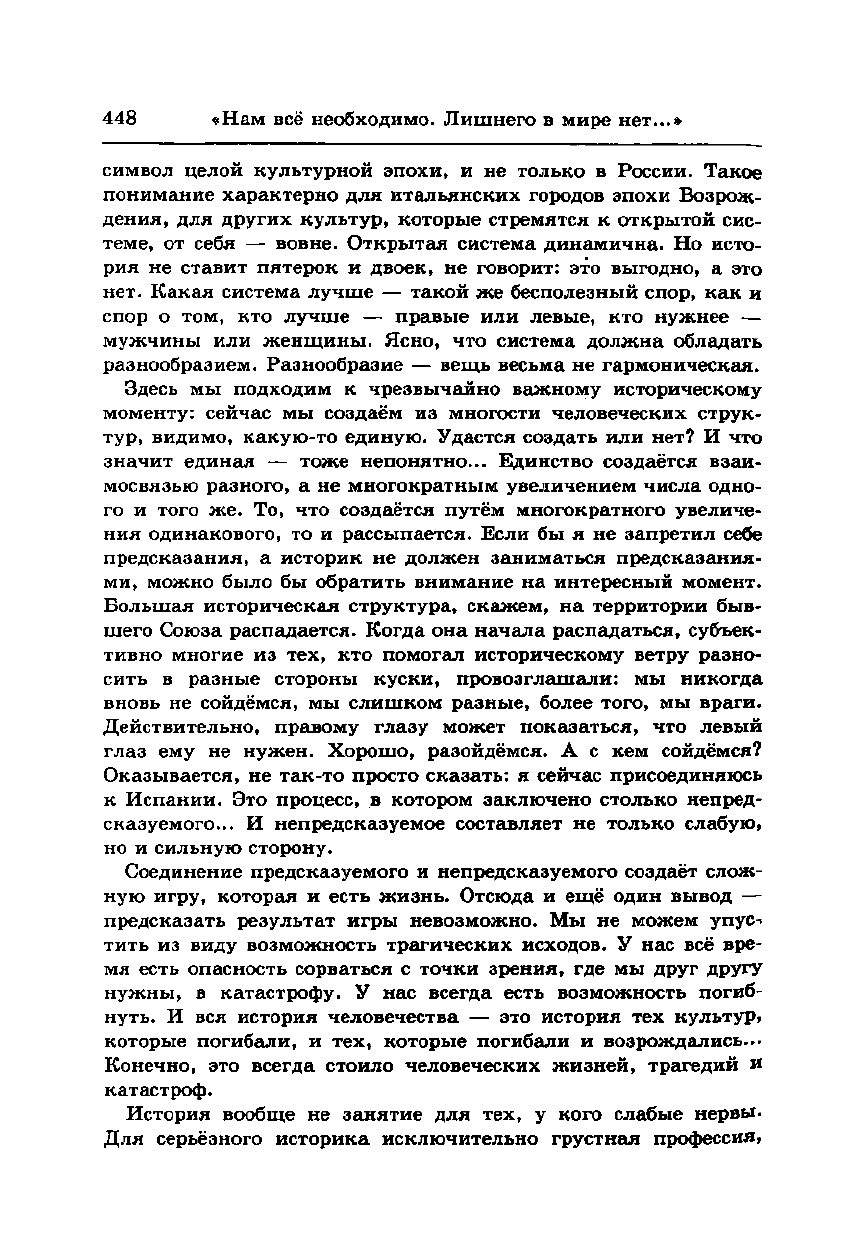
448 «Нам всё необходимо. Лишнего в мире нет...»
символ целой культурной эпохи, и не только в России. Такое
понимание характерно для итальянских городов эпохи Возрож-
дения, для других культур, которые стремятся к открытой сис-
теме, от себя — вовне. Открытая система динамична. Но исто-
рия не ставит пятерок и двоек, не говорит: это выгодно, а это
нет. Какая система лучше — такой же бесполезный спор, как и
спор о том, кто лучше — правые или левые, кто нужнее —
мужчины или женщины. Ясно, что система должна обладать
разнообразием. Разнообразие — вещь весьма не гармоническая.
Здесь мы подходим к чрезвычайно важному историческому
моменту: сейчас мы создаём из многости человеческих струк-
тур,
видимо, какую-то единую. Удастся создать или нет? И что
значит единая — тоже непонятно... Единство создаётся взаи-
мосвязью разного, а не многократным увеличением числа одно-
го и того же. То, что создаётся путём многократного увеличе-
ния одинакового, то и рассыпается. Если бы я не запретил себе
предсказания, а историк не должен заниматься предсказания-
ми,
можно было бы обратить внимание на интересный момент.
Большая историческая структура, скажем, на территории быв-
шего Союза распадается. Когда она начала распадаться, субъек-
тивно многие из тех, кто помогал историческому ветру разно-
сить в разные стороны куски, провозглашали: мы никогда
вновь не сойдёмся, мы слишком разные, более того, мы враги.
Действительно, правому глазу может показаться, что левый
глаз ему не нужен. Хорошо, разойдёмся. А с кем сойдёмся?
Оказывается, не так-то просто сказать: я сейчас присоединяюсь
к Испании. Это процесс, в котором заключено столько непред-
сказуемого... И непредсказуемое составляет не только слабую,
но и сильную сторону.
Соединение предсказуемого и непредсказуемого создаёт слож-
ную игру, которая и есть жизнь. Отсюда и ещё один вывод —
предсказать результат игры невозможно. Мы не можем упус-.
тить из виду возможность трагических исходов. У нас всё вре-
мя есть опасность сорваться с точки зрения, где мы друг другу
нужны, в катастрофу. У нас всегда есть возможность погиб-
нуть. И вся история человечества — это история тех культур»
которые погибали, и тех, которые погибали и возрождались...
Конечно, это всегда стоило человеческих жизней, трагедий и
катастроф.
История вообще не занятие для тех, у кого слабые нервы.
Для серьёзного историка исключительно грустная профессия,
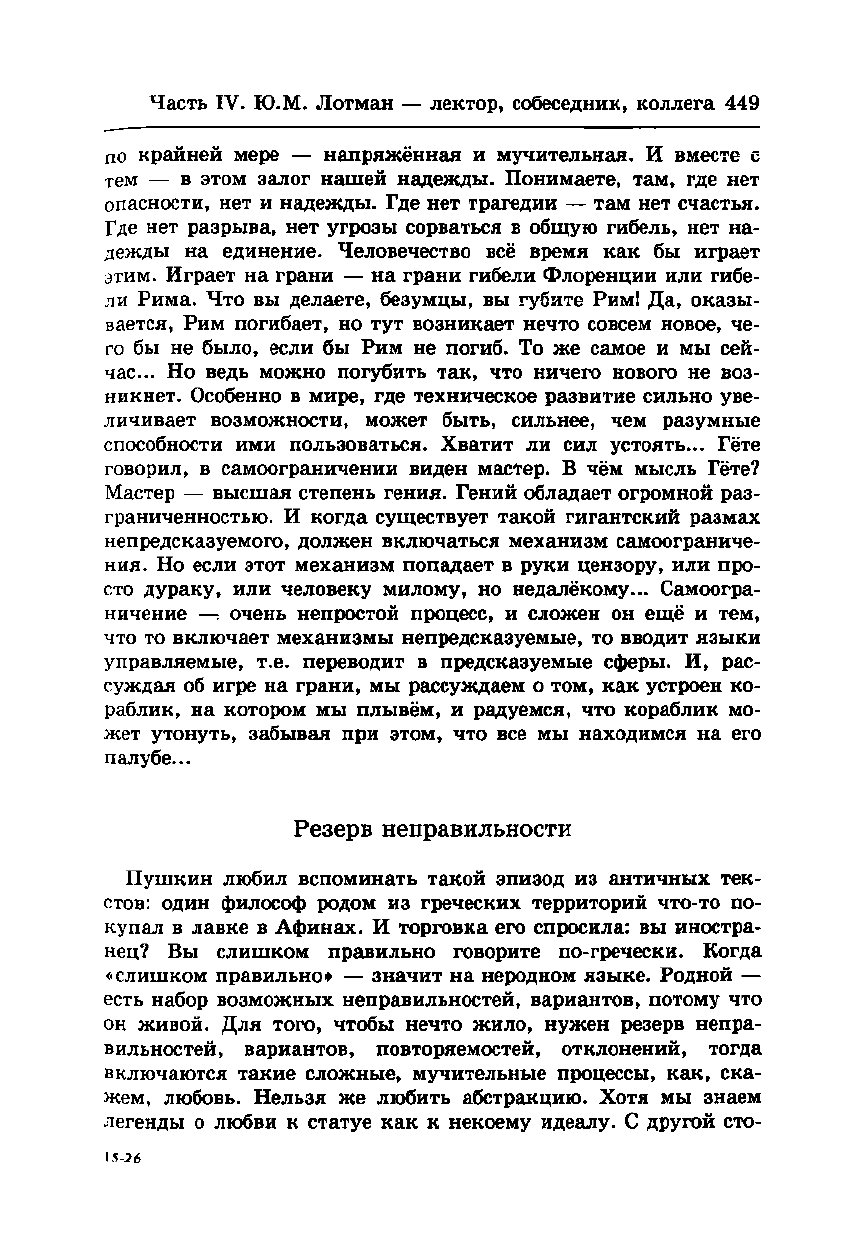
Часть IV. Ю.М. Лотман — лектор, собеседник, коллега 449
по крайней мере — напряжённая и мучительная, И вместе е
тем — в этом залог нашей надежды. Понимаете, там, где нет
опасности, нет и надежды. Где нет трагедии — там нет счастья.
Где нет разрыва, нет угрозы сорваться в общую гибель, нет на-
дежды на единение. Человечество всё время как бы играет
этим.
Играет на грани — на грани гибели Флоренции или гибе-
ли Рима. Что вы делаете, безумцы, вы губите Рим! Да, оказы-
вается, Рим погибает, но тут возникает нечто совсем новое, че-
го бы не было, если бы Рим не погиб. То же самое и мы сей-
час...
Но ведь можно погубить так, что ничего нового не воз-
никнет. Особенно в мире, где техническое развитие сильно уве-
личивает возможности, может быть, сильнее, чем разумные
способности ими пользоваться. Хватит ли сил устоять... Гёте
говорил, в самоограничении виден мастер. В чём мысль Гёте?
Мастер — высшая степень гения. Гений обладает огромной раз-
граниченностью. И когда существует такой гигантский размах
непредсказуемого, должен включаться механизм самоограниче-
ния.
Но если этот механизм попадает в руки цензору, или про-
сто дураку, или человеку милому, но недалёкому... Самоогра-
ничение — очень непростой процесс, и сложен он ещё и тем,
что то включает механизмы непредсказуемые, то вводит языки
управляемые, т.е. переводит в предсказуемые сферы. И, рас-
суждая об игре на грани, мы рассуждаем о том, как устроен ко-
раблик, на котором мы плывём, и радуемся, что кораблик мо-
жет утонуть, забывая при этом, что все мы находимся на его
палубе...
Резерв неправильности
Пушкин любил вспоминать такой эпизод из античных тек-
стов:
один философ родом из греческих территорий что-то по-
купал в лавке в Афинах. И торговка его спросила: вы иностра-
нец? Вы слишком правильно говорите по-гречески. Когда
«слишком правильно» — значит на неродном языке. Родной —
есть набор возможных неправильностей, вариантов, потому что
он живой. Для того, чтобы нечто жило, нужен резерв непра-
вильностей, вариантов, повторяемостей, отклонений, тогда
включаются такие сложные, мучительные процессы, как, ска-
жем,
любовь. Нельзя же любить абстракцию. Хотя мы знаем
легенды о любви к статуе как к некоему идеалу. С другой сто-
15-26
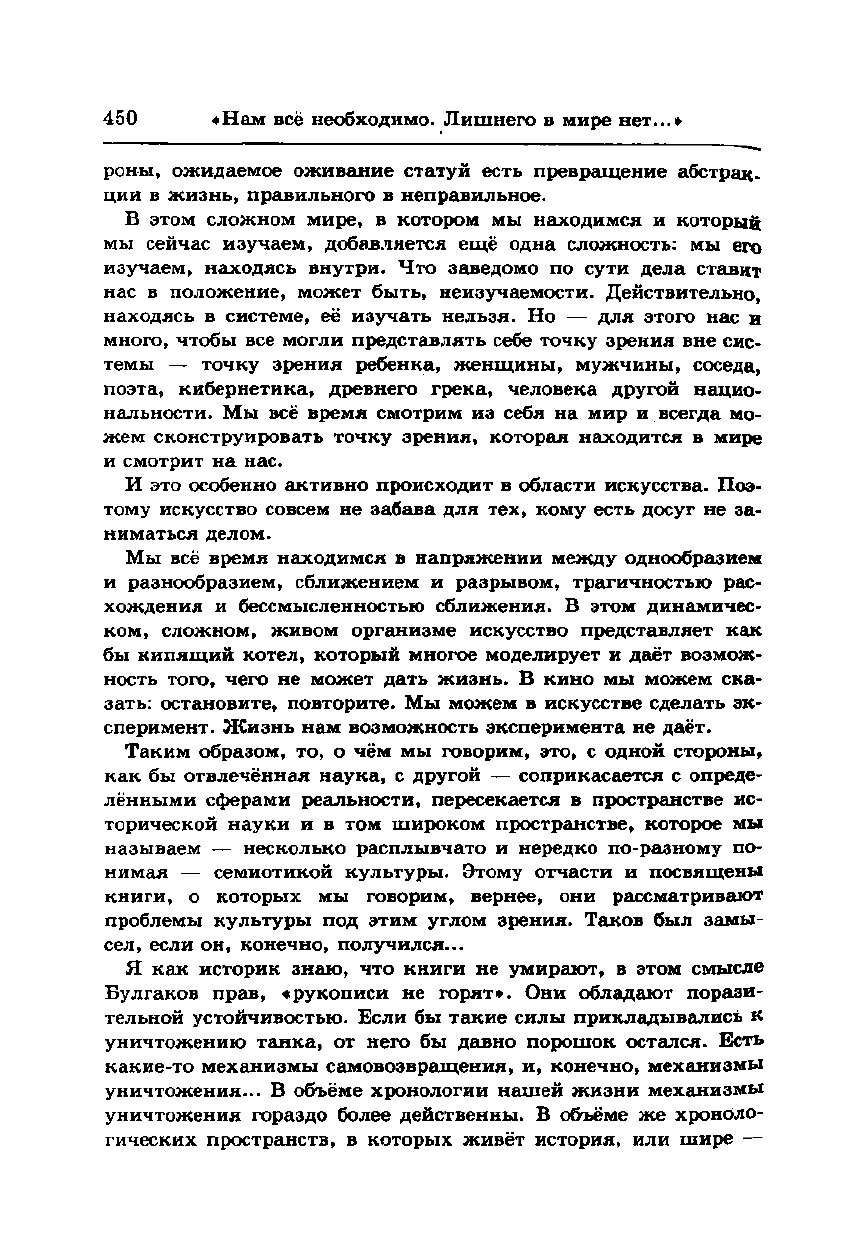
450 «Нам всё необходимо. Лишнего в мире нет...»
роны, ожидаемое оживание статуй есть превращение абстрак-
ции в жизнь, правильного в неправильное.
В этом сложном мире, в котором мы находимся и который
мы сейчас изучаем, добавляется ещё одна сложность: мы eix>
изучаем, находясь внутри. Что заведомо по сути дела ставит
нас в положение, может быть, неизучаемости. Действительно,
находясь в системе, её изучать нельзя. Но — для этого нас и
много, чтобы все могли представлять себе точку зрения вне сис-
темы — точку зрения ребенка, женщины, мужчины, соседа,
поэта, кибернетика, древнего грека, человека другой нацио-
нальности. Мы всё время смотрим из себя на мир и всегда мо-
жем сконструировать точку зрения, которая находится в мире
и смотрит на нас.
И это особенно активно происходит в области искусства. Поэ-
тому искусство совсем не забава для тех, кому есть досуг не за-
ниматься делом.
Мы всё время находимся в напряжении между однообразием
и разнообразием, сближением и разрывом, трагичностью рас-
хождения и бессмысленностью сближения. В этом динамичес-
ком,
сложном, живом организме искусство представляет как
бы кипящий котел, который многое моделирует и даёт возмож-
ность того, чего не может дать жизнь. В кино мы можем ска-
зать:
остановите, повторите. Мы можем в искусстве сделать эк-
сперимент. Жизнь нам возможность эксперимента не даёт.
Таким образом, то, о чём мы говорим, это, с одной стороны,
как бы отвлечённая наука, с другой — соприкасается с опреде-
лёнными сферами реальности, пересекается в пространстве ис-
торической науки и в том широком пространстве, которое мы
называем — несколько расплывчато и нередко по-разному по-
нимая — семиотикой культуры. Этому отчасти и посвящены
книги, о которых мы говорим, вернее, они рассматривают
проблемы культуры под этим углом зрения. Таков был замы-
сел,
если он, конечно, получился...
Я как историк знаю, что книги не умирают, в этом смысле
Булгаков прав, «рукописи не горят». Они обладают порази-
тельной устойчивостью. Если бы такие силы прикладывались к
уничтожению танка, от него бы давно порошок остался. Есть
какие-то механизмы самовозвращения, и, конечно, механизмы
уничтожения... В объёме хронологии нашей жизни механизмы
уничтожения гораздо более действенны. В объёме же хроноло-
гических пространств, в которых живёт история, или шире —
