Николаев П.А. (ред.), Эсалнек А.Я. Хрестоматия по введению в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

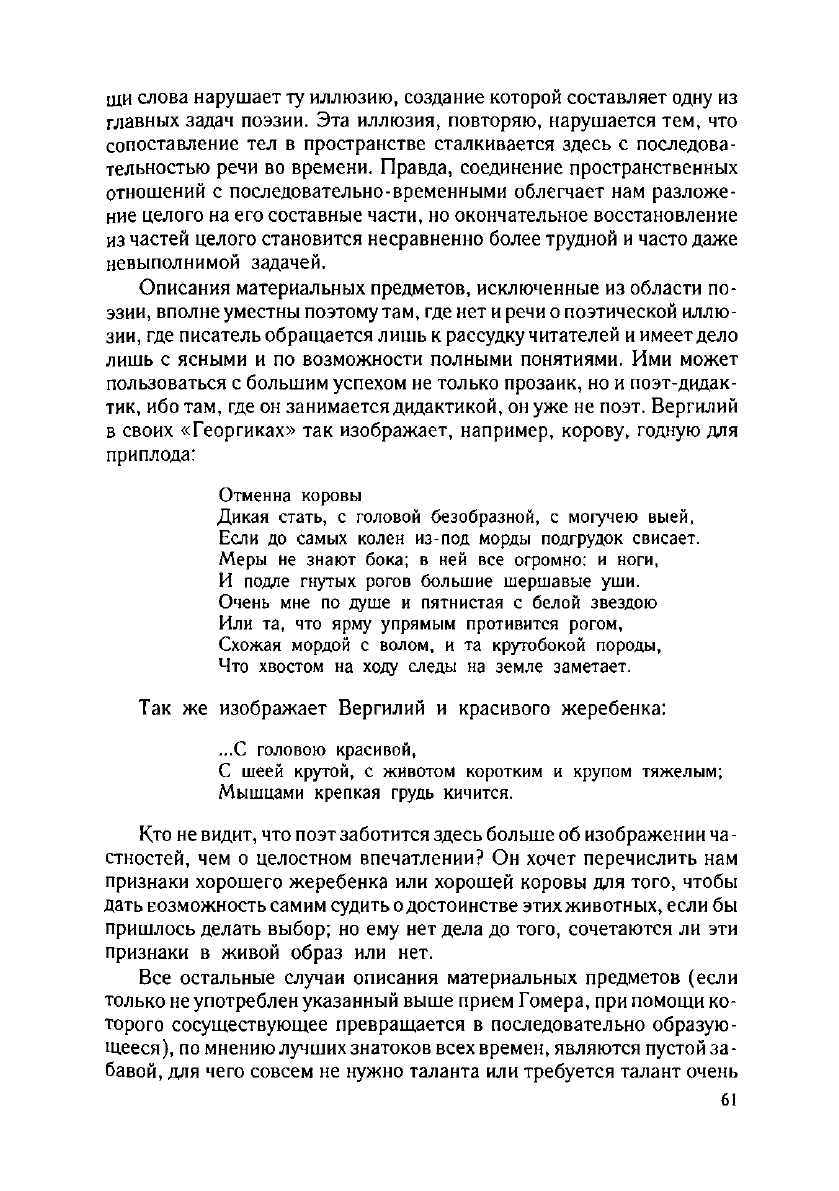
щи слова нарушает ту иллюзию, создание которой составляет одну из
главных задач поэзии. Эта иллюзия, повторяю, нарушается тем, что
сопоставление тел в пространстве сталкивается здесь с последова-
тельностью речи во времени. Правда, соединение пространственных
отношений с последовательно-временными облегчает нам разложе-
ние целого на его составные части, но окончательное восстановление
из частей целого становится несравненно более трудной и часто даже
невыполнимой задачей.
Описания материальных предметов, исключенные из области по-
эзии, вполне уместны поэтому
там,
где нет
и
речи о поэтической иллю-
зии, где писатель обращается лишь к рассудку читателей и имеет дело
лишь с ясными и по возможности полными понятиями. Ими может
пользоваться с большим успехом не только прозаик, но и поэт-дидак-
тик, ибо там, где он занимается дидактикой, он уже не поэт. Вергилий
в своих «Георгиках» так изображает, например, корову, годную для
приплода:
Отменна коровы
Дикая стать, с головой безобразной, с могучею выей,
Если до самых колен из-под морды подгрудок свисает.
Меры не знают бока; в ней все огромно: и ноги,
И подле гнутых рогов большие шершавые уши.
Очень мне по душе и пятнистая с белой звездою
Или та, что ярму упрямым противится рогом,
Схожая мордой с волом, и та крутобокой породы,
Что хвостом на ходу следы на земле заметает.
Так же изображает Вергилий и красивого жеребенка:
...С головою красивой,
С шеей крутой, с животом коротким и крупом тяжелым;
Мышцами крепкая грудь кичится.
Кто не видит, что поэт заботится здесь больше об изображении ча-
стностей, чем о целостном впечатлении? Он хочет перечислить нам
признаки хорошего жеребенка или хорошей коровы для того, чтобы
дать возможность самим судить о достоинстве этих животных, если бы
пришлось делать выбор; но ему нет дела до того, сочетаются ли эти
признаки в живой образ или нет.
Все остальные случаи описания материальных предметов (если
только не употреблен указанный выше прием Гомера, при помощи ко-
торого сосуществующее превращается в последовательно образую-
щееся), по мнению лучших знатоков всех времен, являются пустой за-
бавой, для чего совсем не нужно таланта или требуется талант очень
61
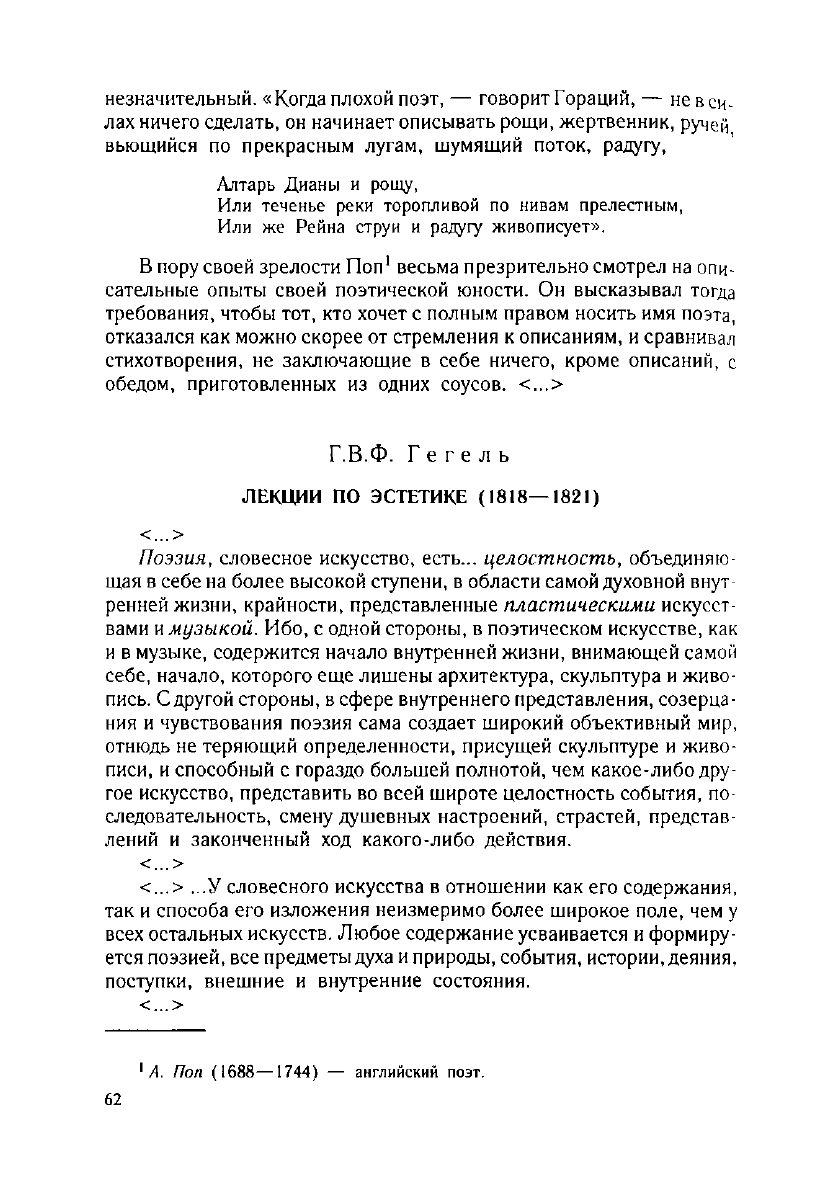
незначительный. «Когда плохой поэт, — говорит Гораций, — не в си-
лах ничего сделать, он начинает описывать рощи, жертвенник, ручей
вьющийся по прекрасным лугам, шумящий поток, радугу,
Алтарь Дианы и рошу,
Или теченье реки торопливой по нивам прелестным,
Или же Рейна струи и радугу живописует».
В пору своей зрелости Поп
1
весьма презрительно смотрел на опи-
сательные опыты своей поэтической юности. Он высказывал тогда
требования, чтобы тот, кто хочет с полным правом носить имя поэта,
отказался как можно скорее от стремления к описаниям, и сравнивал
стихотворения, не заключающие в себе ничего, кроме описаний, с
обедом, приготовленных из одних соусов. <...>
Г.В.Ф. Гегель
ЛЕКЦИИ ПО ЭСТЕТИКЕ (1818—1821)
<...>
Поэзия, словесное искусство, есть... целостность, объединяю-
щая в себе на более высокой ступени, в области самой духовной внут-
ренней жизни, крайности, представленные пластическими искусст-
вами
и
музыкой. Ибо, с одной стороны, в поэтическом искусстве, как
и в музыке, содержится начало внутренней жизни, внимающей самой
себе, начало, которого еще лишены архитектура, скульптура и живо-
пись. С другой стороны, в сфере внутреннего представления, созерца-
ния и чувствования поэзия сама создает широкий объективный мир,
отнюдь не теряющий определенности, присущей скульптуре и живо-
писи, и способный с гораздо большей полнотой, чем какое-либо дру-
гое искусство, представить во всей широте целостность события, по-
следовательность, смену душевных настроений, страстей, представ-
лений и законченный ход какого-либо действия.
<...>
<...> ...У словесного искусства в отношении как его содержания,
так и способа его изложения неизмеримо более широкое поле, чем у
всех остальных искусств. Любое содержание усваивается и формиру-
ется поэзией, все предметы духа и природы, события, истории, деяния,
поступки, внешние и внутренние состояния.
<...>
1
А. Поп (1688—1744) — английский поэт.
62
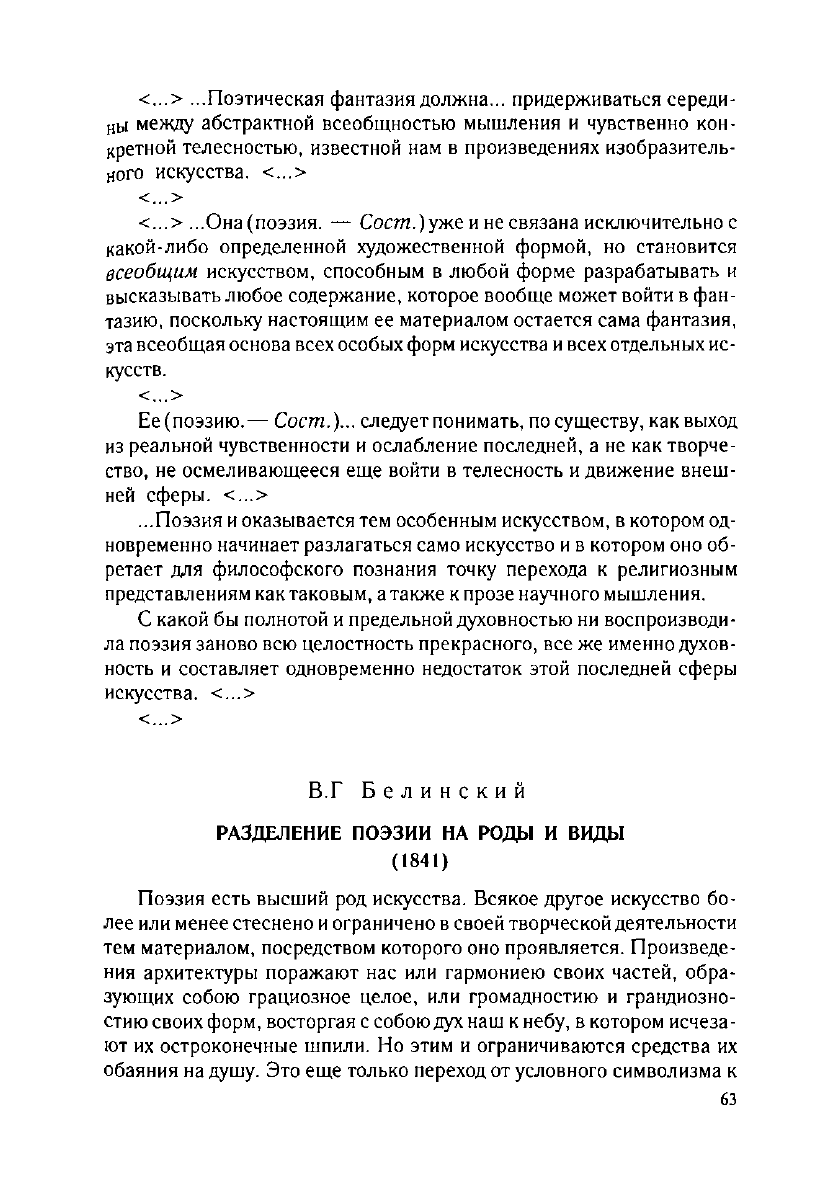
<...> ...Поэтическая фантазия должна... придерживаться середи-
ны между абстрактной всеобщностью мышления и чувственно кон-
кретной телесностью, известной нам в произведениях изобразитель-
ного искусства. <...>
<...>
<...> ...Она (поэзия. — Сост.)уже и не связана исключительно с
какой-либо определенной художественной формой, но становится
всеобщим искусством, способным в любой форме разрабатывать и
высказывать любое содержание, которое вообще может войти в фан-
тазию, поскольку настоящим ее материалом остается сама фантазия,
эта всеобщая основа всех особых форм искусства
и
всех отдельных ис-
кусств.
<...>
Ее (поэзию.— Сост.)... следует понимать, по существу, как выход
из реальной чувственности и ослабление последней, а не как творче-
ство, не осмеливающееся еще войти в телесность и движение внеш-
ней сферы. <...>
...Поэзия
и
оказывается тем особенным искусством, в котором од-
новременно начинает разлагаться само искусство и в котором оно об-
ретает для философского познания точку перехода к религиозным
представлениям как таковым,
а
также к прозе научного мышления.
С какой бы полнотой и предельной духовностью ни воспроизводи-
ла поэзия заново всю целостность прекрасного, все же именно духов-
ность и составляет одновременно недостаток этой последней сферы
искусства. <...>
<...>
В.Г Белинский
РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ НА РОДУ И ВИДЫ
(1841)
Поэзия есть высший род искусства. Всякое другое искусство бо-
лее или менее стеснено
и
ограничено в своей творческой деятельности
тем материалом, посредством которого оно проявляется. Произведе-
ния архитектуры поражают нас или гармониею своих частей, обра-
зующих собою грациозное целое, или громадностию и грандиозно-
стию своих форм, восторгая с собою дух наш к небу, в котором исчеза -
ют их остроконечные шпили. Но этим и ограничиваются средства их
обаяния на душу. Это еще только переход от условного символизма к
63
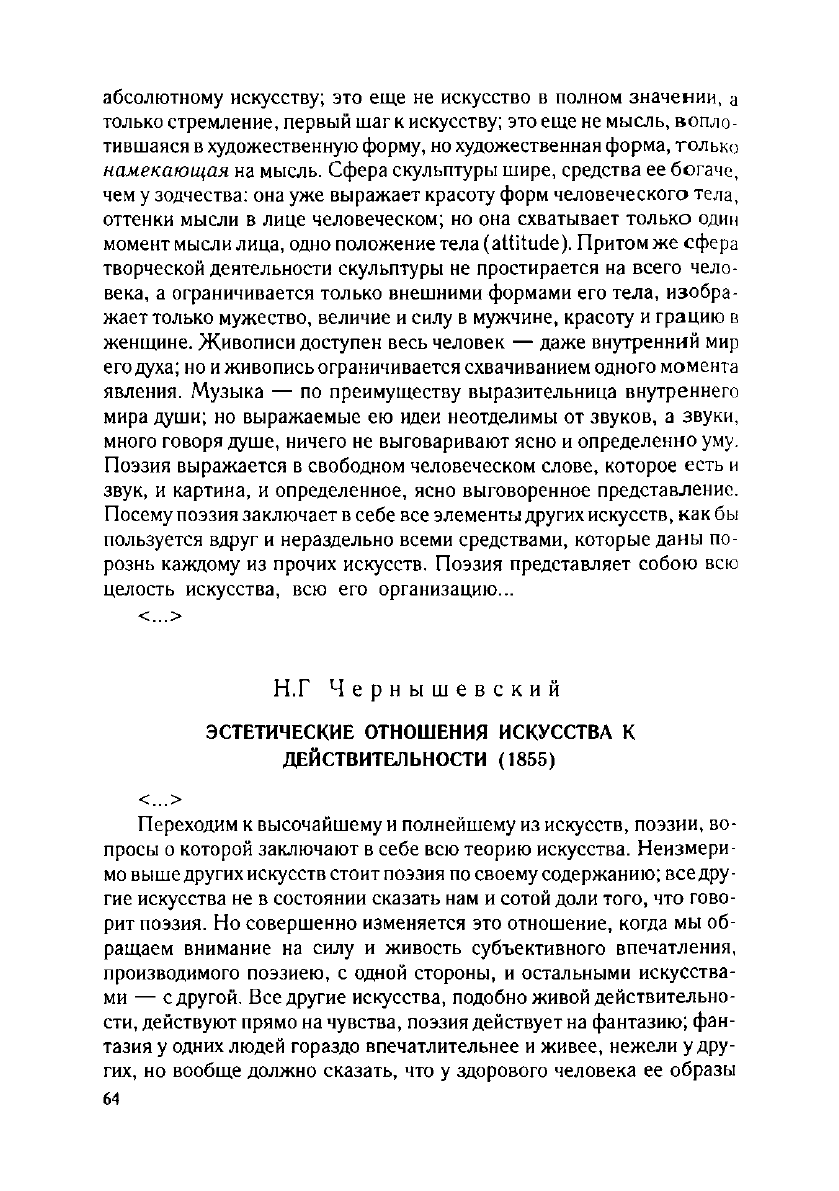
абсолютному искусству; это еще не искусство в полном значении, а
только стремление, первый шаг
к
искусству; это еще не мысль, вопло-
тившаяся в художественную форму, но художественная форма, только
намекающая на мысль. Сфера скульптуры шире, средства ее богаче,
чем у зодчества: она уже выражает красоту форм человеческого тела,
оттенки мысли в лице человеческом; но она схватывает только один
момент мысли лица, одно положение тела (attitude). Притом же сфера
творческой деятельности скульптуры не простирается на всего чело-
века, а ограничивается только внешними формами его тела, изобра-
жает только мужество, величие и силу в мужчине, красоту и грацию в
женщине. Живописи доступен весь человек — даже внутренний мир
его
духа;
но
и
живопись ограничивается схвачиванием одного момента
явления. Музыка — по преимуществу выразительница внутреннего
мира души; но выражаемые ею идеи неотделимы от звуков, а звуки,
много говоря душе, ничего не выговаривают ясно и определенно уму.
Поэзия выражается в свободном человеческом слове, которое есть и
звук, и картина, и определенное, ясно выговоренное представление.
Посему поэзия заключает в себе все элементы других искусств, как бы
пользуется вдруг и нераздельно всеми средствами, которые даны по-
рознь каждому из прочих искусств. Поэзия представляет собою всю
целость искусства, всю его организацию...
<...>
Н.Г Чернышевский
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (1855)
<...>
Переходим к высочайшему
и
полнейшему из искусств, поэзии, во-
просы о которой заключают в себе всю теорию искусства. Неизмери-
мо выше других искусств стоит поэзия по своему содержанию; все дру-
гие искусства не в состоянии сказать нам и сотой доли того, что гово-
рит поэзия. Но совершенно изменяется это отношение, когда мы об-
ращаем внимание на силу и живость субъективного впечатления,
производимого поэзиею, с одной стороны, и остальными искусства-
ми — с другой. Все другие искусства, подобно живой действительно-
сти, действуют прямо на чувства, поэзия действует на фантазию; фан-
тазия у одних людей гораздо впечатлительнее и живее, нежели у дру-
гих, но вообще должно сказать, что у здорового человека ее образы
64
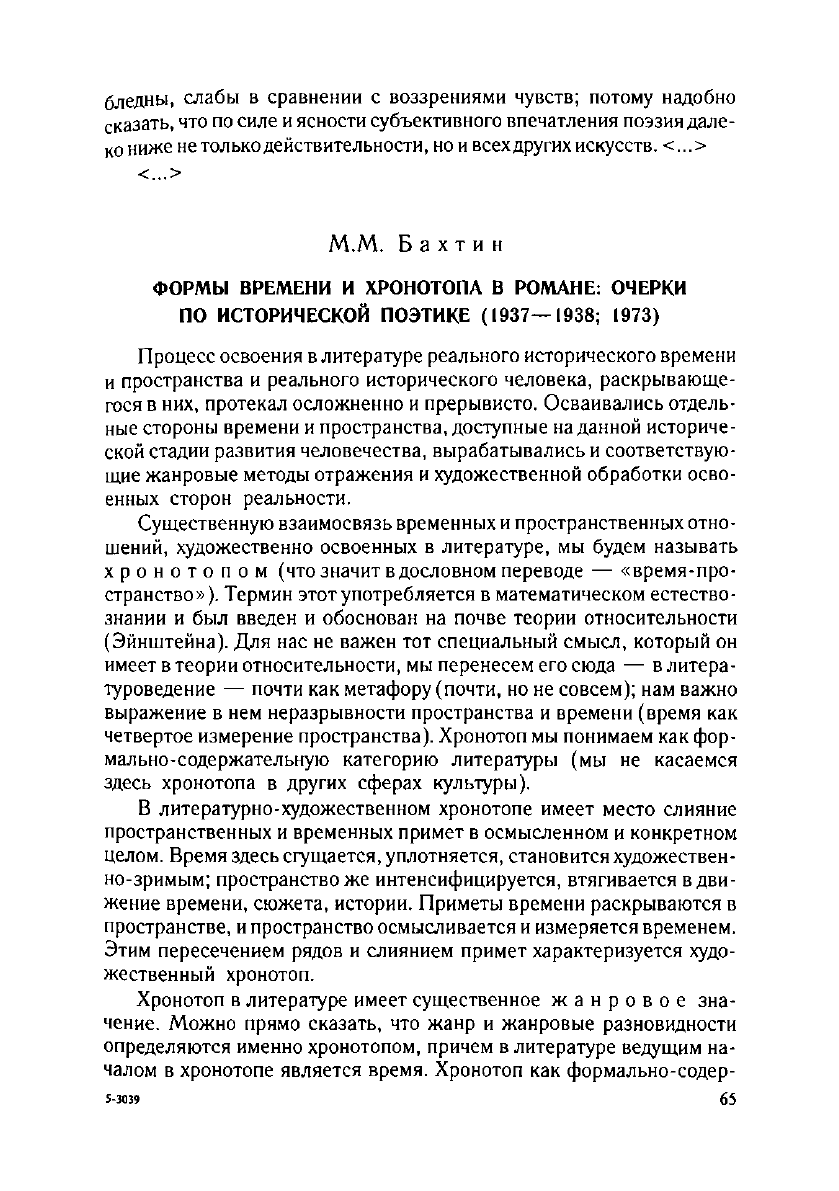
бледны, слабы в сравнении с воззрениями чувств; потому надобно
сказать, что по силе
и
ясности субъективного впечатления поэзия дале-
ко ниже
не
только действительности, но
и
всех других искусств. <...>
<...>
М.М. Бахтин
ФОРМЫ ВРЕМЕНИ И ХРОНОТОПА В РОМАНЕ: ОЧЕРКИ
ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКЕ (1937—1938; 1973)
Процесс освоения
в
литературе реального исторического времени
и пространства и реального исторического человека, раскрывающе-
гося в них, протекал осложненно и прерывисто. Осваивались отдель-
ные стороны времени и пространства, доступные
на
данной историче-
ской стадии развития человечества, вырабатывались и соответствую-
щие жанровые методы отражения и художественной обработки осво-
енных сторон реальности.
Существенную взаимосвязь временных
и
пространственных отно-
шений, художественно освоенных в литературе, мы будем называть
хронотопом (что значит
в
дословном переводе — «время-про-
странство»). Термин этот употребляется в математическом естество-
знании и был введен и обоснован на почве теории относительности
(Эйнштейна). Для нас не важен тот специальный смысл, который он
имеет в теории относительности, мы перенесем его сюда — в литера-
туроведение — почти как метафору (почти, но не совсем); нам важно
выражение в нем неразрывности пространства и времени (время как
четвертое измерение пространства). Хронотоп мы понимаем как фор-
мально-содержательную категорию литературы (мы не касаемся
здесь хронотопа в других сферах культуры).
В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние
пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном
целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художествен-
но-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в дви-
жение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в
пространстве,
и
пространство осмысливается
и
измеряется временем.
Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризуется худо-
жественный хронотоп.
Хронотоп в литературе имеет существенное жанровое зна-
чение. Можно прямо сказать, что жанр и жанровые разновидности
определяются именно хронотопом, причем в литературе ведущим на-
чалом в хронотопе является время. Хронотоп как формально-содер-
5-3039 65
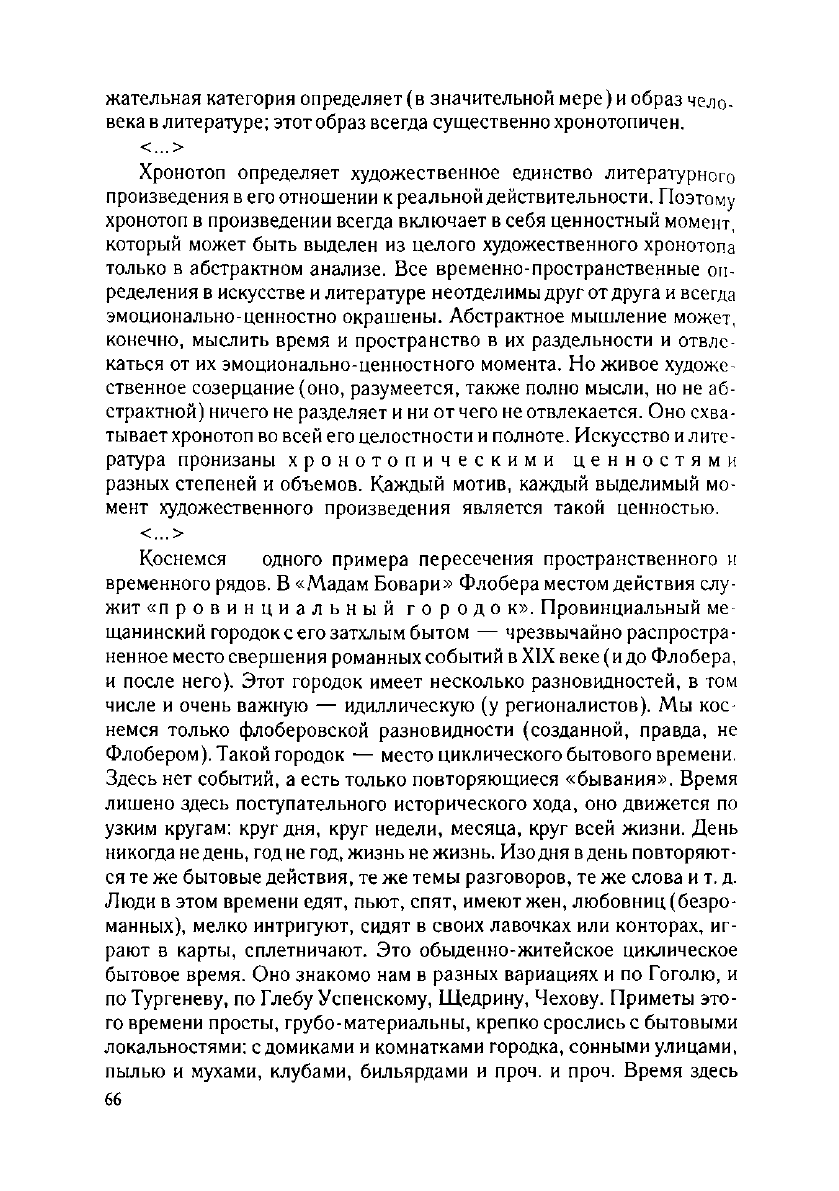
жательная категория определяет (в значительной мере)
и
образ чело-
века
в
литературе; этот образ всегда существенно хронотопичен.
<...>
Хронотоп определяет художественное единство литературного
произведения в его отношении к реальной действительности. Поэтому
хронотоп в произведении всегда включает в себя ценностный момент,
который может быть выделен из целого художественного хронотопа
только в абстрактном анализе. Все временно-пространственные оп-
ределения в искусстве
и
литературе неотделимы друг от друга и всегда
эмоционально-ценностно окрашены. Абстрактное мышление может,
конечно, мыслить время и пространство в их раздельности и отвле-
каться от их эмоционально-ценностного момента. Но живое художе-
ственное созерцание (оно, разумеется, также полно мысли, но не аб-
страктной) ничего не разделяет и ни от чего не отвлекается. Оно схва-
тывает хронотоп во всей его целостности и полноте. Искусство
и
лите-
ратура пронизаны хронотопическими ценностями
разных степеней и объемов. Каждый мотив, каждый выделимый мо-
мент художественного произведения является такой ценностью.
<...>
Коснемся одного примера пересечения пространственного и
временного рядов. В «Мадам Бовари» Флобера местом действия слу-
жит «провинциальный городок». Провинциальный ме-
щанинский городок с его затхлым бытом — чрезвычайно распростра-
ненное место свершения романных событий в XIX веке (и до Флобера,
и после него). Этот городок имеет несколько разновидностей, в том
числе и очень важную — идиллическую (у регионалистов). Мы кос-
немся только флоберовской разновидности (созданной, правда, не
Флобером). Такой городок — место циклического бытового времени.
Здесь нет событий, а есть только повторяющиеся «бывания». Время
лишено здесь поступательного исторического хода, оно движется по
узким кругам: круг дня, круг недели, месяца, круг всей жизни. День
никогда
не день,
год
не
год, жизнь не жизнь. Изо
дня
вдень повторяют-
ся те же бытовые действия, те же темы разговоров, те же слова и т. д.
Люди в этом времени едят, пьют, спят, имеют жен, любовниц (безро-
манных), мелко интригуют, сидят в своих лавочках или конторах, иг-
рают в карты, сплетничают. Это обыденно-житейское циклическое
бытовое время. Оно знакомо нам в разных вариациях и по Гоголю, и
по Тургеневу, по Глебу Успенскому, Щедрину, Чехову. Приметы это-
го времени просты, грубо-материальны, крепко срослись с бытовыми
локальностями: с домиками и комнатками городка, сонными улицами,
пылью и мухами, клубами, бильярдами и проч. и проч. Время здесь
66
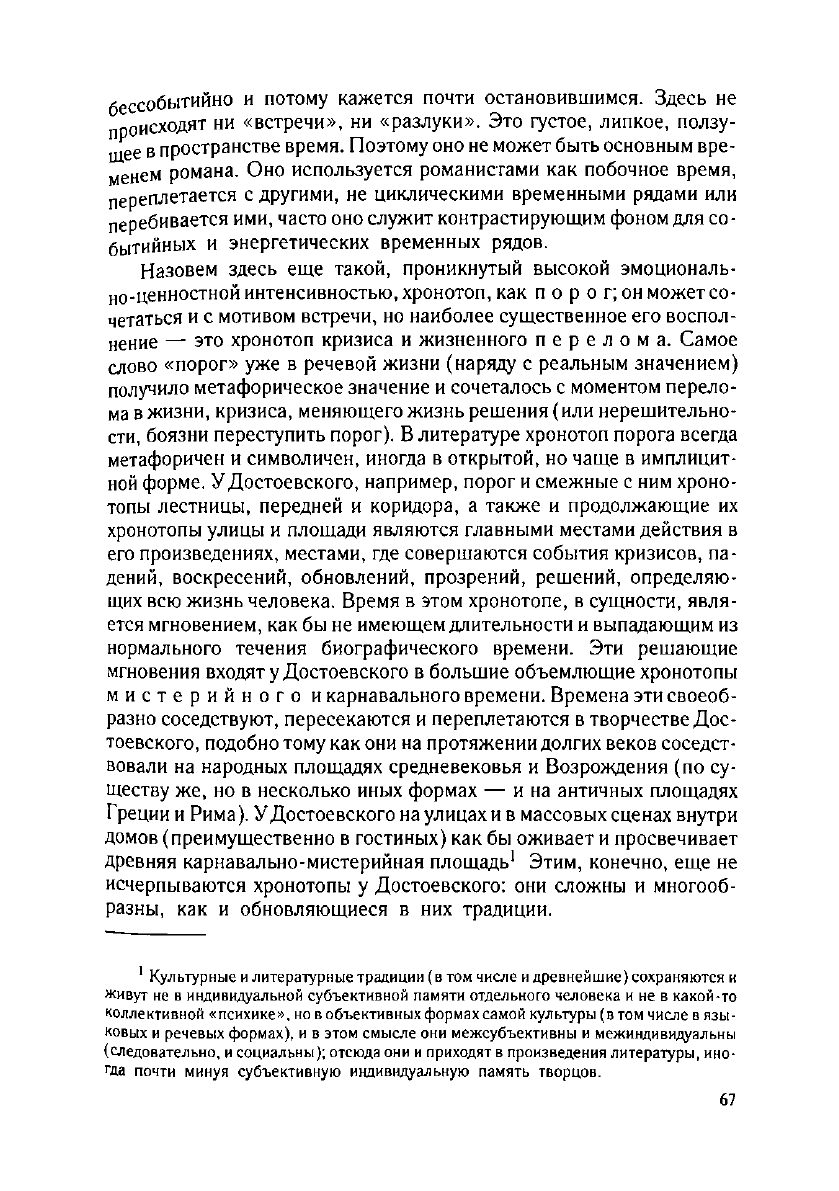
бессобытийно и потому кажется почти остановившимся. Здесь не
ПРОИСХОДЯТ ни «встречи», ни «разлуки». Это густое, липкое, ползу-
щее в пространстве время. Поэтому оно не может быть основным вре-
менем романа. Оно используется романистами как побочное время,
переплетается с другими, не циклическими временными рядами или
перебивается ими, часто оно служит контрастирующим фоном для со-
бытийных и энергетических временных рядов.
Назовем здесь еще такой, проникнутый высокой эмоциональ-
но-ценностной интенсивностью, хронотоп, как п о р о г; он может со-
четаться и с мотивом встречи, но наиболее существенное его воспол-
нение — это хронотоп кризиса и жизненного перелома. Самое
слово «порог» уже в речевой жизни (наряду с реальным значением)
получило метафорическое значение и сочеталось с моментом перело-
ма в жизни, кризиса, меняющего жизнь решения (или нерешительно-
сти, боязни переступить порог). В литературе хронотоп порога всегда
метафоричен и символичен, иногда в открытой, но чаще в имплицит-
ной форме. У Достоевского, например, порог и смежные с ним хроно-
топы лестницы, передней и коридора, а также и продолжающие их
хронотопы улицы и площади являются главными местами действия в
его произведениях, местами, где совершаются события кризисов, па-
дений, воскресений, обновлений, прозрений, решений, определяю-
щих всю жизнь человека. Время в этом хронотопе, в сущности, явля-
ется мгновением, как бы не имеющем длительности и выпадающим из
нормального течения биографического времени. Эти решающие
мгновения входят у Достоевского в большие объемлющие хронотопы
мистерийного и карнавального времени. Времена эти своеоб-
разно соседствуют, пересекаются и переплетаются в творчестве Дос-
тоевского, подобно тому как они на протяжении долгих веков соседст-
вовали на народных площадях средневековья и Возрождения (по су-
ществу же, но в несколько иных формах — и на античных площадях
Греции и Рима). У Достоевского на улицах
и
в массовых сценах внутри
домов (преимущественно в гостиных) как бы оживает и просвечивает
древняя карнавально-мистерийная площадь
1
Этим, конечно, еще не
исчерпываются хронотопы у Достоевского: они сложны и многооб-
разны, как и обновляющиеся в них традиции.
1
Культурные
и
литературные традиции (в том числе
и
древнейшие) сохраняются и
живут не в индивидуальной субъективной памяти отдельного человека и не в какой-то
коллективной «психике», но в объективных формах самой культуры (в том числе в язы-
ковых и речевых формах), и в этом смысле они межсубъективны и межиндивидуальны
(следовательно,
и
социальны); отсюда они и приходят в произведения литературы, ино-
гда почти минуя субъективную индивидуальную память творцов.
67
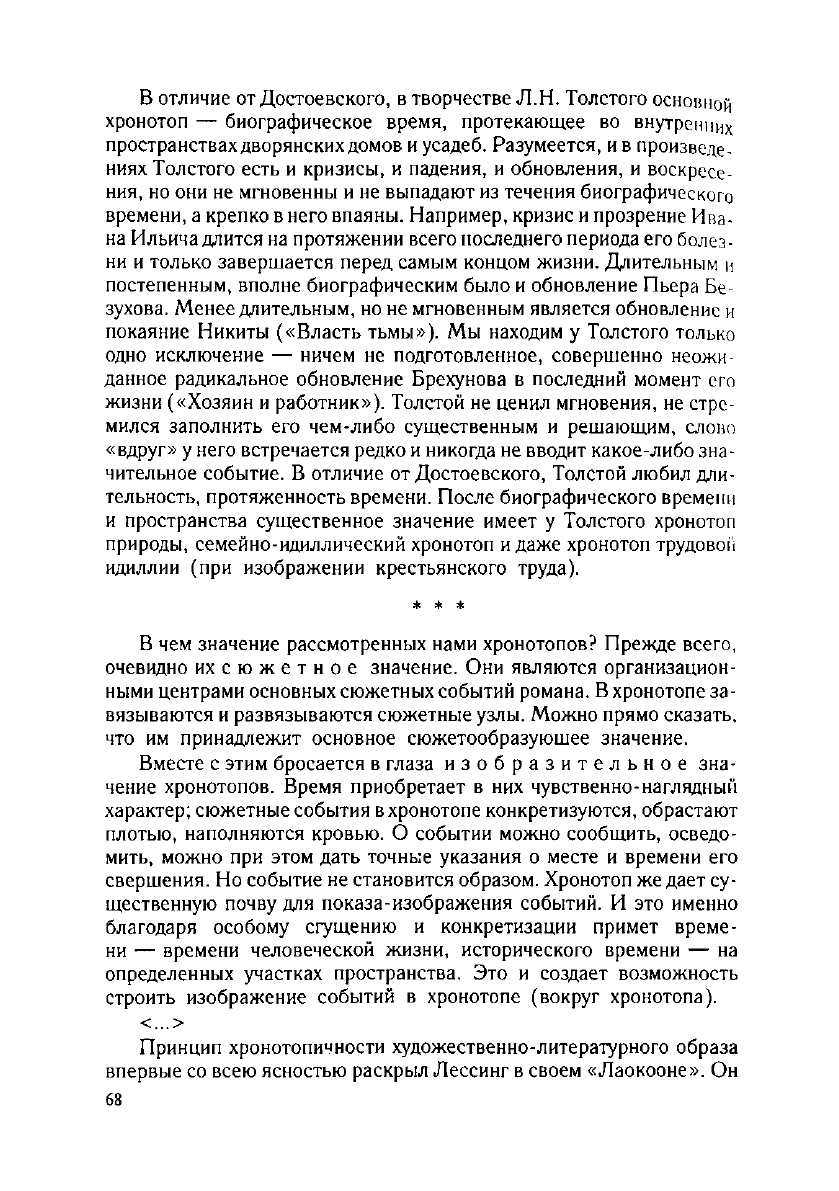
В отличие от Достоевского, в творчестве Л.Н. Толстого основной
хронотоп — биографическое время, протекающее во внутренних
пространствах дворянских домов
и
усадеб. Разумеется, и в произведе-
ниях Толстого есть и кризисы, и падения, и обновления, и воскресе-
ния, но они не мгновенны и не выпадают из течения биографического
времени, а крепко в него впаяны. Например, кризис
и
прозрение Ива-
на Ильича длится на протяжении всего последнего периода его болез-
ни и только завершается перед самым концом жизни. Длительным и
постепенным, вполне биографическим было и обновление Пьера Бе-
зухова. Менее длительным, но не мгновенным является обновление
и
покаяние Никиты («Власть тьмы»). Мы находим у Толстого только
одно исключение — ничем не подготовленное, совершенно неожи-
данное радикальное обновление Брехунова в последний момент его
жизни («Хозяин и работник»). Толстой не ценил мгновения, не стре-
мился заполнить его чем-либо существенным и решающим, слово
«вдруг» у него встречается редко и никогда не вводит какое-либо зна-
чительное событие. В отличие от Достоевского, Толстой любил дли-
тельность, протяженность времени. После биографического времени
и пространства существенное значение имеет у Толстого хронотоп
природы, семейно-идиллический хронотоп
и
даже хронотоп трудовой
идиллии (при изображении крестьянского труда).
* * *
В чем значение рассмотренных нами хронотопов? Прежде всего,
очевидно их сюжетное значение. Они являются организацион-
ными центрами основных сюжетных событий романа. В хронотопе за-
вязываются и развязываются сюжетные узлы. Можно прямо сказать,
что им принадлежит основное сюжетообразуюшее значение.
Вместе с этим бросается в глаза изобразительное зна-
чение хронотопов. Время приобретает в них чувственно-наглядный
характер; сюжетные события
в
хронотопе конкретизуются, обрастают
плотью, наполняются кровью. О событии можно сообщить, осведо-
мить, можно при этом дать точные указания о месте и времени его
свершения. Но событие не становится образом. Хронотоп же дает су-
щественную почву для показа-изображения событий. И это именно
благодаря особому сгущению и конкретизации примет време-
ни — времени человеческой жизни, исторического времени — на
определенных участках пространства. Это и создает возможность
строить изображение событий в хронотопе (вокруг хронотопа).
<...>
Принцип хронотопичности художественно-литературного образа
впервые со всею ясностью раскрыл Лессинг в своем «Лаокооне». Он
68
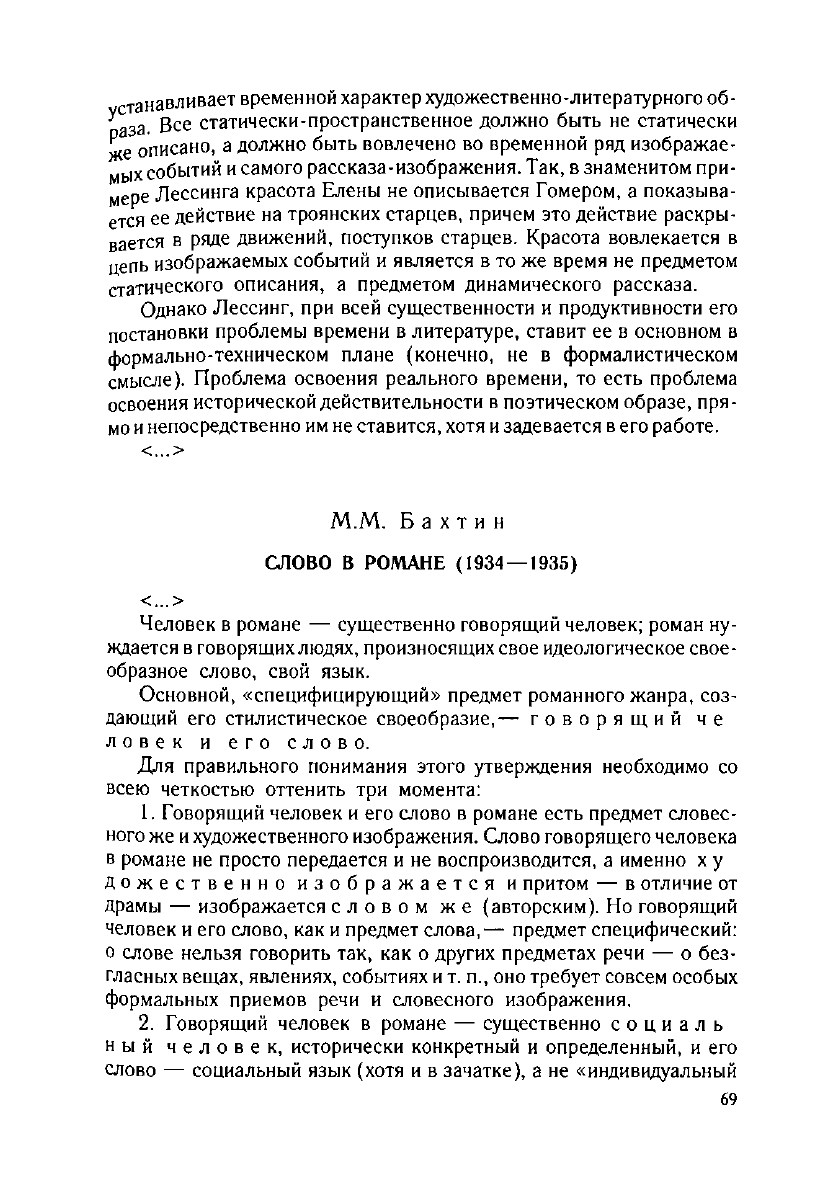
танавливает временной характер художественно-литературного об-
У
а
gee статически-пространственное должно быть не статически
описано, а должно быть вовлечено во временной ряд изображае-
мых
событий
и
самого рассказа-изображения. Так, в знаменитом при-
мере Лессинга красота Елены не описывается Гомером, а показыва-
ется ее действие на троянских старцев, причем это действие раскры-
вается в ряде движений, поступков старцев. Красота вовлекается в
цепь изображаемых событий и является в то же время не предметом
статического описания, а предметом динамического рассказа.
Однако Лессинг, при всей существенности и продуктивности его
постановки проблемы времени в литературе, ставит ее в основном в
формально-техническом плане (конечно, не в формалистическом
смысле). Проблема освоения реального времени, то есть проблема
освоения исторической действительности в поэтическом образе, пря-
мо
и
непосредственно им не ставится, хотя
и
задевается в его работе.
<...>
М.М. Бахтин
СЛОВО В РОМАНЕ (1934—1935)
<...>
Человек в романе — существенно говорящий человек; роман ну-
ждается в говорящих
людях,
произносящих свое идеологическое свое-
образное слово, свой язык.
Основной, «специфицирующий» предмет романного жанра, соз-
дающий его стилистическое своеобразие,— говорящий че
ловек и его слово.
Для правильного понимания этого утверждения необходимо со
всею четкостью оттенить три момента:
1. Говорящий человек и его слово в романе есть предмет словес-
ного же
и
художественного изображения. Слово говорящего человека
в романе не просто передается и не воспроизводится, а именно х у
дожественно изображается и притом — в отличие от
драмы — изображается словом же (авторским). Но говорящий
человек и его слово, как и предмет слова,— предмет специфический:
о слове нельзя говорить так, как о других предметах речи — о без-
гласных вещах, явлениях, событиях
и
т. п., оно требует совсем особых
формальных приемов речи и словесного изображения.
2. Говорящий человек в романе — существенно с о ц и а л ь
ный человек, исторически конкретный и определенный, и его
слово — социальный язык (хотя и в зачатке), а не «индивидуальный
69
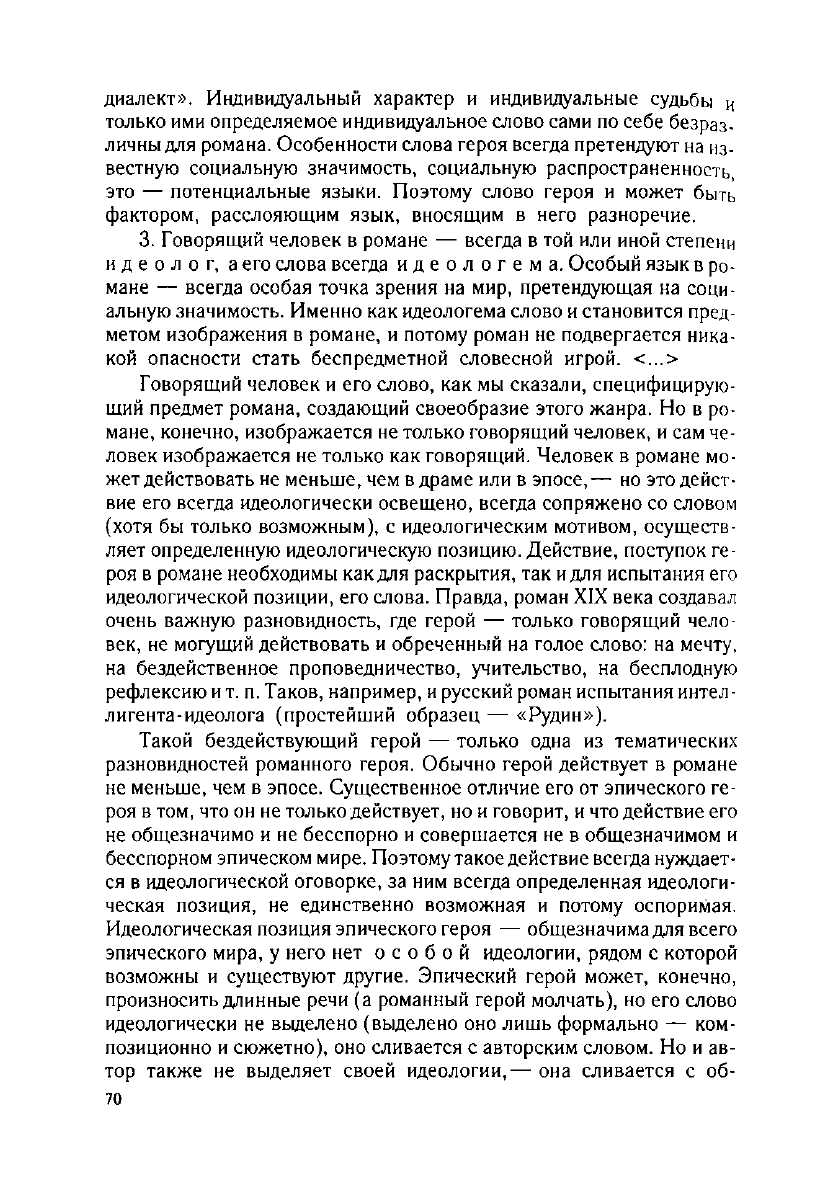
диалект». Индивидуальный характер и индивидуальные судьбы и
только ими определяемое индивидуальное слово сами по себе безраз-
личны для романа. Особенности слова героя всегда претендуют на из-
вестную социальную значимость, социальную распространенность,
это — потенциальные языки. Поэтому слово героя и может быть
фактором, расслояющим язык, вносящим в него разноречие.
3. Говорящий человек в романе — всегда в той или иной степени
идеолог, а его слова всегда идеологема. Особый язык в ро-
мане — всегда особая точка зрения на мир, претендующая на соци-
альную значимость. Именно как идеологема слово и становится пред-
метом изображения в романе, и потому роман не подвергается ника-
кой опасности стать беспредметной словесной игрой. <...>
Говорящий человек и его слово, как мы сказали, специфицирую-
щий предмет романа, создающий своеобразие этого жанра. Но в ро-
мане, конечно, изображается не только говорящий человек, и сам че-
ловек изображается не только как говорящий. Человек в романе мо-
жет действовать не меньше, чем
в
драме или в эпосе,— но это дейст-
вие его всегда идеологически освещено, всегда сопряжено со словом
(хотя бы только возможным), с идеологическим мотивом, осуществ-
ляет определенную идеологическую позицию. Действие, поступок ге-
роя в романе необходимы как для раскрытия, так
и
для испытания его
идеологической позиции, его слова. Правда, роман XIX века создавал
очень важную разновидность, где герой — только говорящий чело-
век, не могущий действовать и обреченный на голое слово: на мечту,
на бездейственное проповедничество, учительство, на бесплодную
рефлексию
и
т. п. Таков, например,
и
русский роман испытания интел-
лигента-идеолога (простейший образец—«Рудин»).
Такой бездействующий герой — только одна из тематических
разновидностей романного героя. Обычно герой действует в романе
не меньше, чем в эпосе. Существенное отличие его от эпического ге-
роя в том, что он не только действует, но и говорит,
и
что действие его
не общезначимо и не бесспорно и совершается не в общезначимом и
бесспорном эпическом мире. Поэтому такое действие всегда нуждает-
ся в идеологической оговорке, за ним всегда определенная идеологи-
ческая позиция, не единственно возможная и потому оспоримая.
Идеологическая позиция эпического героя — общезначима для всего
эпического мира, у него нет особой идеологии, рядом с которой
возможны и существуют другие. Эпический герой может, конечно,
произносить длинные речи (а романный герой молчать), но его слово
идеологически не выделено (выделено оно лишь формально — ком-
позиционно и сюжетно), оно сливается с авторским словом. Но и ав-
тор также не выделяет своей идеологии,— она сливается с об-
70
