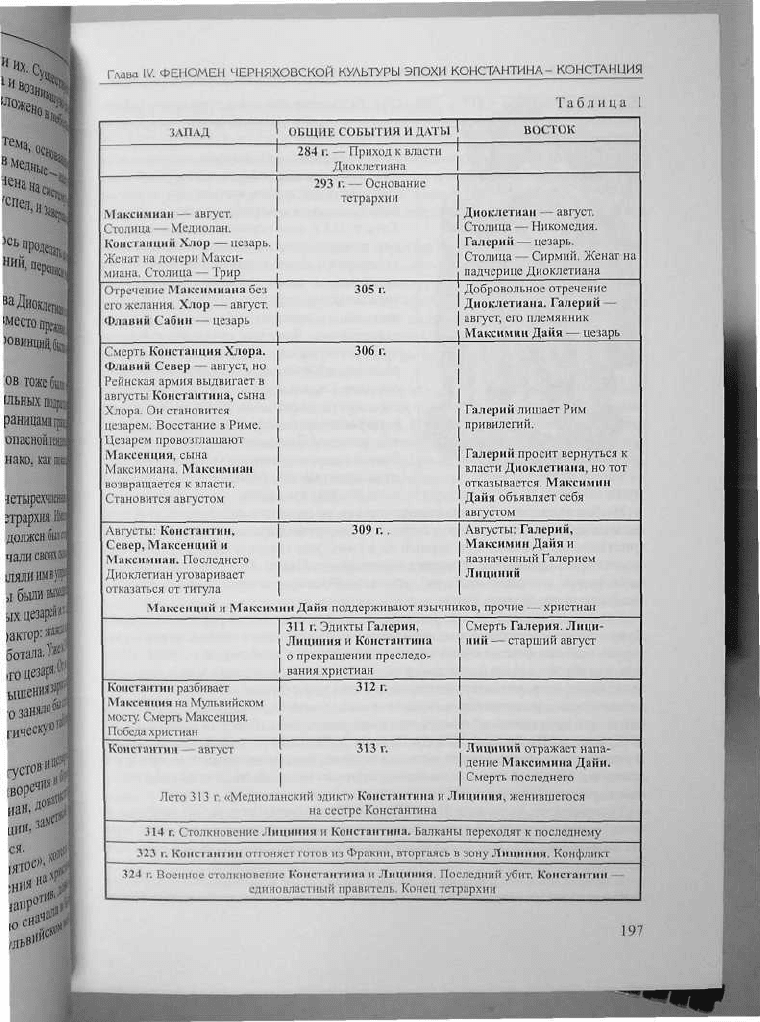Щукин М.Б. Готский путь
Подождите немного. Документ загружается.

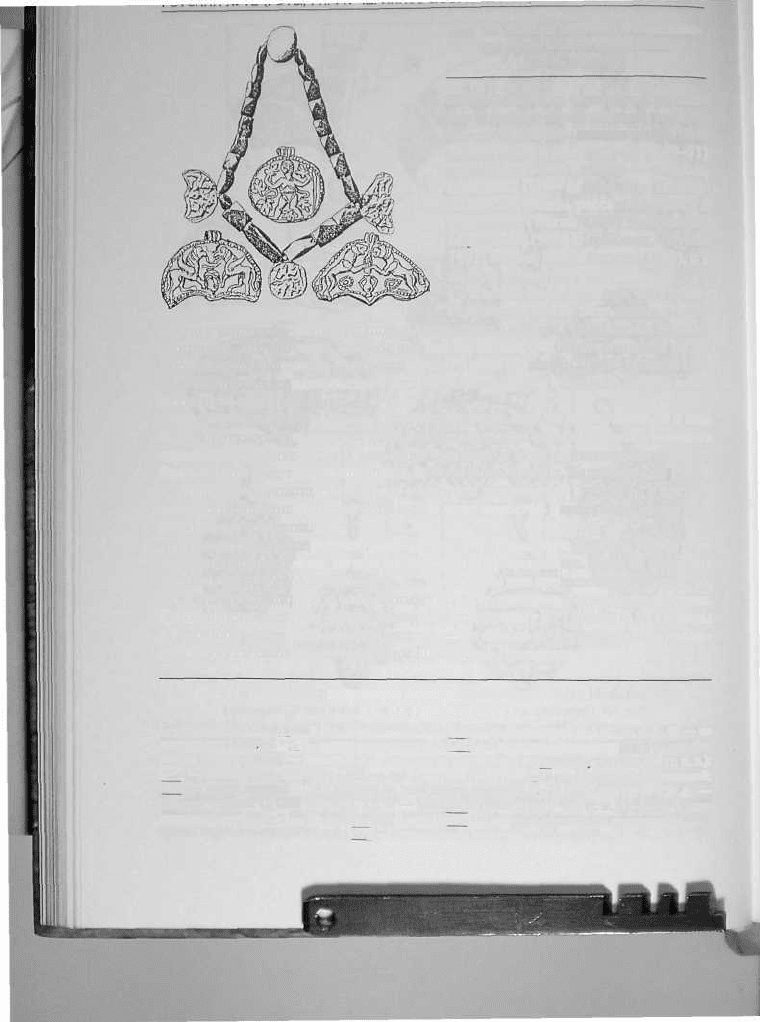
Рис. 70. Золотые подвески и сердолико-
вые бусы. Сквира около Киева
(по И. Вернеру)
Лёйна-Хаслебен, и их распростране-
ние отражает, вероятно, тс же процес-
сы, что и распространение фибул типа
Монструозо и железных (рис. 49-51)
гребешков. Более поздние — гладкие,
середины IV — начала V в. Псльто-
видные лунницы рассматривались в
ряде работ (Werner 1988; Tempelman-
Maxzyiiska 1986; Щербакова, Щукин
1991; Бажан, Каргопольцсв 1989), и я
не буду вдаваться в детали.
Следует лишь добавить, что в Бранг-
струпском кладе находилась также
круглая выпуклая золотая бляшка с отверстием в центре, украшенная зернью.
Считалось, что это часть фибулы, на мой же взгляд, она больше похожа на де-
таль навершия длинного позднесарматского меча (Shchukin 1994). В таком слу-
чае это еще одно свидетельство балто-причерноморских контактов второй поло-
вины III — начала IV в.
О ведерковидных подвесках и прочих амулетах. Весьма примечательна и еще
более противоречива история происхождения такого специфического элемента
Черняховской культуры, как железные подвески в виде миниатюрных ведерок,
благо на этот счет есть специальное исследование (Бажан, Каргопольцев 1989).
Иногда эти украшения находят в могилах поодиночке, иногда — в составе
ожерелий. Предполагается, что внутри этих емкостей находились некие аро-
матические вещества.
В результате исследования выяснилось, что древнейшие находки такого рода
известны еще во II—Т вв. до н. э. в Северном Причерноморье. Идея их восходит
к античным трубочкам-подвескам, содержавшим или ароматические вещества,
или кусочки папируса с записанными на них заклинаниями-абракадабрами.
Самые ранние золотые подвески-ведерки происходят из Танаиса и из Окницы
в Румынии, железная подвеска-ведерко — из одного из погребений могильни-
ка Долиняны бастарнской культуры Поянешты-Лукашевка.
Рис. 71. Карты распространения ведерковидных подвесок (по И. А. Еажану
и С. Ю. Каргопольцеву)
I — находки на памятниках II в. до н. э. — I в. и. э. • — на памятниках I1-I вв. до н. э., • — на
памятниках I в. нэ.:^^ — пшеворская культура; U-1 — Поянешты-Лукашевка: f£3 — заруби-
нецкая культура; ЕЗЗ — сарматы; II — находки на памятниках ступеней В,-С, (70-260 гг. н. э.):
ЕЗ — пшеворская культура; ЕЗ — вельбаркская культура; [73 — Поянсшти-Выртешкой;
I * I— места находок; III — находки на памятниках ступеней Сг-D (260-450 гг. н. э.): А —
находки ступени С
2
(260-300 гг. н. э.), • — находки ступени D (310^150 гг. н. э.): £3 — пше-
ворская культура; ЕЗ — Поянсшти-Выртешкой; |r"i| — культура карпатских курганов;
[~~";|
— Черняховская
культура
— Черняховская культура
188
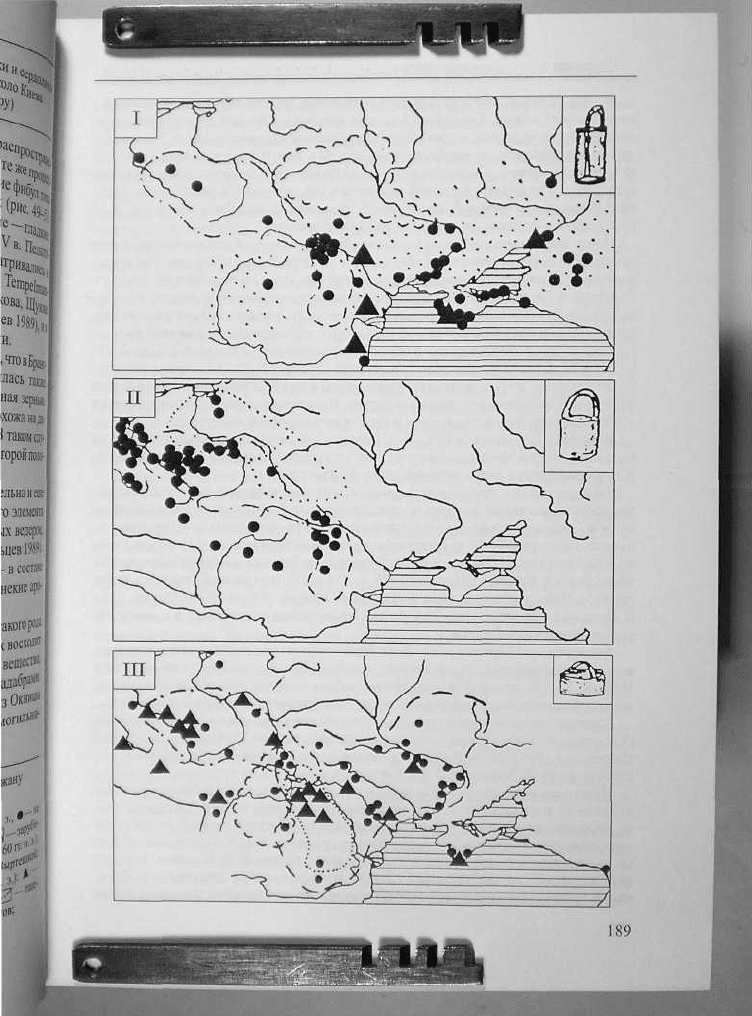
Глава IV. ФЕНОМЕН ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ КОНСТАНТИНА- КОНСТАНЦИЯ
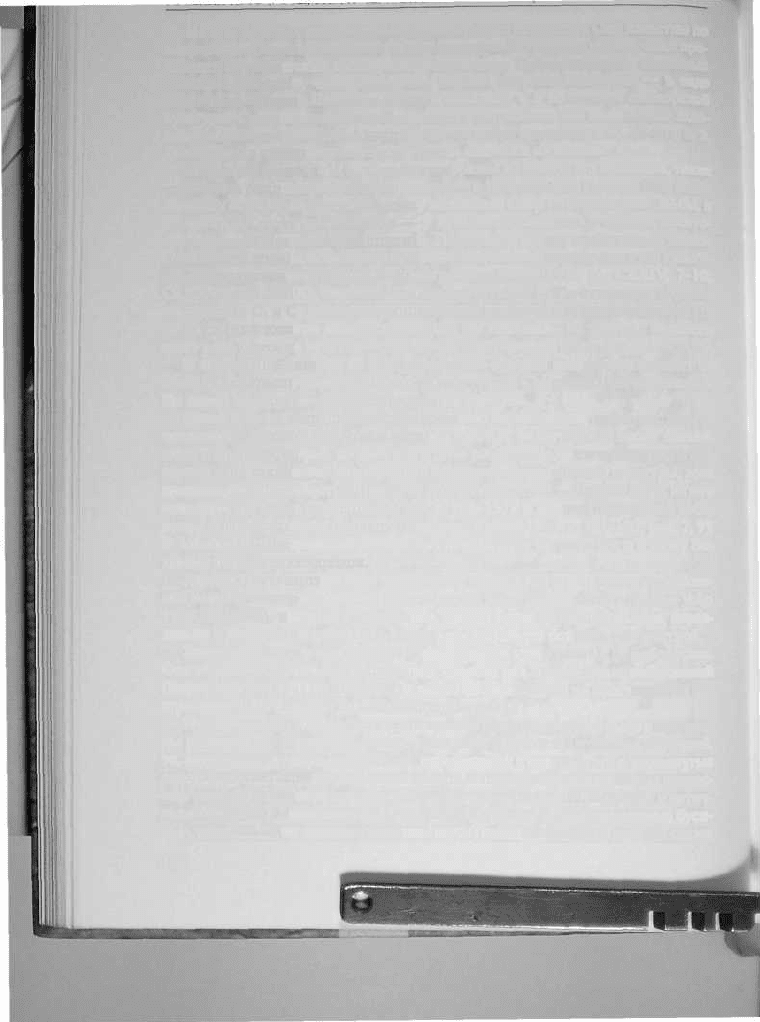
В I в. н. э. число таких украшений значительно возрастает. Они известны по
некрополям Ольвии, Херсонеса и других античных городов, но еще чаще про-
исходят из сарматских и скифских захоронений Причерноморья. Железных
среди них немного, чаще бронзовые, изредка золотые, некоторые — в виде
спаренных ведерок. Подвески-ведерки попадают и к носителям пшеворской
культуры. Судя по находке такой подвески в погребении 486 могильника Задо-
вице совместно с фибулой Альмгрен 68, это могло произойти в 40-80-е гг. н. э.
Пшеворцы, в отличие от сарматов, делали подвески из железа.
Несколько позже, во II в., и главным образом во второй его половине, такие
украшения распространяются еще шире — в Центральной Европе. Они появ-
ляются у германцев, живущих между низовьями Одера и верховьями Эльбы, в
Венгрии, в Карпатском бассейне — у дунайских сарматов, у карпов, носите-
лей культуры Поянешты-Выртешкой. Последние, наряду с обычными желез-
ными, часто носили и серебряные украшения, специфические для этой культу-
ры, декорированные зернью и филигранью (Bichir 1976, pi. CLXIV, 7-10;
CLXXVIII, CLXXIX). Впрочем, начиная со ступени В
2
/С
ь
а главным образом
на ступенях С| и С
2
, и носители пшеворской культуры начинают употреблять
филигранные золотые подвески-ведерки. Ни железные, ни золотые подвески
этого рода почти не встречаются в ареале вельбаркской культуры.
В период II — начала III в. н. э. подвески-ведерки полностью выходят из
моды как в сармато-скифской среде, так и у греков Северного Причерноморья.
Ни одной находки этого времени здесь не известно.
Затем, в связи с процессом формирования Черняховской культуры, много-
численные железные ведерки и изредка золотые филигранные вновь появля-
ются в Причерноморье, на этот раз в виде северо-западного культурного им-
пульса. Они становятся характерным признаком Черняховской культуры, хотя
продолжают употребляться и по всей диагонали Балтика—Черное море, на юге
попадают и в Крым (Кропоткин 1978, с. 156-157), и даже на Кавказское побе-
режье, в Цебсльдинскую долину (Воронов, Юшин 1979, с. 191-192, рис. 7, 9).
В Западной и Центральной Европе они продолжают встречаться и в эпоху Ве-
ликого переселения народов.
Аналогичную картину дает также более тщательное и детальное исследова-
ние подвесок-ведерок, предпринятое недавно Инее Байлке-Фойгт (Beilke-Voigt
1998, S. 51-88), которой, к сожалению, работа Бажана-Каргопольцева, парал-
лельно и независимо сделанная, по ряду обстоятельств осталась неизвестной.
Занималась этими подвесками в Черняховской культуре и О. В. Бобровская.
Она создала их детальную типологию, сделала ряд любопытных наблюдений
(Боровская 1997; 2000). В общем и целом ее заключения не противоречат по-
строениям И. А. Бажана и С. Ю. Каргопольцсва.
Нужно сказать, что носители Черняховской культуры вообще были подверже-
ны разного рода суевериям, носили различные амулеты то в составе ожерелий,
то, вероятно, в специальной сумочке, подвешенной к поясу, — это и упомянутые
ведерковидные подвески, и раковины каури, и пирамидальные костяные подвес-
ки с концентрическими кружками, восходящие, по мысли И. Вернера, к антич-
ным подвескам в виде «палицы Геракла», и янтарные «восьмерковидные буси-
ны», и прочее. Одни находки (раковины каури) свидетельствуют о далеких связях
190
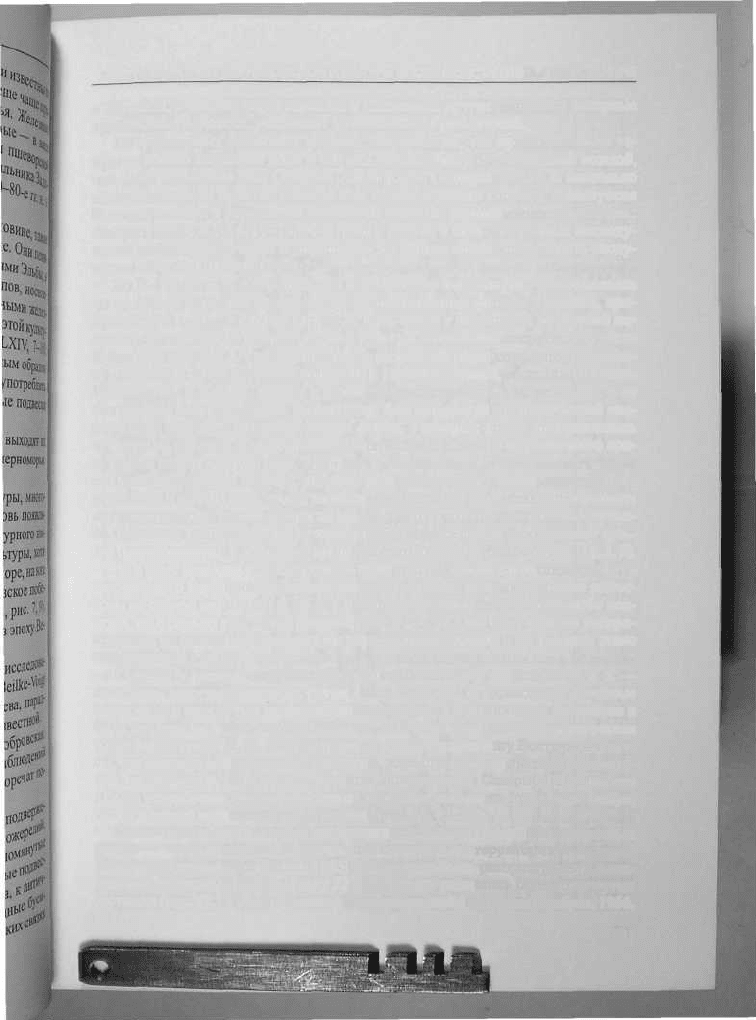
Глава IV. ФЕНОМЕН ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ КОНСТАНТИНА- КОНСТАНЦИЯ
с Востоком, очевидно через сарматов и Сасанидов, другие, например янтарные
грибовидные подвески, указывают на контакты с Прибалтикой.
Об арбалетных подвязных фибулах. Любопытно, что приблизительно та-
кую же линию эволюции дают и так называемые фибулы с подвязной ножкой,
что было подмечено еще Оскаром Альмгрсном (Almgren 1923). В несколько
модернизованном виде, не излагая всю историографию вопроса, а дискуссия
была длительной и пересказ ее перипетий занял бы слишком много места (см.:
Амброз 1966, с. 12-14, 19-25, 46-67), но с учетом и многочисленных последу-
ющих работ, схематически и упрощенно эту линию можно представить следу-
ющим образом (Щукин 1999).
Во II—I вв. до н. э. в европейском Барбарикуме повсеместно изготовлялись
по кельтским образцам среднелатенские проволочные фибулы с ножкой, при-
крепленной сверху к спинке (рис. 72). Есть они и у бастарнов, носителей по-
янешты-лукашевской и зарубинецкой культур, обитателей лесостепной части
Восточной Европы. От последних или в результате контактов непосредствен-
но с кельтами такие застежки попадали к сарматам степей, к скифам Нижнего
Поднепровья и Крыма, иногда и в античные города. Здесь, может быть, и не
без влияния кельтов-галатов Малой Азии был выработан специфический «не-
апольский вариант» среднелатенских фибул, у которых ножка прикреплялась
к спинке не скрепой, а многорядовой спиральной обвязкой проволочного кон-
ца ножки вокруг спинки (рис. 72, 2).
Причерноморские мастера, пытаясь воспроизвести эту схему, конструкцию
упростили и вместо того, чтобы загибать конец ножки вверх, стали прикреплять
его к спинке снизу, используя тот же прием обмотки, что и в неапольском вариан-
те. Появились так называемые лучковые фибулы — специфический элемент куль-
тур Причерноморья. Случилось это приблизительно на рубеже эр (рис. 72, 3, 9).
Но к тому времени уже изменилась мода в кругу латенизнрованных культур
европейского Барбарикума: среднелатенские фибулы были постепенно вытес-
нены во второй половине I в. до н. э. позднелатенскими — без какой-либо под-
вязки, но с сильно прогнутой спинкой (рис. 72,4, 5). Они тоже широко распро-
странены по всему Барбарикуму, но хорошо представлены и на позднем этапе
зарубинецкой культуры.
К моменту распада зарубинецкой культуры — около середины I в. н. э. —
носителям постзарубинецких групп были известны и сарматские лучковые
подвязные, и прогнутые позднелатенские фибулы. Сочетанием их элементов и
была создана не очень многочисленная, так называемая верхнеднепровская
серия фибул (рис. 72, 6). Распространяясь через лесную зону Восточной Евро-
пы, где таковые действительно известны, идея прогнуто-подвязной конструк-
ции, по мнению А. К. Амброза, достигла Прибалтики и Северной Европы, где
и была разработана специфическая и многообразная серия подвязных фибул,
так называмой арбалетной конструкции (рис. 72, 12-15).
Существует и другая версия происхождения североевропейских подвязных
фибул — через контакты сарматов, появившихся на территории нынешней
Венгрии, с германцами (Kolnik 1965). У сарматов были распространены одно-
частные подвязные фибулы (рис. 72, 10), из них развились более прогнутые
застежки (рис. 72, 11), так называемой среднеевропейской серии (Амброз, 1966,
191
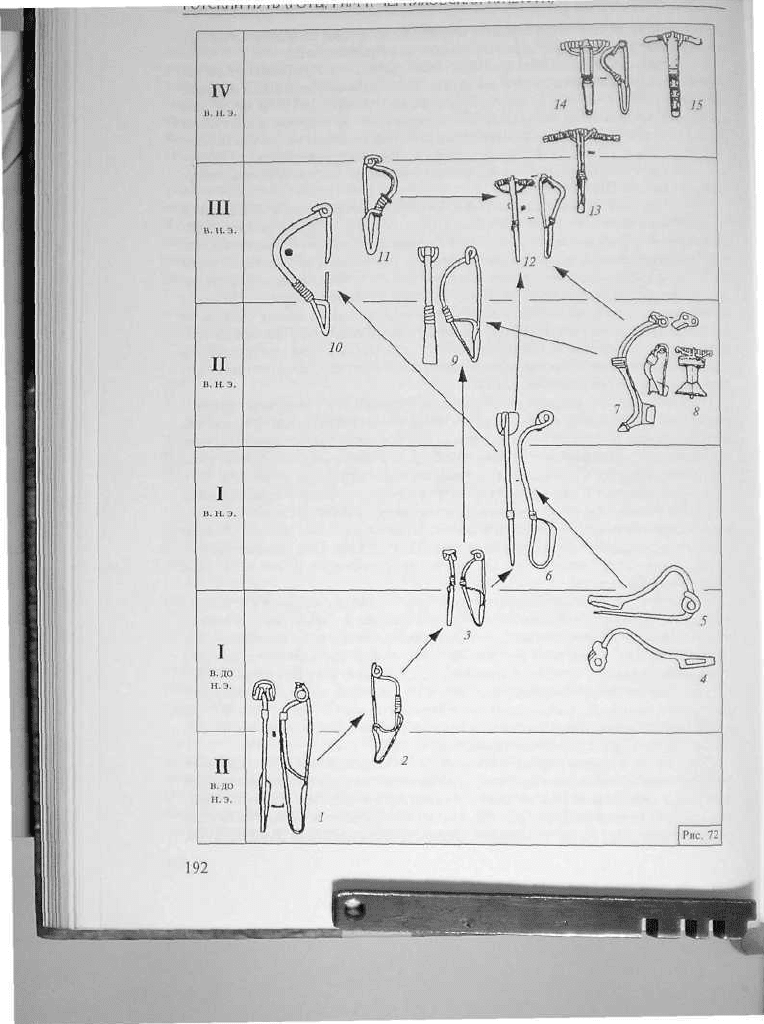
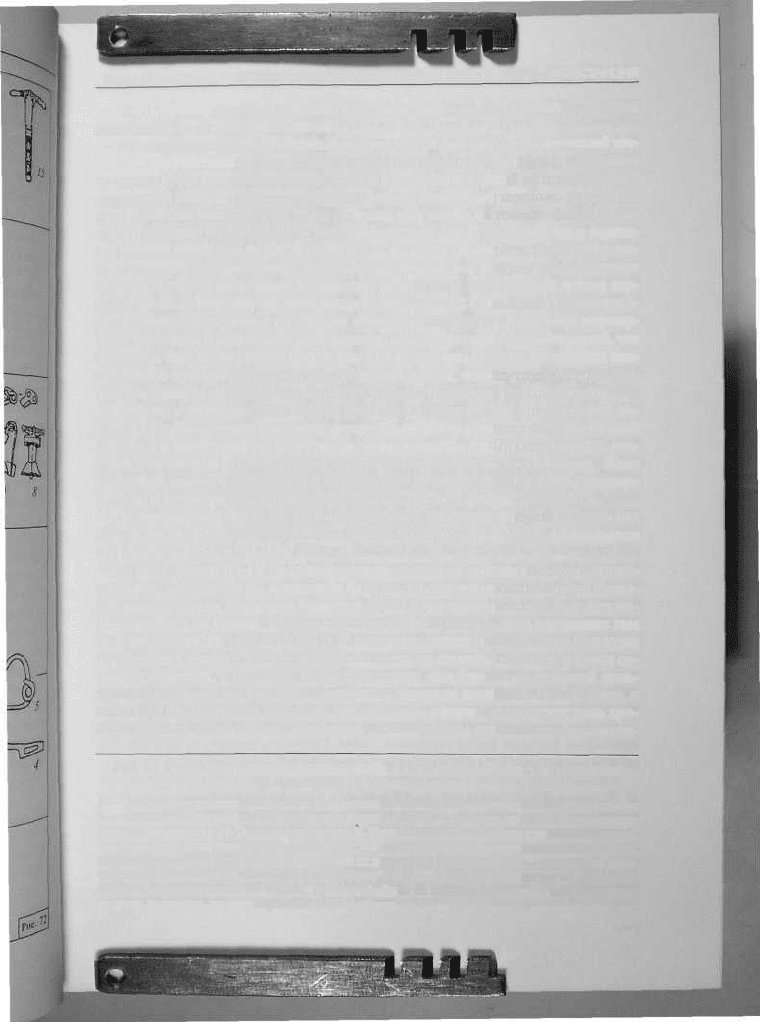
Глава IV. ФЕНОМЕН ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ КОНСТАНТИНА- КОНСТАНЦИЯ
с. 58-64), приобретя затем «арбалетную» конструкцию. Обе версии по степени
доказательности пока равнозначны.
Но североевропейские подвязные фибулы имеют еще один специфический эле-
мент— двухчастность конструкции. В отличие от вышеупомянутых, сделанных
из одного куска проволоки или из заранее рассчитанной одной заготовки, игла и
пружинный аппарат североевропейских фибул изготовлены отдельно и соедине-
ны с корпусом застежки или через специальную петлю на головке фибулы, или
через пластинку с отверстием. Такая «арбалетная» конструкция фибул с подвяз-
ной ножкой появилась не ранее конца II в. и, по всей вероятности, была восприня-
та от мастеров, изготовлявших разнообразнейшие литые фибулы раннеримского
времени, которые применяли технологию раздельного изготовления литого кор-
пуса и проволочного пружинного аппарата (рис. 72,7,8). Сама идея такого устрой-
ства родилась, вероятно, в результате знакомства мастеров с римскими шарнир-
ными фибулами и кельтскими пружинными и последующей их комбинацией, что
случилось еще около рубежа нашей эры. Где произошло слияние арбалетной кон-
струкции с прогнутостыо спинки и подвязкой ножки, сказать трудно. Это с рав-
ным основанием могло иметь место и в Среднем Подунавье, и в Прибалтике.
Фибулы с подвязной ножкой и с арбалетным устройством пружинного ап-
парата в разнообразных вариантах получили широкое распространение по всей
Европе, а в черняховскую культуру были привнесены и в Причерноморье, воз-
можно, со второй дытыничской волной вельбаркского проникновения. Идея
подвязной ножки вернулась как бы к своим истокам. Черняховские мастера
создали и некоторые специфические варианты таких фибул.
Продолжавшие бытовать в Причерноморье лучковые фибулы с середины
III в. тоже стали двухчастными, но в Черняховской культуре их практически
нет (Амброз 1966, с. 52-54).
На протяжении III—IV вв. существовало несколько «школ» мастеров, произ-
водивших «арбалетные» подвязные фибулы. На территории нынешней Румы-
нии предпочитали соединять корпус фибулы с пружинным аппаратом при по-
мощи крючка на головке вместо пластинки с отверстием, хотя последние там
тоже представлены (Diaconu 1971). В основном ареале Черняховской культуры
преобладают фибулы с асимметричным изгибом спинки, тогда как в более се-
верных областях, в пределах распространения вельбаркско-цецельской куль-
туры, излюбленными являлись застежки с плавным изгибом. А. К. Амброз, а
затем Е. Л. Гороховский показали, что элементы оформления играют роль хро-
нологических индикаторов: наиболее ранние фибулы изготовлены из загото-
Рис. 72. Схема эволюции «подвязных» фибул I в. до н. э. — IV в. н. э. (по данным
О. Альмгрена, А. К. Амброза и др.):
/ — фибулы среднелатенской схемы; 2 — среднслатенскис фибулы «неапольского варианта»:
3 — «лучковые» полвязиые фибулы ранних вариантов; 4-5 — поздние латенскне «прогнутые»
фибулы вариантов M-N-0 по классификации И. Костшевского; б — фибулы с подвязной ножкой
«верхнеднепровской серии» по А. К. Амброзу; 7S — римские сильнопрофилнрованные фибулы,
двухчастной «арбалетовидной» конструкции и их деревнты в Барбарикуме; 9 — «лучковые» двух-
частные фибулы «арбалстовидной» конструкции; 10-11 — одночастные, прогнутые подвязные
фибулы «среднеевропейской серии»; 12-15 — фибулы «с подвязной ножкой», соответственно
четырех вариантов, по классификации А. К. Амброза
193
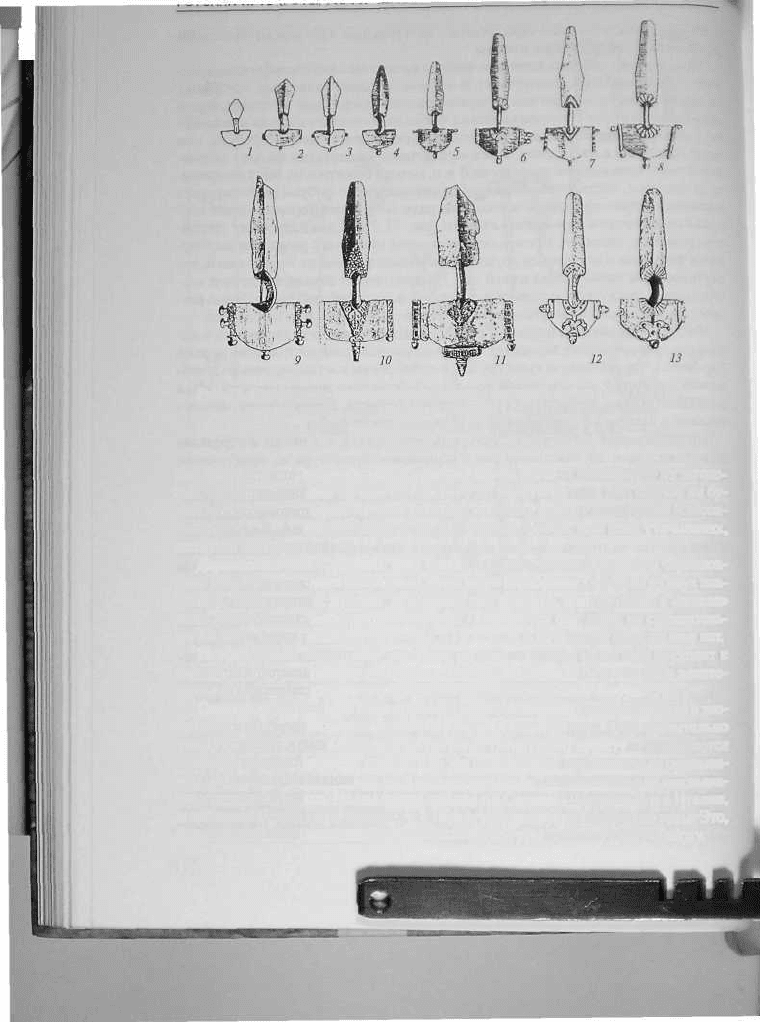
I
Рис. 73. Схема эволюции серебряных двупластинчатых фибул IV-VI вв., начало
которой лежит в Черняховской культуре (./—?) (по: Мартин 1994):
1 — Молдавия; 2 — Зибенбрунн, Трансильвания; 3 — Мунтения; 4,6, 10 — Словакия;
J, 7-9, 11 — Венгрия; 12, 13 — Северная Франция
вок круглого или треугольного в сечении дрота, а более поздние — из загото-
вок, имевших сечения от прямоугольного до пластинчатых. Мы сейчас не бу-
дем вникать в подробности возникающих по этому поводу дискуссий. Класси-
фикация А. К. Амброзом подвязных арбалетных фибул, при всех уточнениях,
остается действенной.
Двупластиичатые фибулы. Еще одним из характерных признаков чсрняхов-
ской культуры являются небольшие, чаще всего серебряные, фибулы из двух пла-
стинок, соединенных дужкой. «Головка», как правило, полукруглая, а «ножка»
либо ромбическая, либо трапециевидная. Появляются они лишь на сравнитель-
но поздних фазах развития культуры, в IV в. н. э., в начальной фазе их еще нет.
Истоки самой идеи такой застежки не совсем ясны. То ли они восходят к
некоторым формам фибул горизонта Лейна-Хаслебен-Закшув, то ли к некото-
рым редким вариантам провинциально-римских эмалевых фибул.
Однако их дальнейшее эволюционное развитие хорошо прослеживается в эпо-
ху Великого переселения народов и в раннем Средневековье. Они значительно
увеличиваются в размерах, иногда достигая гигантских, зачастую украшаются
вставками из драгоценных камней или так называемым кербшнитным орнамен-
том, или остаются гладкими, но с пальмстовидными позолоченными накладка-
ми у основной дужки. Их мы потом найдем и в Среднем Подунавьс, и в Италии,
и в Южной Галлии, и в Испании, и в Крыму — всюду, где побывали готы. Это,
безусловно, вклад носителей Черняховской культуры в последующую эпоху.
194
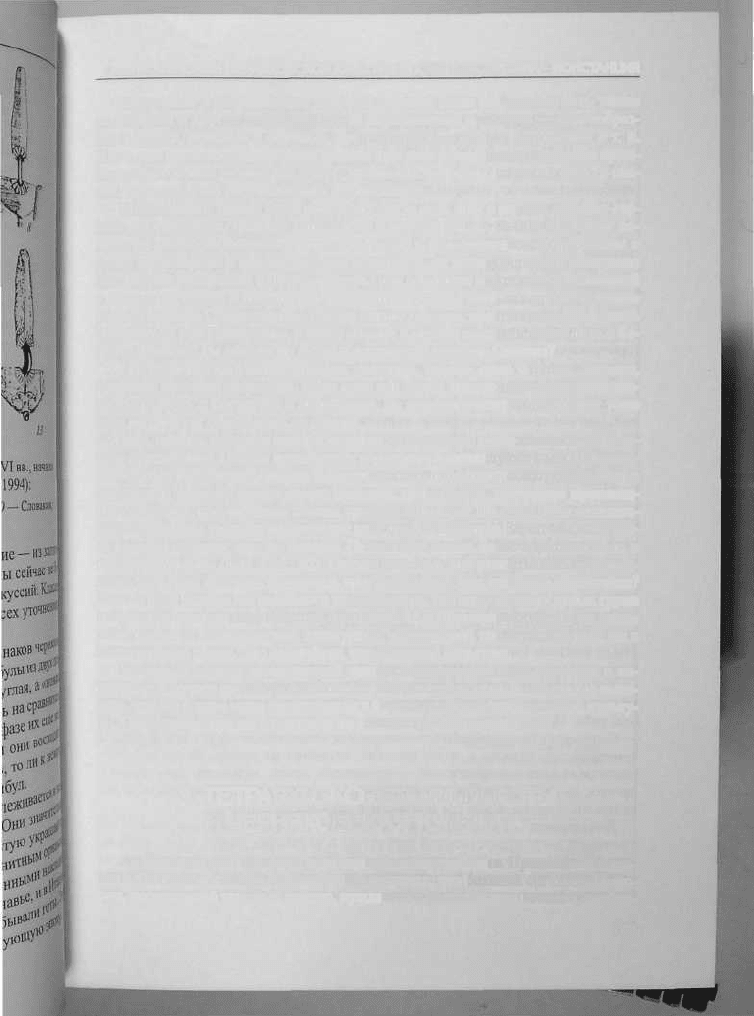
Глава IV. ФЕНОМЕН ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ КОНСТАНТИНА- КОНСТАНЦИЯ
Заключение и возникающие вопросы. Можно было бы рассмотреть таким
же образом и другие категории вещей Черняховской культуры — разнообраз-
ные пряжки, поясные и обувные, прочие варианты фибул, украшений и т. п.
И это еще предстоит сделать, но вряд ли при этом обнаружится что-либо прин-
ципиально новое — еще раз будет продемонстрирован широкий спектр свя-
зей, многообразие составляющих компонентов.
Из сказанного только что и еще выше, когда речь шла о первых сармато-гер-
манских контактах, гривнах типа Хавор и прочем (см. с. 72-90), возникает во-
прос: не имело ли движение готов Филимера в юго-восточном направлении и
некой легендарной и идеологической подоплеки, не устремлялись ли обитатели
Балтийских побережий в Причерноморье под влиянием смутных воспоминаний
о былых контактах с античной цивилизацией? Вроде того, как странствующие
рыцари раннего Средневековья искали «Чашу Грааля», крестоносцы собирались
отвоевать «Гроб Господень», а затем моряки Колумба жаждали найти путь в бо-
гатую Индию? Не искали ли Асгард, покинутый когда-то Одином?
В источниках на это нет прямых указаний, можно лишь строить догадки,
основная причина, вероятно, была куда как более прозаична — перенаселен-
ность, страсть к богатству и авантюрам, но идеологическую подоплеку тоже
вряд ли следует сбрасывать со счетов.
Пока, однако, остается необъясненным сам феномен Черняховского культур-
ного образования. Откуда проистекает очевидное благополучие и многочислен-
ность этого населения? Откуда высокая степень цивилизованности и владение
«высокими технологиями» своего времени: грамотность, гончарное производ-
ство, жернова, изготовление стекла, гребней и прочее? По всем этим показате-
лям черняховцы заметно превосходят всех прочих варваров Европы. Не случай-
но Иордан говорит, что на берегах Понта готы стали более «человечными и
просвещенными» (lord. Get., 42). Откуда, наконец, эта удивительная монолит-
ность культуры на столь обширных пространствах? Чем она была обеспечена?
Ведь во всей Европе мы подобного не наблюдаем, там мозаика культурных групп
отличается значительно большей пестротой. И в Причерноморье мы не знаем
столь крупных и монолитных культурных образований ни в предыдущие, ни в
последующие эпохи. Это специфика Черняховской культуры.
Поскольку истоки Черняховской «цивилизованности» явно тяготеют к ан-
тичному, а точнее сказать, к провинциально-римскому миру, необходимо выяс-
нить, что же в этом мире происходило в период расцвета Черняховской культу-
ры. Посмотрим, что же случилось по соседству, в Империи.
3. ТЕТРАРХИ, КОНСТАНЦИЙ, ГОТЫ
И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА
А в Империи тем временем шли серьезные пертурбации. Пришедший к вла-
сти в 284 г. хозяйственный Диоклетиан понимал, что больной организм Импе-
рии, пережившей тяжелый кризис, нуждается в радикальном лечении, нсобхо-
195
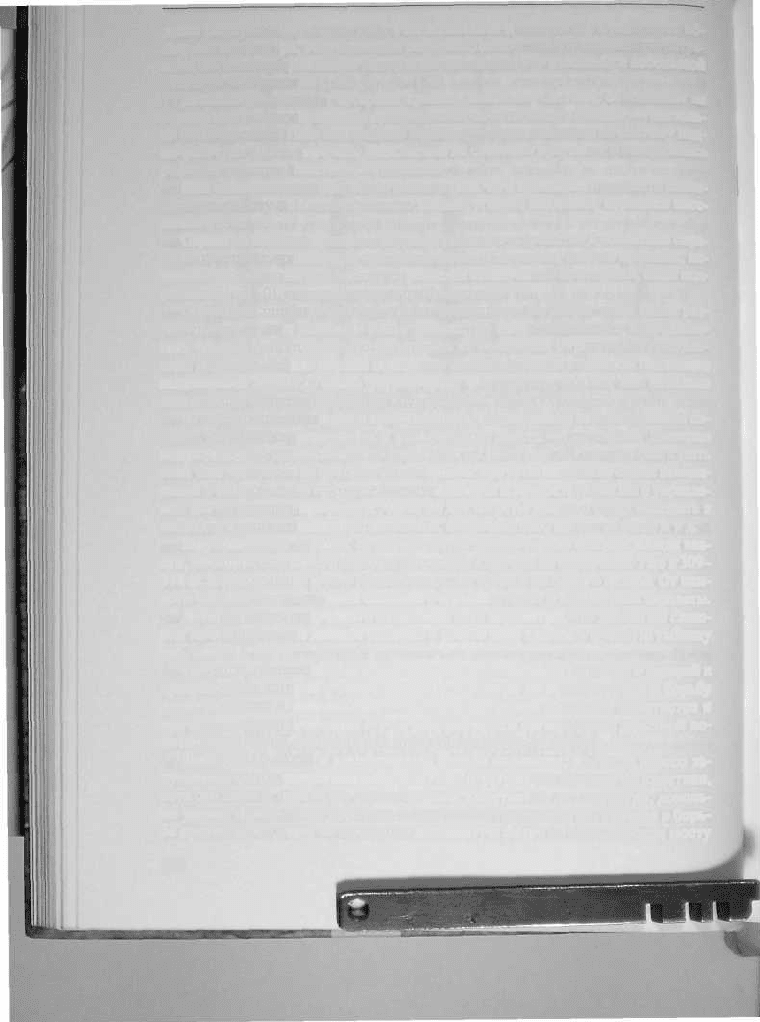
димы реформы всей структуры, и он попытался провести их. Существует об-
ширная литература, обсуждающая реформы Диоклетиана и возникшую ситуа-
цию, но, пожалуй, наиболее сжато и эмоционально это изложено в небольшой
статье В. Н. Уколовой (1993, с. 154-170).
Девальвировавшаяся во время кризиса денежная система, основанная на
серебряных монетах, которые превратились, по сути дела, в медные — настоль-
ко было снижено в них содержание серебра, — была заменена на систему мед-
но-золотую. Здесь, впрочем, Диоклетиан не слишком преуспел, и завершалась
реформа уже при Константине Великом.
Был изменен и порядок сбора налогов, для чего пришлось проделать колос-
сальную работу по инвентаризации земель, угодий, владений, переписи насе-
ления и т. п.
Одним из пороков прежнего государственного устройства Диоклетиан спра-
ведливо считал чрезмерную централизацию, и Империя, вместо прежних, ис-
торически сложившихся «императорских» и «сенатских» провинций, была под-
разделена на 101 диоцез и четыре префектуры.
Огромные пограничные армии из нескольких легионов тоже были раз-
укрупнены за счет создания более мелких, но более мобильных подразделе-
ний, причем границы «военных округов» не совпадали с границами граждан-
ских диоцезов. Этими мерами император пытался избежать опасной тенденции
выдвижения армиями своих узурпаторов, что удалось, однако, как показали
дальнейшие события, далеко не полностью.
Те же цели преследовала и предложенная Диоклетианом четырехчленная си-
стема управления, разделения и наследования власти — тетрархия. Империя
подразделялась на Восточную и Западную, во главе каждой должен был стоять
свой «август», один из которых был старшим. Августы назначали своих помощ-
ников и соправителей — цезарей, усыновляли их и предоставляли им в управле-
ние две из четырех префектур. Через 20 лет августы должны были выходить в
отставку, цезари становились августами, назначали себе новых цезарей и т. д.
Задумано было хорошо, но не был учтен человеческий фактор: жажда вла-
сти, амбиции, сложности взаимоотношений. Система не сработала. Уже к 309-
310 гг. в стране было шесть враждующих августов и ни одного цезаря. От каж-
дого «выдвиженца» солдаты ожидали очередных льгот и повышения зарплаты.
Дабы избежать подробного изложения всех перипетий, что заняло бы слиш-
ком много места, все данные сведены в своего рода хронологическую таблицу
(см. табл. 1).
Ситуация осложнялась и неоднозначным отношением августов и цезарей к
христианству, которое к этому времени, несмотря на противоречия и борьбу
различных сект и направлений — ортодоксов, ариан, авдусиан, донатистов и
прочих, — стало, благодаря структурированности организации, заметной по-
литической силой, с ней так или иначе приходилось считаться.
Диоклетиан видел в христианской церкви излишнее, «пятое», колесо за-
думанной им государственной структуры и устраивал гонения на христиан,
хотя его жена и дочь были христианками. Константин же, напротив, доволь-
но удачно использовал христиан и христианскую идеологию сначала в борь-
бе против Максснция — вспомним знаменитую битву на Мульвийском мосту
196