Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2
Подождите немного. Документ загружается.

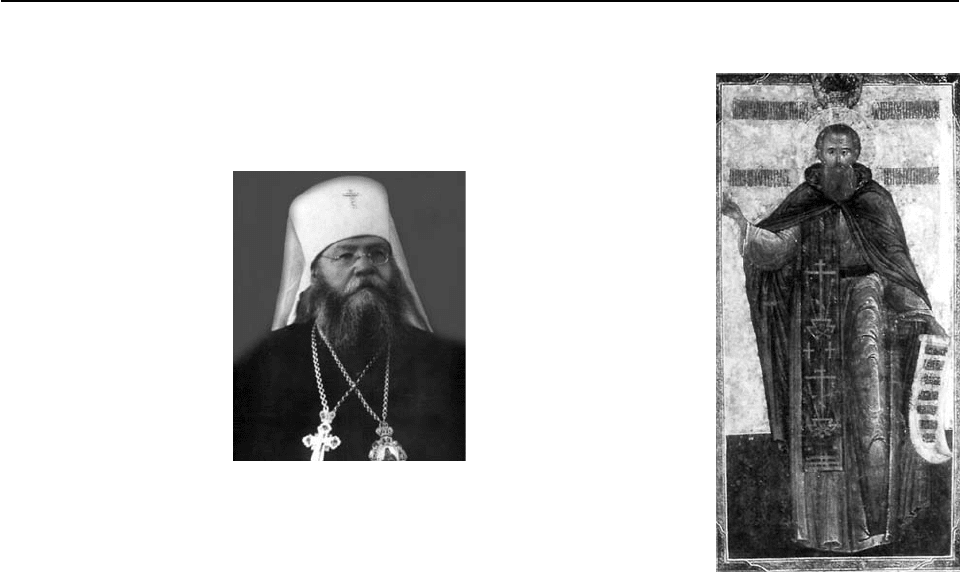
451ПАВЕЛ (КОНЮСКЕВИЧ)
хранились в сборниках XV в. под названиями: «Поуче"
ние, како жити крестьянам», «Послание отца к сыну ду"
ховному о спасении», «Поучение христолюбца к духов"
ными братома», «Поучение, како подобает милостыню
творите», «Поучение христианам».
ПАВЕЛ (в миру Гальковский Павел Михайлович), свя"
щенномученик, митрополит Иваново-Вознесенский
(9.01.1864—15[28].11.1937).
Происходил из духовного
сословия. Окончил духов"
ную семинарию. 15 авг.
1888 пострижен в монахи,
30 авг. рукоположен во
иеромонахи. Возведен в сан
архимандрита и назначен
настоятелем Петровского
монастыря, затем был на"
стоятелем Покровского ка"
федрального собора в Ви"
тебске до 1918. Здесь при"
нял активное участие
в патриотическом движе"
нии, занимал пост предсе"
дателя Витебского отдела
Союза русского народа.
Был приглашен на Съезд русских людей в Москве
27 сент.—4 окт. 1909, но прибыть не смог и прислал
приветственную телеграмму. Участник Совещания мо"
нархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде, выступал
по вопросу о борьбе с дороговизной. Арестован в 1918
и заключен в тюрьму г. Витебска, затем переведен
в Москву, в Бутырскую тюрьму. После покушения
на Ленина 17 авг. был объявлен заложником, но в тот
момент его миновала чаша мучений. По освобождении
из тюрьмы служил в 1919—21 духовником на Афон"
ском подворье.
5 июля 1921 хиротонисан во епископа Бузулукского,
викария Самарской епархии (в 1921 временно управлял
Самарской епархией). 15 сент. 1923 арестован по обвине"
нию в «антисоветской деятельности» и заключен в Таган"
скую тюрьму в Москве. В марте 1924 отправлен в ссылку
в Среднюю Азию (в г. Красноводск), где находился 3 го"
да, до марта 1927, после чего с апр. по окт. 1927 провел
в ссылке в Казани. 15 сент. 1927 назначен епископом
Егорьевским, викарием Рязанской епархии (должность
занимал до 31 окт. 1929). С 14 февр. по март 1928 — вре"
менный управляющий Воронежской епархией, с 31 дек.
1928 — Владимирской епархией. С 31 окт. 1929 епископ
Иваново-Вознесенский, с 9 апр. 1930 возведен в сан ар"
хиепископа. В апр. 1931 участвовал в зимней сессии Св.
Синода. 1 мая 1932 награжден правом ношения креста
на клобуке. В 1933 подвергался очередным репрессиям
со стороны органов советской власти. В 1935 возведен
в сан митрополита Иваново-Вознесенского. В янв. 1936
арестован. Расстрелян.
Лит.: Сб. Съезда русских людей в Москве 27 сент.–4 окт.
1909. М., 1910; Совещание монархистов 21—23 нояб. 1915
в Петрограде. Постан. и краткий отчет. М., 1915; Федотов А. А.
Ивановская епархия Русской Православной Церкви 1918—98:
Внутрицерковная жизнь и взаимоотношения с государством.
Иваново, 1999. А. Степанов
ПАВЕЛ КОМЕЛЬСКИЙ (Обнорский), преподобный
(1317–10.01.1429), принадлежал к московской боярской
семье, был воспитан
в благочестии. В возрасте
22 лет поступил в один
монастырь на Волге, а за"
тем перешел в Радонеж"
скую обитель прп. Сергия,
под его начало. Препо"
добный полюбил его за
послушание и особенную
внимательность к каждо"
му его слову и заботливо
им руководил. После ис"
куса в тяжелых послуша"
ниях и 15 лет затвора
и молчальничества прп.
Сергий благословил прп.
Павла на пустынническое
житие. Св. Павел ушел
на север в Комельские ле"
са. Здесь он 3 года жил
в дупле огромной липы,
а потом выстроил себе ке"
лью на берегу р. Нурмы,
выкопав рядом колодец.
Пять дней в неделю про"
водил он в строгом воз
держании и лишь 2 дня
вкушал немного хлеба
и воды. В лесу прп. Павел встретил другого пустынножи"
теля — прп. Сергия Обнорского, с которым сблизился ду"
ховно. Однажды прп. Павел услышал ночью под горой
колокольный звон и увидел свет ярче солнечного.
Об этом он рассказал своему другу, и прп. Сергий поведал
ему о том, что там будет монастырь во имя Пресвятой
Троицы. После того как к прп. Павлу стала собираться
братия, они обосновали там монастырь (см.: Пав"
ло-Обнорский мужской монастырь). Игуменом новой
обители стал преданный прп. Павлу инок Алексий, а сам
святой по-прежнему пребывал в строгом посте и молит
ве нашему Господу и Пресвятой Богородице. Скончался
прп. Павел в 1429, и с этого времени явления и чудеса его
неисчислимы. К лику святых он был причислен в 1547,
но св. мощи его почивали под спудом в Троицком соборе
монастыря, т. к. прп. Павел в одном из своих явлений за"
претил игумену обители их открывать.
Ныне мощи прп. Павла покоятся под спудом разру"
шенного в 1924 Троицкого собора. Вблизи монастыря со"
хранился камень, на котором молился преподобный,
и колодец, который он выкопал. В церкви Богоявления
с. Рамены хранится дупло, в котором молился святой,
и покров с его мощей.
Память прп. Павлу отмечается 10/23 янв.
ПАВЕЛ (Конюскевич), митрополит Тобольский (1705–
4.11.1768). Родился в Червонной Руси (Галиции). Учился
в Киево-Братской академии, после окончания которой
был оставлен преподавать проповедничество («пиити"
ку»), а в возрасте 28 лет принял монашество. Будучи уже
иеромонахом и сопровождая в качестве эконома настоя"
теля лавры в С.-Петербург, он был затем послан в Моск"
Сщмч. Павел
(Гальковский), митрополит
Иваново-Вознесенский.
Павел Комельский
(Обнорский). Икона. XVI в.

452 ПАВЕЛ (КРАТИРОВ)
ву на видную должность проповедника при Московской
Славяно-греко-латинской академии.
Служа в Москве и отличаясь даром красноречия,
твердостью и строгостью жизни, через 2 года о. Павел был
возведен в сан архимандрита и направлен сначала в Симо
нов, а затем в Чудов монастыри. Он был духовником ца"
ревны Софьи. Вскоре, по удалении царевны и заточении
ее в монастырь, о. Павел отбыл в Новгородский Юрьев
монастырь, где пробыл 15 лет и воздвиг много построек.
В 1758 архим. Павел был хиротонисан во епископы
и назначен на Тобольскую и Сибирскую кафедру с возве"
дением в сан митрополита. Он многого достиг в возвы"
шении образования в своей епархии, вызвав из Киева
3 ученых монахов. При нем было построено ок. 20 камен"
ных храмов, учреждено миссионерство.
К провинившемуся духовенству владыка был суров,
вызывая их в архиерейский дом и монастыри, приказывал
употреблять на черную работу. Однако эта черта его ха"
рактера покрывалась сострадательностью к нуждающим"
ся, вдовам и сиротам.
В 1764 в Иркутске трудами владыки обретены мощи
свт. Иннокентия.
Митр. Павел выступил против церковной политики
Екатерины II и добился увольнения на покой в Кие
во-Печерскую лавру, где жил до своей смерти, окружен"
ный уважением как бесстрашный борец за права Церкви.
ПАВЕЛ (Кратиров), священномученик, епископ Старо"
бельский (1871–23.12.1931[5.01.1932]). Родился в Воло"
годской губ. в семье священника (будущего епископа).
Окончил Вологодскую духовную семинарию и Казанскую
духовную академию.
В 1918 он был рукоположен в священника, а в 1922
хиротонисан в епископа Старобельского, викария Харь"
ковской епархии. С владыкой почти сразу повели борь"
бу обновленцы: по ходатайству местного уполномочен"
ного обновленческого ВЦУ власти высылают владыку
за пределы епархии, а сами обновленцы объявляют его
уволенным за штат.
В 1925 он подписал акт о восприятии церковной власти
священномучеником митр. Петром (Полянским). Неодно"
кратно подвергаясь арестам, владыка до н. 1925 служит то
в Вологде, то во Владимире, то в Великом Устюге, то
в Москве. С весны 1925 святитель проживал в Харькове
на положении ссыльного. Весной 1926 он поддержал Мес"
тоблюстителя Патриаршего престола митр. Агафангела
(Преображенского) в восприятии им Местоблюстительства.
Владыка отделяется от митр. Сергия (Страгородского)
еще до издания им «Декларации» 1927, поскольку считал
его захватчиком высшей церковной власти. За это он был
запрещен в священнослужении экзархом Украины митр.
Михаилом (Ермаковым).
Резко отрицательно встретил владыка и «Декларацию»
митр. Сергия. После переписки со священномучеником
митр. Агафангелом владыка в апр. 1928 отправил Замести"
телю Патриаршего Местоблюстителя официальное заявле"
ние об отделении от него. Через месяц он был запрещен
в священнослужении Синодом митр. Сергия. В н. 1928 свя"
титель присоединяется к сщмч. митр. Иосифу (Петровых).
В эти годы владыка пишет много работ, обличающих
позицию митр. Сергия (Страгородского) в отношении
к властям. Работы «Наши критические замечания по пово"
ду второго послания митрополита Сергия», «О модернизи"
рованной церкви или о Сергиевом православии» и «Первое
письмо епископа» (предположительно авторство принад"
лежит еп. Павлу) являют владыку как сильного идейного
оппонента митр. Сергия. Он считал, что Нижегородский
митрополит, получив церковную власть, стал говорить
от лица всей Церкви, самовольно вступив на новый курс.
Своей «Декларацией», по мнению владыки, митр. Сергий
единолично предрешает соборные определения, выступая
как «захватчик высшей церковной власти».
В переписке с еп. Димитрием (Любимовым) еп. Павел
высказывал свое отношение к богоборческой власти:
«Не поставлены ли мы долгом своего служения пастыр"
ского в необходимость препятствовать на каждом шагу
существующей власти в ее работе. Разве можем мы одоб"
рять безбожное воспитание в современных школах...
Не более ли достойно нашего великого служения прямо
и откровенно засвидетельствовать власти, что пути наши
идут в разных направлениях...»
К владыке переходит ок. 40 приходов иосифлян в Харь"
ковском, Сумском и Днепропетровском округах. Однако
после жалобы на его деятельность епископа Харьковского
Константина (Дьякова) (поставленного мирт. Сергием)
владыка был вызван в ОГПУ. Вскоре от него потребовали
перестать возносить имя Патриаршего Местоблюстителя
митр. Петра (Полянского). После отказа сделать это
еп. Павел был арестован и приговорен к 10 годам лагеря,
где скончался в тюремной больнице.
Канонизирован Русской Церковью за Рубежом в 1981.
ПАВЕЛ (Подливский) (ск. в 1861), церковный археолог,
архиепископ Черниговский; воспитанник Петербург
ской духовной академии, был ректором Владимирской се"
минарии и епископом Костромским. Павел составил
«историко-статистические описания» монастырей: Кос"
тромского Ипатьевского, Переяславского Данилова,
Макариева Унженского, Костромского Крестного и Ду"
ховского Николаевского.
ПАВЕЛ ПРУССКИЙ (1821–1895), архимандрит. Родился
в Сызрани в раскольничьей семье, в первую половину
жизни сам был раскольником федосеевского толка (см.:
Федосеевцы), считался хорошим начетчиком. На средст"
ва Преображенского кладбища, попечители которого заду"
мали создать новый центр раскола, Павел отправился
в Пруссию в 1848 (отсюда его название — Прусский)
и там устроил, близ Гумбиниена, раскольничий монас"
тырь. В 1851 вследствие раздоров в монастыре он удалил"
ся в Климоуцы, но в 1852 возвратился в свой монастырь,
которым и управлял 15 лет. Все это время он считался
главным вождем федосеевщины. В 1868 он присоединил"
ся к единоверию и переселился в Москву, в Никольский
единоверческий монастырь, который был устроен на месте
мужской половины бывшего раскольничьего Преобра"
женского монастыря. Вскоре Павел был выбран настоя"
телем. Он был самоучка, знал древнерусскую и святооте"
ческую литературу, писал легко, просто и доказательно
опровергал все пункты учения раскола. Он написал много
сочинений, большая часть которых вышла несколькими
изданиями, сделанными Св. Синодом. Особенно цени"
лись его сочинения: «Подробные опровержения «Помор"
ских ответов» Андрея Денисова и вопросов «Никодима»,
«Беседа с поповцем о 69 правилах Карфагенского собо"
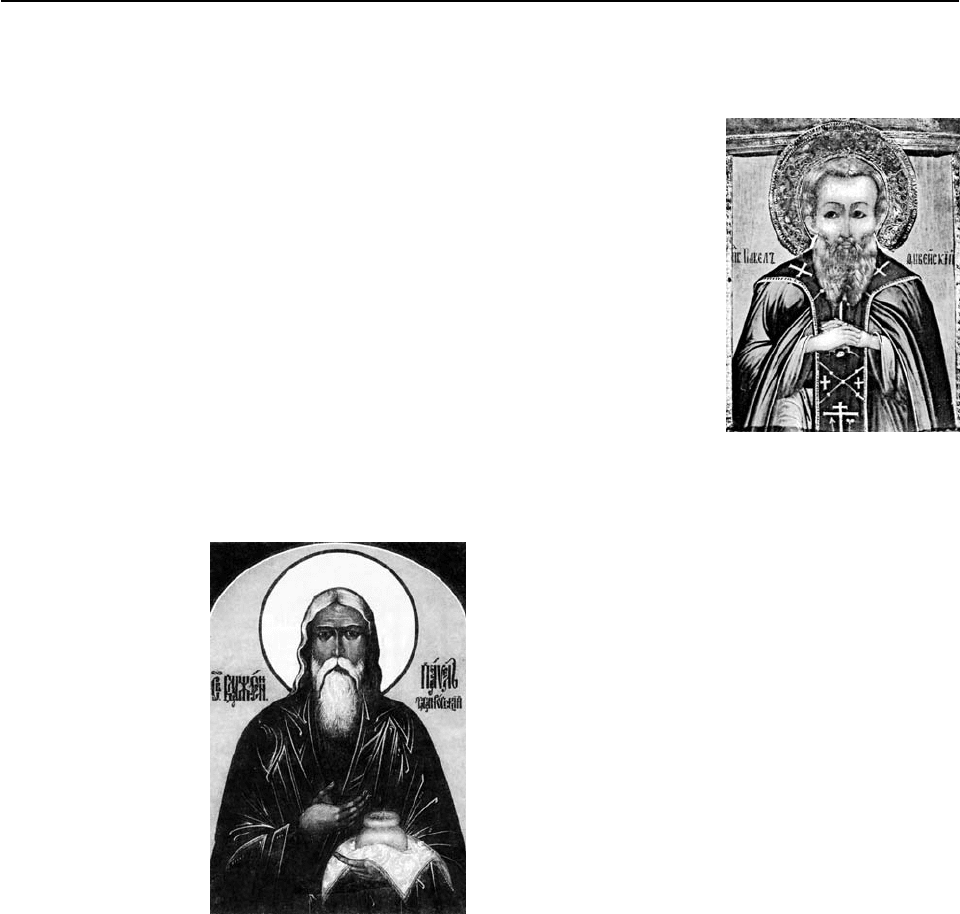
453ПАВЛИН (КРОШЕЧКИН)
ра», «Беседа о Пирре» и др. Полное собрание сочинений
Павла Прусского вышло в 1897 в Москве.
Лит.: Колосов Н. Архимандрит Павел Прусский. М., 1895;
Беренский Н. Архимандрит Павел Прусский и его противорас"
кольничья деятельность. Киев, 1899.
ПАВЕЛ РУССКИЙ, священномученик (ск. в 1683). Рус"
ский пленник, уведенный в неволю в Константинополь
крымскими татарами. Там его купил христианин и воз"
вратил ему свободу. Павел женился на русской пленнице
и остался в Константинополе. Но после перенесенных
страданий у него начались припадки эпилепсии. Один
такой припадок случился с ним на улице, и он в беспа"
мятстве назвал себя мусульманином. Турки сочли его ве"
роотступником, обвинили священников в совращении
мусульман и посадили их всех в тюрьму. Тщетно пытался
объяснить Павел, что он припадочный и слова свои про"
изнес бессознательно. Ему не поверили и грозили ему
смертью. Жена увещевала его пострадать за Христа. Ви"
зирь велел ее бить и посадить в тюрьму.
На другой же день после того, как Павел трижды ис"
поведал себя христианином, ему отрубили голову. А жену
его и священников христиане выкупили из тюрьмы
за большие деньги.
Память его празднуется 6/19 апр., в день мученичес"
кой гибели.
ПАВЕЛ ТАГАНРОГСКИЙ (ск. в 1879), блаженный, ста"
рец. Жил в г. Таганроге
недалеко от Азовского
моря. Келья его была
небольшой и темной,
святой угол был устав"
лен дивными иконами,
перед которыми не уга"
сал свет лампад. На бо
гослужения ходил он
в церковь свт. Николая,
что на набережной.
Своей жизнью, подви"
гами поста и молитвы,
благоговейным отно"
шением к Божествен"
ной литургии, раздачей
нищим всего, что у него
имелось, — достиг ста"
рец глубокого почита"
ния и любви народной.
Он был известен всему
Югу России, и к нему приезжали за получением благо"
словения на начало какого-либо дела.
Перед кончиной старец позвал свою послушницу Ма"
рию и сказал ей: «Дочь моя, сколько пчелок прилетело,
а матке и места не было, так что она взобралась на крышу».
Ровно через 3 дня старец почил. Когда выносили тело, на"
роду было столько, что не только двор, но и улицы были
заполнены. Послушница Мария не могла пробраться
к гробу, когда его выносили, и она взобралась на крышу.
Над его могилой вскоре была построена часовня. Сю"
да притекало множество народа. Большевики разрушили
часовню, привезли бочку с нефтью и подожгли землю, за"
сыпав сверху известью. Однако Господь сохранил св. мо
щи праведника, обретение которых состоялось 22 мая
1999, а 7 июня, после акта канонизации блаженного, они
были перенесены в Никольский собор г. Таганрога.
ПАВЕЛ ФИВЕЙСКИЙ, Египетский, отшельник (ск.
341), родился в египетском г. Фиваиде ок. 228. После
кончины родителей ему
пришлось претерпеть мно"
го скорбей от своего родст"
венника, который, желая
завладеть наследством, до"
нес языческим властям
о том, что Павел исповеду"
ет христианство. Это были
времена жестокого гоне"
ния на христиан, поднято"
го имп. Декием, и Павел
решил оставить родной го"
род и удалиться в Фиваид"
скую пустыню, где провел
долгие годы в совершен"
ном одиночестве и непре"
станной молитве. Единст"
венной пищей преподоб"
ного были финики и хлеб,
которые ему приносил в клюве прилетавший ворон.
Спустя много лет Господь открыл о жизни Павла друго"
му знаменитому подвижнику — св. Антонию, который
тоже подвизался в Фиваидской пустыне и собрал вокруг
себя множество учеников. Внезапно его стала смущать
мысль о том, что нет здесь др. человека, который боль"
ше, чем он, подвизался бы и молился. Тогда Господь вра"
зумил св. Антония. По слову Господню он отправился
к прп. Павлу. Уже глубокий старец, прп. Павел рассказал
св. Антонию историю своей жизни. От Бога прп. Павел
уже знал о своей кончине и просил св. Антония похоро"
нить его тело. Св. Антонию пришлось вернуться в свой
монастырь за иноческой мантией, чтобы достойно похо"
ронить старца. На обратном пути, подходя к пещере, он
увидел возносящуюся в сонме ангелов душу прп. Павла.
Подвижнику, который почитается отцом православного
монашества, было 113 лет, из которых 91 он провел в пол"
ном уединении в пустыне. Два льва, вышедших из пус"
тыни, лапами выкопали могилу, в которой св. Антоний
и похоронил тело прп. Павла.
Память прп. Павлу отмечается 15/28 янв.
ПАВЛИН (Крошечкин), священномученик, архиепископ
Могилевский (19.12.1879–21.10[3.11].1937. Родился в Пен"
зенской губ. в крестьянской семье. В 16 лет поступает в Са
ровскую пустынь, а затем переходит в Николо-Бабаевский
монастырь. Закончил Московскую духовную академию. 17
лет подвизался в Новоспасском монастыре в Москве, с 1920
был его наместником. В 1921 хиротонисан в епископа
Рыльского, с 1926 по 1933 занимал Пермскую, а затем Ка"
лужскую кафедры. Святитель был прост в общении и всем
доступен. Он любил петь церковные песнопения вместе
с народом, приучая паству к сознательному произноше"
нию молитвенных слов. Его очень любил простой русский
народ. Владыка был незлобив, как дитя. Никогда его не ви"
дели гневающимся, и терпение его было удивительным,
а смирение и кротость достойны преклонения. Если он ви"
дел, что кто-то раздражался на него, то не мог успокоиться,
пока не испросит прощения у этого человека.
Павел Таганрогский.
Павел Фивейский.
Икона. XVII в. Псков.

454 ПАВЛОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ ИКОНА
Имел святитель «сердце милующее ко всякой тва"
ри…». Так, в своем садике он построил мостик через до"
рожку, по которой проложили тропу муравьи, чтобы слу"
чайно не наступить на них.
Когда осенью 1926 среди епископата обсуждалась
возможность тайного избрания Патриарха, владыка,
бывший инициатором этой идеи, взял на себя практичес"
кое руководство проведением выборов. Он объезжал
епископов по всей России, собирая подписи. К нояб.
1926 имелись уже подписи 72 епископов под актом из"
брания митр. Кирилла (Смирнова) Патриархом.
Находясь тайно с этой миссией в Москве, владыка
был арестован. И хотя документы не попали в ГПУ, по"
следовала волна арестов тех епископов, кто поставил
свои подписи под актом избрания Патриарха. Год влады"
ка пробыл в одиночной камере. Впоследствии он назы"
вал тюрьму своей «второй академией». В апр. 1927 вла"
дыка был освобожден вслед за освобождением
митр. Сергия (Страгородского), который вскоре издал из"
вестную «Декларацию».
В 1933 владыка был назначен на Могилевскую кафедру.
В окт. 1936 владыка был арестован и приговорен к 10 годам
заключения, а через год расстрелян в Кемеровском лагере.
Канонизирован Архиерейским Собором Русской
Церкви в 2000.
ПАВЛОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пре"
святой Богородицы. Один из списков с Казанской чудот"
ворной иконы. Находилась в с. Павловском Московской
губ. Звенигородского уезда. Она явилась на дереве, близ
села, где построена часовня в память явления; внутри ча"
совни находится колодец, названный в народе святым.
Первое чудо от иконы было следующее. Один из крес"
тьян Павловского впал в жестокую болезнь от невоздер"
жной жизни. В это время другому благочестивому крес"
тьянину явилась во сне Пресвятая Богородица и повеле"
ла сказать больному, чтобы тот молился Ей об исцелении
и сходил умыться на святой колодец. Затем ему следует
оставить невоздержную жизнь, иначе он может погиб"
нуть. Больной с большим усилием отправился к колодцу,
умылся и — совершенно выздоровел.
Празднуется 8/21 июля. Прот. И. Бухарев
ПАВЛО-ОБНОРСКИЙ ТРОИЦКИЙ монастырь, Воло"
годская губ. Находится в 15 верстах от г. Грязовца, на ле"
вом берегу р. Нурмы. Обитель расположена в красивой
живописной долине, окруженной со всех сторон отлоги"
ми горами. Основана в 1414 прп. Павлом Обнорским, уче"
ником Сергия Радонежского. Наделенный имениями
и различными богатыми вкладами от великих князей
и прочих знатных благотворителей, монастырь на первых
порах быстро достиг значительного благосостояния.
Но в течение XVI–XVIII вв. монастырь неоднократно ис"
пытывал тяжелые бедствия: горел и подвергался разграб"
лению от казанских татар и разбойничьих шаек. Тем
не менее к н. XX в. это был один из наиболее процветаю"
щих русских монастырей.
Перед 1917 в обители было 4 храма. Главный собор"
ный храм Троицкий (построен вел. кн. Василием Иоанно"
вичем в 1605–10), который переходом соединялся со вто"
рым храмом в честь Рождества Иоанна Предтечи. Третий
храм в честь Успения Божией Матери и четвертый —
в честь Корсунской иконы Божией Матери с приделами
во им прп. Павла Обнорского и во имя св. Сергия Радо"
нежского. В последнем храме почивали под спудом мощи
прп. Павла Обнорского; над ними была устроена рака
из чистого серебра с резным золоченым балдахином.
Здесь же находились 2 местночтимые иконы: Корсунской
Божией Матери и прп. Павла Обнорского. В монастыре
хранились: медный литой восьмиконечный крест, при"
надлежавший прп. Павлу Обнорскому, данный ему св.
Сергием Радонежским; кроме того, сохранялось дупло
того дерева, в котором прп. Павел жил 3 года. За монас"
тырской оградой с востока и запада возвышались 2 высо"
ких холма с зеленеющими елями. На восточном холме на"
ходился Воскресенский скит. На холме по скату была
устроена лестница с 30 ступенями. Основан скит
игум. Иоасафом в 1867. Скитский храм каменный 2-этаж"
ный о 13 главах, во имя Воскресения Христова, с приде"
лами в честь Покрова Божией Матери и в честь Всех Свя"
тых. Западный холм назывался Голгофой: здесь была
устроена деревянная часовня во имя Крестных Страданий
Спасителя. На юго-запад от монастыря находилась др. ча"
совня, поставленная над колодцем, выкопанным руками
прп. Павла на том месте, где стояла его уединенная келья.
Дважды в год, в Троицын день и 24 июля, в монасты"
ре совершались крестные ходы. В обители была гостини"
ца с номерами для приезжающих и странноприимный
дом для богомольцев.
После 1917 монастырь был ограблен.
После закрытия обители в 1924 были разрушены Тро"
ицкий собор, колокольня, ограда. В оставшихся помеще"
ниях функционировал детский дом. Монастырь начал
возрождаться в 1994. Обитель, бывшая когда-то ставро"
пигиальным монастырем и имевшая приписными Спа"
со-Преображенский Макариево-Писемский и Свя"
то-Благовещенский Иннокентиево-Комельский монас"
тыри, сейчас является подворьем Вологодского Спа
со-Прилуцкого Димитриева монастыря.
5 июня 1999 был освящен трапезный храм во имя
Успения Богородицы. Началась служба в Скитском хра"
ме во имя Воскресения Христова с приделами Покрова
Божией Матери, Тихвинской иконы Царицы Небесной
и Всех Святых. При монастыре были пещеры, которые
существуют и поныне.
Святынями монастыря являются: мощи прп. Павла
Обнорского и прмчч. Обнорских: Ефрема, Герасима,
Иеронима, Исаакия, Дионисия и Митрофана, покоятся
под спудом на месте разрушенного Троицкого собора оби"
тели. Части мощей прмч. игум. Климента и прпп. Андро"
ника Ветхопещерника и Феодора Калики, Киево-Звери"
нецких. Частицы мощей ок. 100 святых, в их числе мощи
апостолов и евангелистов Матфея, Марка и Луки;
ап. Андрея; свт. Николая Чудотворца; Трех святителей; вмч.
и целителя Пантелеимона; прп. Сергия Радонежского; св.
блгв. кн. Александра Невского; первосвятителей Москов"
ских. Вблизи монастыря находятся камень, на котором мо"
лился прп. Павел Обнорский, и кладезь, который он выко"
пал. В храме Богоявления Господня с. Раменье хранится
дупло, в котором молился прп. Павел, и покров с его мо"
щей. Многие святыни обители хранятся в музеях.
ПАВСКИЙ Герасим Петрович, протоиерей (1787–1863),
богослов, филолог, академик Российской академии наук
(1858). Сын священника Лужского уезда. Учился в Алек"
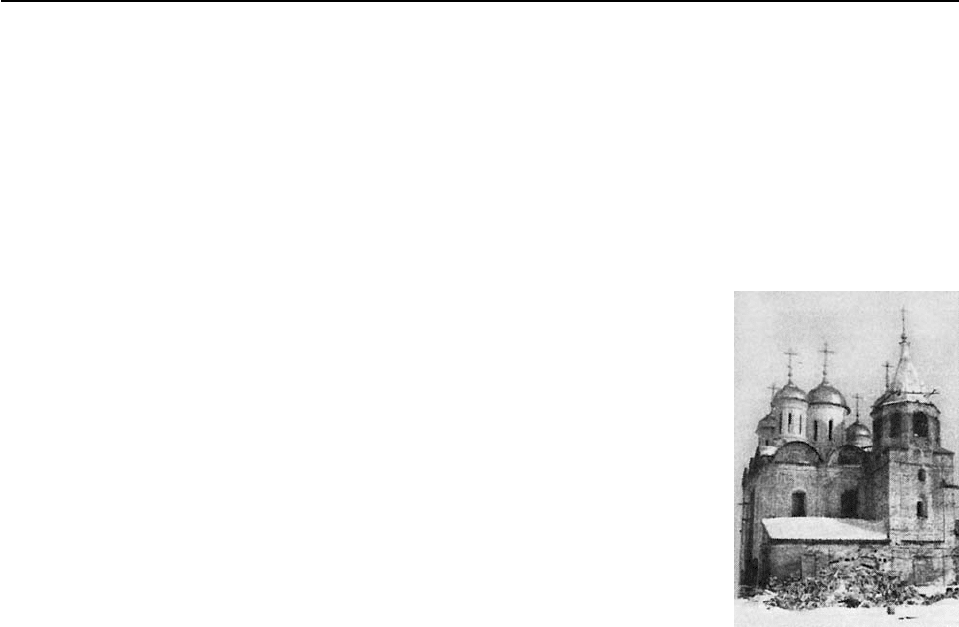
455ПАИСИЙ ВЕЛИКИЙ
сандро-Невской семинарии и Петербургской духовной
академии. Подготовил исследования «О книге псалмов»,
перевел книгу псалмов на русский язык. С 1814 Павский
состоял редактором и директором Библейского общества
и перевел сам Евангелие от Матфея. Павский переводил
и исследовал филологически текст учительных и проро"
ческих книг Ветхого Завета; перевод этот навлек на Пав"
ского недовольство Св. Синода и прежде всего свт. митр.
Филарета (Дроздова). Дело было в том, что перевод книг
Ветхого Завета осуществляли не по каноническим изда"
ниям, а по еврейским текстам мазоретской, талмудичес"
кой редакции (см.: Библия).
Павский был главным сотрудником журнала «Хрис
тианское Чтение», где печатал как свои статьи, так и пе"
реводы из творений Отцов Церкви.
В 1826 Павский был назначен законоучителем к на"
следнику цесаревичу Александру Николаевичу (буду"
щему Александру II) и к вел. княжнам. В. А. Жуковский,
заведовавший всем обучением наследника, так оценивал
законоучительство Павского: «Ваша религия — друг про"
свещения, такая именно, какая должна жить в душе го"
сударя». Для преподавания Закона Божия цесаревичу
Павский составил обширную записку о методе и пред"
метах предстоящих занятий, которая считается первым
серьезным, научно обоснованным трудом по методике
преподавания Закона Божия в России: для этой же цели
он составил «Христианское учение в краткой системе»,
«Начертание церковной истории», «Библейские древнос"
ти для разумения Св. Писания», «Краткий обзор христи"
анского учения» и «Жизнь Иисуса Христа, рассказанная
подробнейшим образом». «Христианское учение в краткой
системе» и «Начертание церковной истории» вызвали
возражения у свт. митр. Филарета, который, найдя в учеб"
никах Павского признаки неправоверия и неправославия
автора, добился устранения его от преподавания Закона
Божия цесаревичу. С этого времени Павский посвятил
себя исключительно научной деятельности, результатом
чего были: «Филологические наблюдения над составом
русского языка», которые принесли ему полную Деми"
довскую премию от Академии наук, и «Материалы для
объяснения русских коренных слов посредством инопле"
менных», находящиеся в рукописи в Академии наук,
«Опыт этимологического словаря русского языка».
В 1841 вновь был привлечен в Синоде к суду за неправо"
славие, проявленное им в переводе Ветхого Завета, и ему
стоило больших трудов доказать преданность Церкви
и безусловную верность ее символическому учению, опи"
раясь гл. обр. на то обстоятельство, что перевод известен
только по запискам с его лекций студентов Петербург"
ской духовной академии, а за ошибки, встречающиеся
в них, он не ответственен, т. к. не проверял их.
ПАДАНСКИЙ ВВЕДЕНСКИЙ женский монастырь, Оло"
нецкая губ. Находился около Винницкой приходской цер"
кви в Лодейнопольском уезде. Учрежден в 1897 на месте
упраздненной в 1764 Корнилиевой пустыни. Храм был
один, во имя Введения во Храм Пресвятой Богородицы.
После 1917 монастырь утрачен.
ПАИСИЕВО-ГАЛИЧСКИЙ монастырь, Костромская губ.
Находится в 3 км от г. Галича в д. Успенская Слобода. Пер"
воначально монастырь именовался Никольским. Прп. Па
исий Галичский поселился в обители в 1385 юным иноком
и подвизался в ней более 70 лет. Был в монастыре игуменом,
позже — архимандритом. В 1425 в обители совершилось чу"
десное явление иконы Пресвятой Богородицы, именуемой
Овиновской. Живший неподалеку благочестивый галичский
боярин Иоанн Овин возжелал построить в Никольском мо"
настыре церковь. При входе в обитель ему явились 2 свет"
лых ангела, которые вручили боярину чудотворный образ,
а саму церковь повелели освятить в честь праздника Успе"
ния. Деятельность преподобного пришлась на время прав"
ления вел. кн. Московского Василия II Темного. Преподоб"
ный неизменно выступал миротворцем и стремился при"
мирить враждующие стороны. После кончины преподоб"
ного его мощи покоились в Успенском храме.
Среди иноков монасты"
ря здесь был послушником
в XV в. прп. Григорий Пель
шемский, Вологодский чудо"
творец (ск. 30 сент./13 окт.
1442). Ежегодно проводи"
лось 2 крестных хода —
23 мая/5 июня и 15/28 авг.
Обитель прп. Паисия
претерпела многие трудные
времена. В годы войны ее ра"
зоряли захватчики, принес"
ли бедствия многочислен"
ные пожары, но неугасимая
лампада перед образом Пре"
святой Богородицы и мона"
шеская молитва в этом свя"
том месте не угасали. После
1917 монастырь был закрыт,
мощи прп. Паисия подверг"
нуты вскрытию. Уже в 1970-е в обители вновь случился по"
жар, из-за которого единственному уцелевшему храму —
Успенскому собору, уникальному памятнику северной ар"
хитектуры XVII в., — угрожало полное разрушение.
С 1993 монастырь начал возрождаться, но уже как жен"
ский. Возобновлена древняя традиция совершения крест"
ного хода 5 июня, в день памяти прп. Паисия Галичского.
При восстановлении древней обители была сделана по"
пытка отыскать св. мощи Паисия Галичского, что привело
к неожиданным результатам — вместо мощей был обнару"
жен «негативный отпечаток на грунте», на котором ясно
проглядывались глазные впадины, морщинистый высокий
лоб, нос, борода и архимандритский жезл. Сами же кост"
ные останки, исключая фрагмент левого предплечья, отсут"
ствовали. Как пишет руководитель раскопок, «аналогией
подобному отпечатку, насколько мне известно, может быть
только Туринская плащаница (если только такое сравнение
вообще корректно). Во всяком случае, естественно-научно"
го объяснения происхождения данного отпечатка найти
практически невозможно. Элемент чуда несомненен».
Святыней Паисиево-Галичского монастыря является
Овиновская икона Божией Матери, хранящаяся в Успен"
ском соборе.
ПАИСИЙ ВЕЛИКИЙ, преподобный (V в.), родился
в Египте в 1-й пол. IV в., был седьмым, последним ребен"
ком в благочестивой христианской семье. После смерти
отца Паисий — по повелению ангела — отдан матерью
в церковь. Достигнув совершеннолетия, удалился в Нит"
Паисиево"Галичский
монастырь.
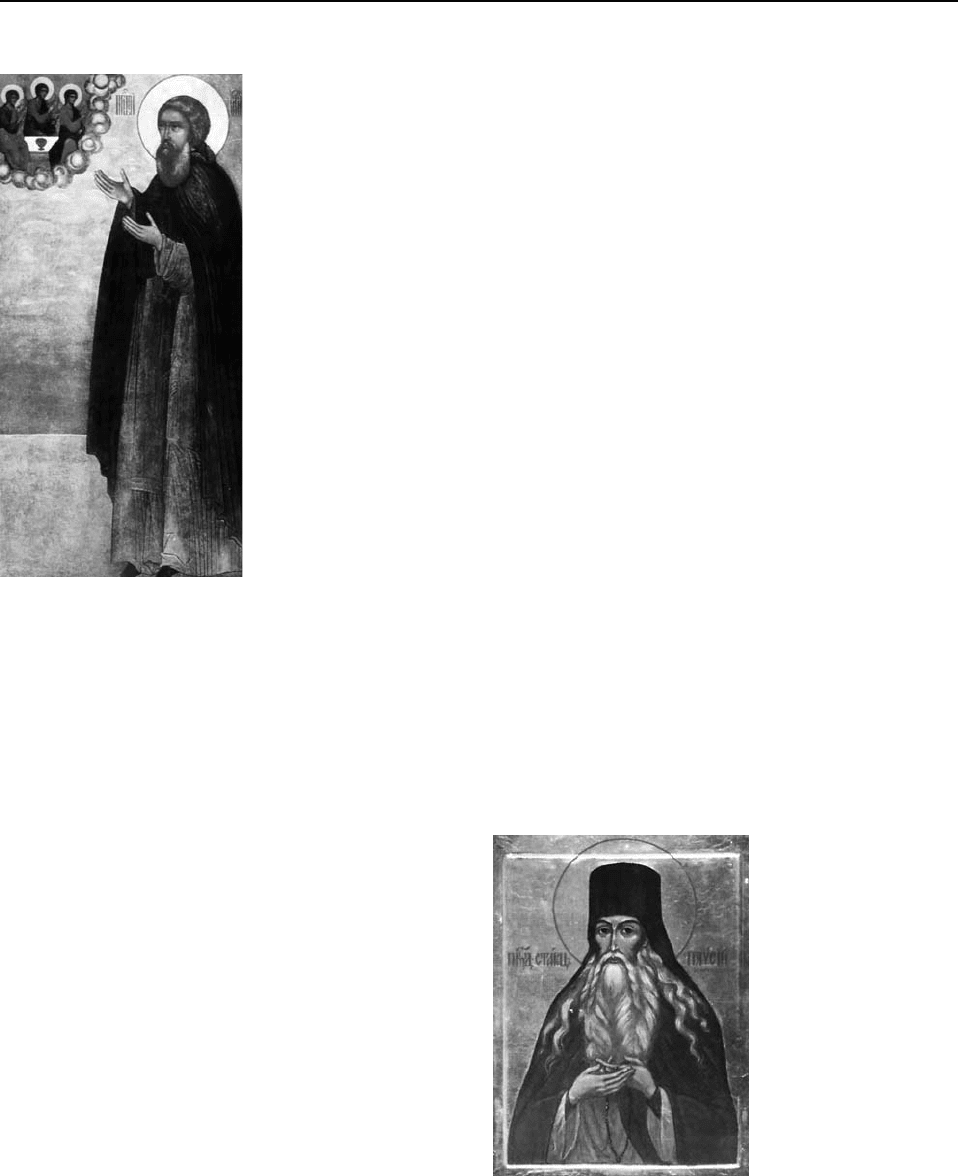
456 ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ
рийскую пустыню (в Египте) к знаменитому подвижни"
ку — прп. Памве, под духовным руководством которого
принял монашество и про"
ходил иноческие послуша"
ния. Прп. Паисий придер"
живался строгого поста,
вкушая пищу только два
раза в неделю. Излюблен"
ным чтением подвижника
была книга прор. Иеремии.
Св. пророк часто являлся
Паисию и раскрывал ему
содержание пророчеств.
После смерти своего на"
ставника, св. Памвы, прп.
Паисий, следуя воле Гос"
подней, возвещенной ему
ангелом, удалился в за"
падную часть пустыни.
Пребывая в безмолвии
и глубокой молитве, он
был однажды вознесен
духом в прекрасные рай"
ские обители, преиспол"
ненные неизреченного
света. Здесь прп. Паисий
был удостоен причаще"
ния невещественных Бо"
жественных Таин и вос"
принял после этого дар
редкого постничества: он мог оставаться без пищи долгое
время. К преподобному стали приходить иноки и миря"
не, ищущие духовного наставления. Многие из них оста"
вались жить в пустыне. Главным заветом прп. Паисия
было полное послушание духовному отцу. Видя, что его
безмолвие постоянно нарушается, он тайно ушел в глубь
пустыни, где все ночи проводил в непрестанной молитве.
Наивысшей добродетелью св. Паисий считал ту, которая
совершается втайне. Прп. Паисий, за свой духовный по"
двиг прозванный Великим, дожил до глубокой старости
и мирно преставился в первой трети V в.
Память прп. Паисию отмечается 19 июня/2 июля.
ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ (в миру Величковский Петр
Иванович), святой схиархимандрит (21.12.1722—
15.11.1794), православный подвижник, канонизирован
в 1988. Родился в Полтаве в семье священника и при кре"
щении был назван Петром. Отец его, Иоанн Величков"
ский, был настоятелем Успенского собора; «на пятом году
жизни ребенок потерял отца, а на седьмом году был отдан
матерью в соборную школу, где изучал букварь, Часослов
и Псалтирь. Выучившись читать, Петр предался «нена"
сытному» чтению книг. По его словам, он в детстве прочи"
тал все Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, жи
тия святых, поучения св. Иоанна Златоуста и св. Ефрема
Сирина. С раннего детства он увлекался подвигами святых,
особенно пустынножителей, и мечтал проводить, подобно
им, жизнь в пустыне, в уединении, в трудах и молитве,
подражая нищете и простоте Христовой. Уже в это время
в нем обнаружились все главные свойства его души: глубо"
кая преданность Богу, кротость, ясность, скромность, до"
ходившая до робости, и вместе с тем настойчивость и не"
преклонность в достижении поставленной себе цели, по"
стоянное самоуглубление, молитвенная собранность
и умиленность духа». Учился будущий святой в Киево-Мо
гилянской академии (1735—39). Много странствовал
по Малороссии, затем поселился в Киево-Печерской лавре,
а в 1746 переселился на Афон, избрав путь отшельничест"
ва. В 1750—55 вокруг Паисия Величковского складывает"
ся небольшая монашеская община, в центре духовно-ас"
кетической практики которой была Иисусова молитва
и психофизическая традиция исихазма.
По примеру св. Нила Сорского много веков спустя Па"
исий Величковский «напомнил монашеству цель духов
ной жизни, состоящую не во внешних подвигах, а во
внутреннем приближении к Богу, в «духовном делании»,
в постоянном «внимании себе», в борьбе со своими гре"
ховными влечениями, в освящении и просвещении
сердца «умною молитвою». Эта цель не может быть дос"
тигнута без отречения от своей греховной воли, без под"
чинения себя руководству опытного наставника или,
за отсутствием его, руководству Слова Божия и писаний
Святых Отцов. Замечая недостаток в его время опытных
в духовной жизни наставников, старец Паисий принял
на себя огромный труд перевода с греческого языка мно"
гих святоотеческих подвижнических книг и исправления
прежних ошибочных переводов. На строго монашеских
основаниях он создал монашеское братство, послужившее
образцом для русских обителей. Обладая особым даром
организации и объединения, он создал в своем монасты"
ре некоторый духовно-просветительский центр, как бы
опытную Академию духовной жизни, где воспиталось
немало будущих русских старцев, распространивших
учение и заветы старца Паисия по русским монастырям».
Паисий различает «три чина монашеского жительст"
ва: отшельническое уединенное пребывание, сожитель"
ство с двумя или тремя единомысленными братьями
и общежитие». Это последнее требует от братьев полного
послушания старцу, под чьим руководством они прово"
дят свою жизнь. «Общежитие начинается от совместного
сожительства не менее, по примеру Спасителя и Его
Апостолов, двенадцати братьев и может возрастать
до многочисленного собрания, состоящего из людей да"
же различного племени,
и заключается в том,
чтобы вся собравшаяся
во имя Христово братия
имела одну душу, одну
мысль, одно желание
работать вместе Христу
через исполнение Его
Божественных запове"
дей и друг друга тяготы
носить, повинуясь друг
другу в страхе Божием,
имея во главе своего об"
щежития отца и настав"
ника, настоятеля оби"
тели». «Общежительное
житие» требует большо"
го терпения, ибо «в об"
щежитии нужно пови"
новаться не только отцу
Прп. Паисий Великий.
Икона. XVIII в. Новгород.
Паисий Величковский.
Икона. XX в.

457ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ
своему, но и всей братии до последнего человека и терпеть
от них досады, укоризны, поругания и разного рода иску"
шения, быть прахом и пеплом под ногами всех и, подобно
рабу купленному, всем служить со смиренномудрием
и Страхом Божиим, без ропота терпеть крайнюю нужду,
свойственную общежитию, и скудость в пище и в одежде».
В общежитии инок учится «святому послушанию, яв"
ляющемуся корнем истинной монашеской жизни», путем,
ведущим к искреннему смирению и освобождению
от страстей. «Общее жительство и святое в нем послуша"
ние установил на земле для людей Сам Христос Спаси"
тель... Сын Божий, по крайнему Своему человеколюбию
и милосердию, в Себе Самом возобновил и восстановил
эту добродетель, будучи послушен Своему Небесному
Отцу даже до смерти, смерти же крестныя (Фил. 2, 8)...
Своим послушанием Он исцелил наше непослушание...
Никакой другой образ жизни помимо общежития с бла"
женным послушанием не приносит человеку такого преус"
пеяния, не избавляет его так скоро от всех душевных и те"
лесных страстей благодаря смирению, которое рождается
от блаженного послушания и приводит человека в его пер"
вобытное чистое состояние... Общежительное пребывание
соединяет их столь великою взаимною любовью, что все
они становятся единым телом и членами друг друга, имея
одну общую главу Христа... Во имя этой святой, истинной
и единомысленной любви они повинуются во всем своему
духовному отцу, исповедуя ему все тайны своего сердца,
принимая его слова и заповеди как бы из уст Самого Бога,
свою волю и свое рассуждение, противные разуму отца
своего, как нечистую одежду презирая... Послушание есть
самая короткая лестница к небу, имеющая только одну сту"
пень — отсечение своей воли... А кто отпадает от послуша"
ния, отпадает от Бога и от небес...»
Вышесказанные мысли не были пустыми словами:
о. Паисий провел их в жизнь и на них обосновал свою де"
ятельность. В этом-то и заключалась притягательная сила
его подвига. Старец не удовлетворялся одними лишь рас"
суждениями о монашеской жизни, он устроил около себя
деятельное монашеское общежитие, воодушевленное
и проникнутое одним стремлением и одним общим трудом.
Отец Паисий, как никто другой, сознавал важность
своего дела и огромную ответственность перед Богом
за вверившиеся ему души. Он возлагал свои упования ис"
ключительно на Господа Бога, на Матерь Божию и на мо"
литвы братии.
Однако непрерывное расширение обители и различ"
ные неприятности внешнего порядка принудили о. Паи"
сия подумать об уходе со Святой Горы. После долгих раз"
мышлений и молитв он решил переселить свою общину
в Молдовлахию. В 1763, после 17-летнего пребывания
на Святой Горе, о. Паисий с братиею, в количестве 64 мо"
нахов, покинул Афон и нашел пристанище в Буковине,
близ Драгомирны, в монастыре Святого Духа, предостав"
ленном в его распоряжение митрополитом Молдавским.
На новом месте жизнь была быстро налажена как обще"
житие по правилу свв. Василия Великого и Феодора Студи
та. Основанием духовной жизни являлись богослужения,
совершаемые строго по чину Святой Афонской Горы.
С особым вниманием следил о. Паисий за келейной жиз"
нью братьев. «Каждый вечер они должны были исповедо"
ваться перед своим духовником, рассказывая все помыс"
лы; если между братьями случалось недоразумение, то не"
пременно в тот же день должно было последовать и при"
мирение по слову Писания: «солнце да не зайдет в гневе
вашем» (Еф. 4, 26). А если бы кто-нибудь из братии до та"
кой степени ожесточился, что не захотел бы и мириться,
такого старец отлучал, запрещая ему даже и на порог цер"
ковный становиться и молитву «Отче наш» читать, пока
не смирится». В келье надо было предаваться умеренному
чтению Священного Писания, пению псалмов и умной
молитве. Особенно советовал старец творить умную мо"
литву. С первых же дней пребывания в Буковине о. Паи"
сий ввел обычай, имевший большое и благодатное дейст"
вие. «Когда наступало зимнее время и все братья собира"
лись от внешних послушаний в монастырь, тогда старец
начинал вести с братией беседы, и это продолжалось
от начала Рождественского поста до Лазаревой субботы.
Каждый день, за исключением воскресных и празднич"
ных дней, братия собиралась вечером в трапезу, зажига"
лись свечи, приходил старец и начинал читать какой-ни"
будь труд святых Отцов». Затем объяснялось прочитан"
ное, и все оканчивалось кратким поучением.
Еще на Афоне, изучая святоотеческие писания, о. Па"
исий заметил, что славянские переводы часто ошибочны
и мало понятны. Он стал тогда собирать старинные сла"
вянские рукописи и по ним исправлять более новые.
Но работа эта не была удовлетворительной. Незадолго
до отъезда в Молдовлахию, ему удалось достать интересу"
ющие его книги на древнегреческом языке, а устроив"
шись в Драгомирне, он начал проверять и исправлять
по ним славянские переводы. Все свое свободное время
употреблял он на это занятие. В этот же период написал
он свой главный труд об «умной молитве», молитве «умом
в сердце совершаемой» для сохранения в нем постоянной
памяти о Господе нашем Иисусе Христе. Память эта очи"
щает и освящает мысли и чувства молящегося и направ"
ляет все его действия к исполнению заповедей Божьих.
Краткой молитве «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя грешного!», сказанной из глубины сердца,
о. Паисий придавал очень большое значение в деле спа
сения души. Еще на Афоне советовал он своим ученикам
непрестанно творить ее в сердце и пребывать внутренне
в единении с Христом. Главные свои мысли о. Паисий
Величковский высказал в длинном послании «к врагам
и хулителям молитвы Иисусовой». Он говорил: «Да будет
известно, что это божественное делание (творение умной
молитвы) было постоянным занятием древних богонос"
ных отцов наших и просияло, как солнце, во многих мес"
тах пустынных и в общежительных монастырях: Синай"
ской горе, в Египетском ските, в Нитрийской горе,
в Иерусалиме и окружающих его монастырях — словом,
на всем востоке, и в Царьграде, и на Святой Афонской
горе, и на островах морских, в последние же времена
и в Великой России».
В конце жизни Паисий Величковский с учениками
перевел «Добротолюбие» — 5-томную антологию право"
славных аскетических текстов, составленную и изданную
в 1782 на греческом языке Никодимом Святогорцем.
На славянском языке этот труд впервые был опублико"
ван в Петербурге в 1793. Благодаря Паисию Величков"
скому и его ученикам в России в XIX в. было возрождено
старчество. Литературный труд Паисия Величковского

458 ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ
был продолжен в Оптиной пустыни. Т. о., Паисий Велич"
ковский стоит у самых истоков обновления православно"
го монашества в XIX в. Он перевел сочинения Исаака
Сирина, Антония Великого, Исайи Отшельника, Петра
Дамаскина, Феодора Студита, Марка Постника, Никиты
Стифата, Феодора Эдесского, Каллиста и Игнатия и др.
Им были исправлены и приготовлены для переписки
книги Иоанна Лествичника, Григория Синаита, Нила Си"
найского, Исихия Иерусалимского, блж. Диадоха, Мака"
рия Египетского, Филофея Синайского, аввы Фалассия,
Иоанна Кассиана, Симеона Нового Богослова и др.
Большая часть «Добротолюбия» посвящена настав"
лениям об очищении души от страстей, средствах и спо"
собах этому и в особенности о молитве Иисусовой.
«Добротолюбие» в 1-й пол. XIX в., вместе с Ветхим и Но"
вым Заветами и «Четьи-Минеями» свт. Димитрия Рос
товского, были любимым духовным чтением русских
монахов и благочестивых мирян.
В «Добротолюбии» умная молитва определялась как
горячее обращение к Имени Христову, умом в сердце со"
вершаемое. Раскрываем смысл этого определения: «Оно
прежде всего утверждает, что главная основа молитвы —
Имя Иисуса Христа». Старец Паисий объясняет это так:
«всегдашнее делание этой молитвы, чтобы ею всегда сбе"
регать в душе и в сердце Всесладчайшего Иисуса и непре"
станно поминать в себе Его вседражайшее Имя, неизре"
ченно воспламеняясь ею любить Его». Это определение,
как мы видим, устанавливает тесную связь между Име"
нем и Личностью Иисуса Христа. Призывать Его Имя —
это значит носить Его в себе. Сила Имени — сила Само"
го Христа. Огонь Его благодати, открываясь в Имени
Спасителя, зажигает сердце неизреченной Божественной
любовью. Здесь нет и тени номинализма: Имя Иисусо"
во — не пустой звук: это — символ, орудие истинного об"
щения с называемым предметом. Оно открывает Господа
и содержит Его, как содержится Он в освященной иконе
или в др. священном предмете.
Вот почему творение молитвы Иисусовой является
не только средством, но и конечной целью духовной
жизни. Средством, потому что слова помогают остановить
внимание в одном месте и на одном предмете; конечной
целью, ибо Всевышнее присутствие Божие, открываясь
и передаваясь через Имя Иисуса Христа, достигает своей
цели и настолько захватывает все наше существо, гл. обр.
сердце, что даже биение его становится молитвой и про"
славлением Господа. Пока молитва повторяется механи"
чески и под контролем разума, цель эта не может быть
достигнута. Необходимо, чтобы ум как бы углубился
в молитву и чтобы молитва овладела им, дабы небесный
свет проник до самой глубины человеческого существа
и осветил его. Таков смысл слов старца, когда он учил
своих учеников «сходить от разума в сердце». Речь идет
не только об умственном усилии для восприятия смысла
слов молитвы, сопровождающемся некоторой взволно"
ванностью чувств. Имя Иисусово, поминаемое в молит"
ве, действительно приносит с собой присутствие Божие.
От молящегося требуется усилие для того, чтобы открыть
себя к восприятию этого «действительного присутствия»,
чтобы проникло оно до самой глубины разума и озарило
его. О. Паисий различает 2 ступени умной молитвы.
В первой преобладает ощущение личного болезненного
усилия: это — «для новоначальных молитва, соответству"
ющая деланию»; молитва «деятельная» ведет молящегося
сквозь пустыню, где вера, как звезда путеводная, освеща"
ет один лишь образ, на который возлагает упование ра"
зум: Сладчайшее Имя Иисусово.
Вторая ступень — «молитва благодатная», преобража"
ющая, действующая непроизвольно, под особым влия"
нием благодати и граничащая с «вSидением». «Благодать
Божия, взяв очищенный ею ум, как младенца, за руку
возводит его» на духовные вершины. Это — «зрительная
или чистая молитва». Никто не может достигнуть этого
состояния без помощи Божией. Каждый, кто хоть не"
много знаком с восточной духовностью, без труда найдет
в этом определении исихастическое влияние; вопрос
в том, является ли оно преобладающим, был ли о. Паи"
сий прямым последователем отшельников XIV в. или же
своим выступлением на защиту молитвы Иисусовой он
может быть приравнен к Григорию Паламе в его споре
с калабрийским монахом.
Существует связь между взглядами исихастов и Паи"
сия Величковского. Вместе с тем, манера его объяснений
и даваемые им советы по поводу творения «умной молит"
вы», в сравнении с известным исихастическим толкова"
нием «О молитве и духовном внимании», отличаются не"
обычайной сдержанностью. Указывая своим ученикам
путь внутреннего подвига единения с Богом, который
можно назвать путем духовно-аскетическим, старец все
время настаивает на др. пути, привычном для русского
благочестия, пути деятельного милосердия к ближним.
Когда в 1768 началась война России с Турцией, о. Паисий
широко раскрыл двери своего монастыря для нуждаю"
щихся и беженцев. Обитель была настолько переполне"
на, что монахи ютились по 4—5 чел. в одной келье. Тра"
пеза была предоставлена женщинам и детям, а келарь,
повар и пекарь получили приказ от старца давать пищу
«всем приходящим и требующим».
Духовность Паисия Величковского близка к исихас"
там в вопросах молитвы, находясь особенно под непо"
средственным влиянием Нила Сорского. Тот же дух, то
же своеобразие в применении духовных опытов Востока
к русскому исконному благочестию. О. Паисию был зна"
ком устав монастырский св. Нила Сорского, находив"
шийся среди книг его библиотеки. Он распространял его
среди своих учеников. Имеются рукописи с пометкой,
что они были переписаны под руководством старца. На"
конец, в своем очерке об умной молитве о. Паисий в под"
тверждение своим словам приводит выдержки из тех же
духовных писателей, что и св. Нил во 2-й главе устава,
обсуждая тот же предмет. Оба опираются на свв. Иоанна
Лествичника, Симеона Нового Богослова, Григория Си"
наита и пр. Больше того, Величковский приводит те же
выдержки, что встречаем у св. Нила. И когда говорит он
о трудности в его время найти хороших руководителей
для обучения молитве и о необходимости прибегать
в этом к святоотеческим трудам, то приводит подлинные
слова великого русского старца. Если он не принял для
монастырей «среднего образа» жизни, жития в скиту, со"
ветуемого св. Нилом, то лишь потому, что на опыте это
оказалось невозможным в широком распространении
в России, и потому, что внешние условия, в которых жил
о. Величковский, не позволяли этого.

459ПАИСИЙ УГЛИЧСКИЙ
О. Паисий любил подчеркивать свое русское проис"
хождение: «Родимец Полтавский», — говаривал он и так
подписывался на письмах. Современный восстанови"
тель монашеской и духовной жизни в России был более
русским, чем его считали. Корни его укреплены
не столько на Афонских скалах, сколько в русском чер"
ноземе, и исходят от традиции XV в., столь богатого свя"
тостью. Последствием русско-турецкой войны для
о. Паисия было вынужденное переселение его монастыря
из Драгомирны в Секуль, по др. сторону новой австрий"
ской границы. Жизнь в обители ничуть не изменилась.
Однако из-за тесноты и большого количества монахов
(300 чел.) в Секуле было больше шума и оживления. Там
пришла о. Паисию мысль устроить школу для обучения
молодых иноков греческому языку и подготовления хо"
роших переводчиков святоотеческой литературы.
Но провести это в жизнь не удалось, ибо, по приказу
митрополита, о. Паисий должен был переехать в сосед"
ний большой монастырь — Нямецкий, который имел
степень лавры, оставаясь одновременно настоятелем
и Секуля. Здесь начинается последний период жизни
старца, самый трудный, но и самый плодотворный. Пе"
риод этот длился 15 лет, до смерти старца в 1794. За это
время численность братии в его обителях непрестанно
увеличивалась: в одной Нямецкой лавре насчитывалось
700 монахов, а в Секуле 300. Книжные занятия были по"
ставлены в широком масштабе, т. к. отовсюду, особенно
из России, приходили запросы на святоотеческую лите"
ратуру. Целая школа переводчиков, переписчиков
и справщиков неустанно трудилась над исправлением
и переводами трудов греческих и латинских Отцов Цер"
кви. Так, мало-помалу Нямецкая лавра сделалась «цент"
ром и светочем православного монашества и школой ас"
кетической жизни и духовного просвещения». Старец
и сам предавался этому труду, не щадя своих сил. Боль"
ной настолько, что его правый бок был весь покрыт ра"
нами, он работал сидя, согнувшись на кровати, обложив
себя книгами у рукописями. Забывая свои раны, старец
писал иногда всю ночь, не давая даже ответа спрашива"
ющим его, чтобы не отвлекаться от любимого занятия.
Слух об о. Паисии и его лавре распространился да"
леко среди монастырей и русского общества. Со всех
сторон съезжались в Нямец богомольцы. Милосердие
старца не имело границ: казалось, что его притягивали
людские нужды, так поспешал он к ним на помощь.
В самом монастыре он устроил лечебницу для болящих
и приют для нищих. Он принимал всех: престарелых,
слепых, увечных, всех имевших нужду в заботах и отды"
хе. Даже турки уважали старца и всячески старались от"
благодарить его.
Переписка отца Паисия росла вместе с его извест"
ностью. Он обменивался письмами со многими русски"
ми монастырями, с митрополитом Новгородским и Ла"
дожским Гавриилом, реформатором русских монасты"
рей и другом св. Тихона Задонского. Митр. Гавриил со"
действовал переводу и изданию «Добротолюбия».
Не раз старец Паисий должен был разбирать тонкие во"
просы, касающиеся староверов. Его ученики сделались
впоследствии старцами и настоятелями во многих рус"
ских монастырях, насадителями православного мона"
шества по уставу Паисиева братства.
Соч.: Об умной или внутренней молитве. М., 1902; Крины
сельные, или Цветы прекрасные, собранные вкратце от Божест"
венного Писания. О заповедях Божьих и о святых добродетелях.
Одесса, 1910.
Лит.: Житие и писания молдавского старца Паисия Велич"
ковского. М., 1847; Никодим (Кононов), архим. Старцы отец Паи"
сий Величковский и отец Макарий Оптинский и их литератур"
но-аскетическая деятельность. М., 1909; Четвериков С., прот.
Молдавский старец Паисий Величковский. Его жизнь, учение
и влияние на православное монашество. Париж, 1988.
Иеромонах Иоанн (Кологривов)
ПАИСИЙ ГАЛИЧСКИЙ, архимандрит (ск. 23.05.1460),
игумен Успенского Николаевского монастыря (близ
г. Галича), иначе называемого Паисиевым монастырем.
Это говорит о том, что преподобный много потрудился
как для хозяйственного ее благоустройства, так и для ос"
нования в ней правил монашеской жизни. Св. Паисий,
достигнув глубокой старости, готовился к переходу
в вечность молитвой. До революции его мощи почивали
под спудом в соборном Успенском храме, где находится
чудотворная Овиновская икона Божией Матери.
Память прп. Паисию отмечается 23 мая/5 июня.
ПАИСИЙ УГЛИЧСКИЙ (в миру Павел Гавренев), препо"
добный (ск. 6.06.1504). Был родным племянником прп.
Макария Калязинского, сыном сестры его Ксении. Отец
его был боярином Угличского кн. Андрея Васильевича.
После смерти родителей, в совсем еще молодые годы,
Павел Гавренев поступил в обитель своего дяди, прп. Ма"
кария, который постриг его с наречением имени Паисий
и взял под свое личное руководство.
В обители прп. Паисий занимался переписыванием
духовных книг. До нашего времени сохранилось перепи"
санное им творение свт. Григория Богослова. Однажды
явился ему ангел и сказал: «Ты должен быть наставником
многих, ты выйдешь отсюда и будешь жить, где тебе ве"
лят: так надобно для славы Божией».
Через некоторое время после этого прп. Макарий
по просьбе кн. Андрея Васильевича послал прп. Паисия
в Углич для основания там общежительного монастыря.
Сначала прп. Паисий поселился в одинокой келье
в 3 верстах от города, и к нему уже стала собираться бра"
тия, но из-за разлива Волги пришлось перенести монас"
тырь в более безопасное место. Там был основан храм
во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а в 1489 оконча"
тельно благоустроен Николаевский монастырь.
Благотворителем монастыря был князь Угличский
Андрей, который глубоко чтил преподобного игумена. Глу"
бокое смирение отличало святого старца: во всех самых
трудных послушаниях монастырских он до глубокой ста"
рости был примером для братии. Раз, когда он копал землю,
мимо обители проезжал верхом один молодой боярин и,
увидев старца, над ним посмеялся. Внезапно лошадь сбро"
сила седока, и он потерял сознание. Преподобный привел
его в чувство и кротко сказал ему: «Не осуждай иноков!»
Большим горем для прп. Паисия было, когда вел.
кн. Иоанн III Васильевич, недовольный братом своим
Андреем, Угличским князем, заточил его и юных его
сыновей, Димитрия и Иоанна (см.: Иоанн Угличский).
Тщетно заступался за них прп. Паисий.
Преподобный предсказал разорение Углича и своей
обители и мученическую кончину ее братии, что
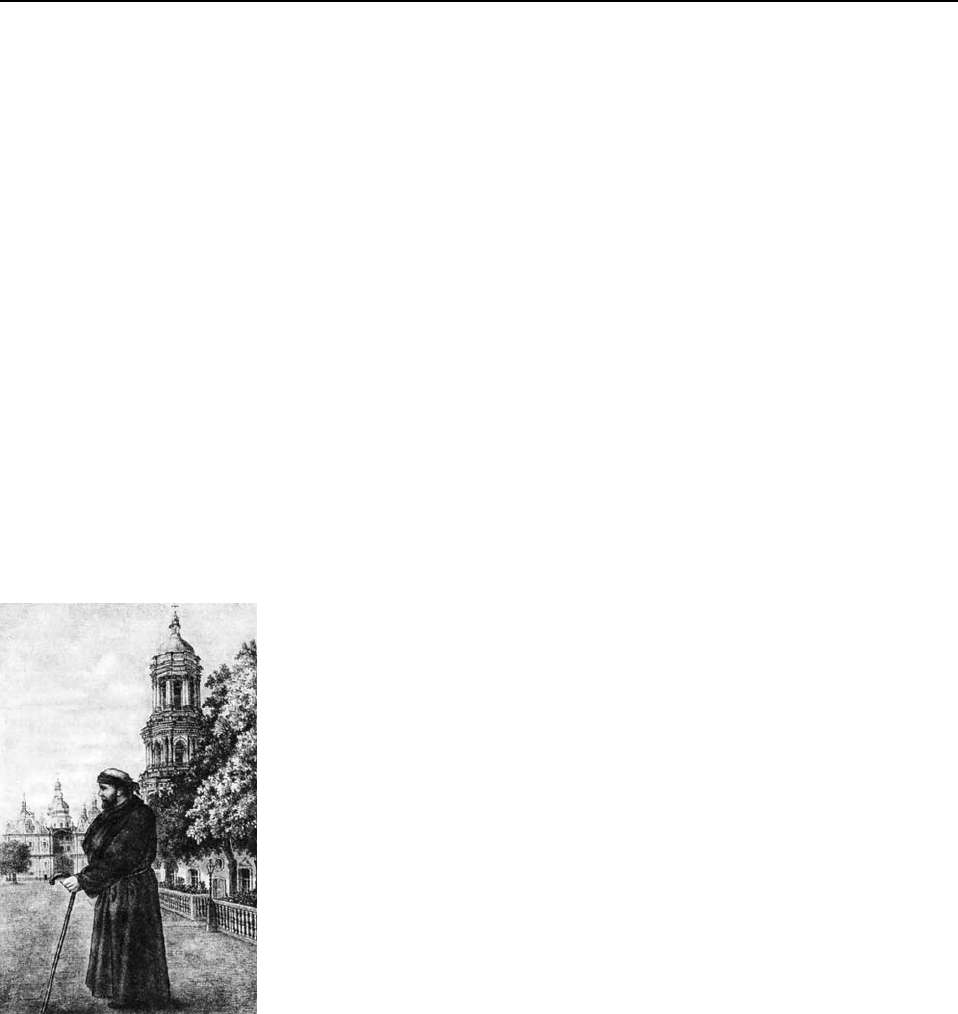
460 ПАИСИЙ ЯРОСЛАВОВ
и сбылось в Смутное время. Достигнув глубокой старос"
ти, прп. Паисий избрал вместо себя настоятеля из среды
своих учеников, а сам посвятил себя молитве. Но Божес"
твенную литургию совершал он в воскресенье и в празд"
ничные дни сам, пока ему служили еще ноги. Потом он
мог лишь сидя совершать свое молитвенное правило.
Но тогда ему было уже более 100 лет.
Скончался преподобный на 107-м году жизни.
Во время надгробного пения исцелялись недужные.
В 1616, когда от мощей его излилось особенно много чу"
дес, он был прославлен.
Память его празднуется 6/19 июня.
ПАИСИЙ ЯРОСЛАВОВ (XV в.), монах Спасо-Каменного
монастыря, с 1478 по 1482 игумен Троице-Сергиевой лав
ры, пользовался уважением своих современников. Генна
дий Новгородский спрашивал его мнение по вопросу
о седьмой тысяче лет и связанном с ее концом Пришест"
вии Христа. Царь Иоанн III предлагал Паисию стать
Московским митрополитом после Геронтия. На Соборе
1503 высказался против монастырских имений. Написал:
1) «Сказание о Спасокаменском монастыре», в основу
которого положены монастырские записки и предания,
содержащие, кроме данных по истории обители, сведе"
ния о борьбе язычества с христианством, и 2) «О втором
браке вел. князя Василия», где прекрасно освещена роль
русского духовенства и куда помещены 4 послания Все"
ленских патриархов и старцев Святой горы.
ПАИСИЙ (Яроцкий) (8.07.1821–17.04.1893), Христа ради
юродивый. Родился в мещанской семье Полтавской губ.
Учился в Киево-По"
дольском духовном учи"
лище. Отроком начал
посещать Киево-Печер
скую лавру, послушни"
ком которой через не"
которое время стал. По"
степенно уединение
и безмолвие становятся
главным и обычным
правилом его жизни.
Все свободное время он
находился в своей ке"
лье, подвергая себя час"
тым ночным молитвен"
ным подвигам.
К первоначальным
проявлениям юродства
блаженного можно от"
нести то, что в храме
он никогда не читал
по книге, а, положив ее
кверху буквами, пово"
рачивался на восток и читал на память. Или вдруг на"
чинал странно передвигаться в храме, как бы боком,
или принимался вытирать полами подрясника клирос"
ные перила.
За такое непонятное поведение он был переведен
в Голосеевскую пустынь на послушание записчика. Там
его своим временным чтецом сделал митр. Филарет, час"
то бывавший в сей пустыни. По его же воле 31 окт. 1854
блаженный был пострижен в рясофор с именем Паисий.
С монастырской братией он обращался невежливо,
как бы умышленно стараясь вынудить встречного на на"
силие и оскорбление. Поведение его в храме также было
странным: то являлся туда босиком, то в сапоге на одну
ногу, а то в чтении делал продолжительные паузы.
Вскоре лаврское начальство убедилось, что все, тво"
римое Паисием, есть предумышленное юродство, и по"
тому переместило его в Китаевскую пустынь на кухню.
Здесь Паисий еще более усугубил свое юродство.
Добровольно приняв на себя вид безумного, а неред"
ко и мнимо нравственно падшего человека, Паисий от"
рекся, т. о., от главного отличия человека от прочих зем"
ных существ, т. е. от разума. Будучи от природы разум"
ным, разрешая всякие вопросы быстро, метко и рассуди"
тельно, он прикрывал их притчами и тем вовлекал на"
блюдателя в неудоборазрешимое недоумение. Все по"
ступки и грехи, которые провидел в душе собеседника,
переводил он как бы на свое собственное «я».
Предсказывал блаженный и надвигающиеся горест"
ные события. За 3 дня до мученической кончины имп.
Александра II явился блаженный к любимому своему
племяннику и вызвал его. Тот вышел и видит — Паисий
нервный, расстроенный, ломает руки и дрожащим голо"
сом говорит:
— Несчастье, душечко! Несчастье!
— Какое? Где?
— Да там... В Петербурге... Ангела-хранителя убива"
ют... 40 мучеников будет...
Наступило 1 марта 1881, и страшная весть о необык"
новенном злодействе облетела мир: Ангела-хранителя
Земли Русской имп. Александра II убили.
Также предсказал блаженный и гибель генерал-губер"
натора А. Р. Дрентельна.
Известны случаи исцелений блаженным тяжелоболь"
ных. О. Паисий заранее знал день своей кончины.
ПАЛЕИ (греч. «палейос» — древний), историографические
сочинения, повествующие о всемирной истории, в кото"
рых изложение собственно исторических событий сопро"
вождается обширными толкованиями и комментариями
богословского и церковно-догматического характера.
Известно несколько редакций Палей. Т н. «Палея
Толковая» излагает священную историю и историю
Израиля и Иудеи до царствования Соломона с многочис"
ленными богословскими комментариями и антииудей"
скими полемическими толкованиями. В ее составе рас"
сказ о сотворении мира, включающий апокрифическое
предание о противнике Бога — Сатанаиле и описание
как реальных животных, так и фантастических су"
ществ — птицы алконоста, ехидны, феникса и т. д., рас"
сказ о сотворении человека со сведениями об устройст"
ве человеческого организма, история Адама и Евы,
Авеля и Каина; затем следует повествование о потопе
с описанием земель и стран, доставшихся в удел каждо"
му из сыновей Ноя. В рассказ о библейском праотце
Исааке введено обширное апокрифическое сочинение
«Заветы двенадцати патриархов». После пересказа биб"
лейских книг Иисуса Навина, Судей и Руфь излагается
история царствования Саула, Давида и Соломона. В Па"
лее библейское повествование о сотворении мира и ис"
тории человеческого рода является материалом для бо"
гословских рассуждений: раскрывается символическое
Паисий (Яроцкий).
