Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2
Подождите немного. Документ загружается.

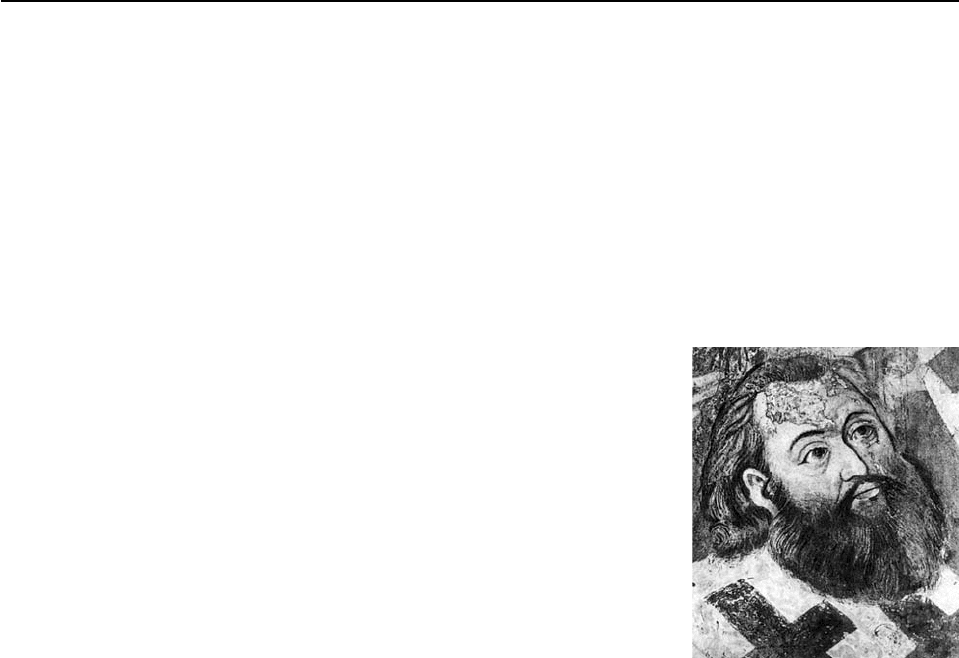
501ПЕТР (МОГИЛА)
ращать частию на восстановление разрушенных храмов
Божиих, от которых остались жалкие развалины, частию
на основание школ в Киеве и утверждение прав и воль"
ностей народа русского…» Поэтому огромное значение
митр. Петр придавал изданию церковных книг. При Пет"
ре (Могиле) Киево-Печерская типография стала самой
главной в ряду западнорусских типографий как по коли"
честву, так и по достоинству ее изданий. Им был исправ"
лен и издан в 1629 Служебник, в котором впервые было
дано изъяснение литургии для руководства священни"
кам, чего в прежних Служебниках не было. Псалтирь
и Триодь Постная были изданы дважды. При последнем
издании Триодь была сличена с греческим текстом «тща"
нием» архим. Захарии (Копыстенского) и в ней помеще"
ны синаксари, переведенные с греческого Тарасием Ле"
воничем Земкою «на общую российскую беседу», т. е.
на простой общенародный язык. Два раза были изданы
Акафисты. В 1629 был издан Номоканон с предисловием
Петра (Могилы). Триодь Цветная и Служебник изданы
даже его «благословением и исправлением», или «тщани"
ем», т. е. были предварительно им самим исправлены.
При нем был составлен Печерский Патерик и введен
обычай совершения пассий. В 1637 по благословению
митр. Петра (Могилы) в Киевской лавре напечатано бы"
ло «Евангелие учительное». К 1640 митр. Петром был
подготовлен Катехизис и рассмотрен на Соборе в Киеве.
Затем Катехизис был послан на Ясский Собор на рас"
смотрение всех восточных патриархов. Под именем
митр. Петра (Могилы) Катехизис стал известным как
на Востоке, так и в России. Одобрив Катехизис, они
утвердили его своими подписями 11 мая 1643. Желание
митр. Петра исполнилось. Оставалось только его напеча"
тать. Из Константинополя митрополит так и не дождал"
ся возвращения своей книги. Но не теряя надежды издать
Катехизис в полном виде, когда он будет получен из Кон"
стантинополя, митрополит решился немедленно напеча"
тать его в сокращенном виде. Книга была издана в Кие"
во-Печерской типографии сперва на польском языке,
доступном и иноверцам, для того, как сказано в преди"
словии, чтобы «зажать рот бесстыдным неприятелям вос"
точного православия, которые осмеливаются взводить
на него разные ереси», а потом в 1645 и на русском язы"
ке, чтобы служить руководством для православных. Как
велика была нужда даже в таком кратком Катехизисе,
видно из того, что в 1646 он дважды перепечатан во Льво"
ве епископом Львовским Арсением (Желиборским, ск.
в 1662), а в 1649 с некоторыми изменениями напечатан
и в Москве по благословению патр. Иосифа (ск. в 1652).
К к. 1646 митр. Петр издал в Киево-Печерской типогра"
фии книгу, которая имела огромное значение для Церк"
ви, — «Евхологион, альбо Молитвослов, или Требник».
Митр. Петр стремился дать православному духовен"
ству надежное руководство к совершению таинств и др.
церковных служб, в котором не было бы погрешностей
и содержались бы чинопоследования на все случаи цер"
ковной, общественной и частной жизни. Кроме самого
текста богослужения, митр. Петр поместил в своем Треб"
нике также и наставления священникам, как они должны
готовиться и приступать к богослужению, как понимать
смысл того или иного чинопоследования. Он указывал за"
труднительные случаи и давал им объяснения. Значение
Требника, составленного митр. Петром (Могилою), до сих
пор велико для Церкви; и ныне к нему обращаются как
к авторитетному руководству при разрешении спорных
вопросов православной богослужебной практики.
Печатание церковных книг продолжалось при Петре
(Могиле) во всех западнорусских типографиях. Во Львове
действовали 3 типографии. Во всех этих львовских типо"
графиях было напечатано тогда до 25 церковных книг.
Иноки Виленского Свято-Духова монастыря трудились сра"
зу в 2 своих типографиях — в Вильне и Евье и напечатали
до 15 книг. В Киеве была теперь только одна — Киево-Пе"
черская типография, и в ней напечатано до 12 книг. Петр
(Могила) обращал особое внимание на печатание церков"
ных книг. В лаврской типографии все книги печатались
только его «благословением и повелением»; при некоторых
он помещал от своего имени предисловие к читателям.
Особенного труда
потребовало обличение
сочинения отступника
от Православия Касси"
ана Саковича, который
в 1642 издал на польс"
ком языке книгу под
заглавием: «Перспек"
тива, или Изображение
заблуждений, ересей
и суеверий Греко-Рус"
ской дезунитской Цер"
кви, находящихся как
в догматах веры, так
и в совершении та"
инств и в других обря"
дах и церемониях».
Книга Саковича, про"
никнутая явной непри"
язнью к той Церкви,
к которой он некогда
принадлежал, наполненная ложью, клеветами и насмеш"
ками против нее и представлявшая состояние ее в самом
мрачном, безотрадном виде, не могла не произвести тягос"
тного впечатления на православных, тем более на их архи"
пастыря Петра (Могилу), и он не остался безмолвным.
В 1644 он выпустил книгу на польском языке под заглави"
ем: «Лифос, или Камень, брошенный с пращи истины свя"
той Православной Русской Церкви смиренным отцом
Евсевием Пименом (по-русски: православным пастырем)
на сокрушение лживотемной Перспективы… Кассиана Са"
ковича». Это была полная апологетика Православной За"
паднорусской Церкви против тогдашних нападений на нее
униатов и латинян, а отчасти и ее литургика с объяснением
ее богослужения, таинств и обрядов, ее постов, праздни"
ков, устройства храмов и прочее. В Москве по указу царя
Алексея Михайловича книга эта под названием «Камень»
в славянском переводе списана была еще в 1652.
Митр. Петр вел строго аскетическую жизнь.
Скончался он скоропостижно, прожив всего 50 лет.
За 9 дней до своей кончины, чувствуя себя больным, он
написал духовное завещание. Своей любимой Киевской
коллегии он завещал библиотеку, недвижимую собствен"
ность, приобретенную для нее, и значительную сумму де"
нег, а наставников ее обязывал, чтобы они жили по его
Петр (Могила), митрополит
Киевский и Галицкий. Роспись
церковь Спаса-Преображения
на Берестове. 1638 г.
Киев. Фрагмент.
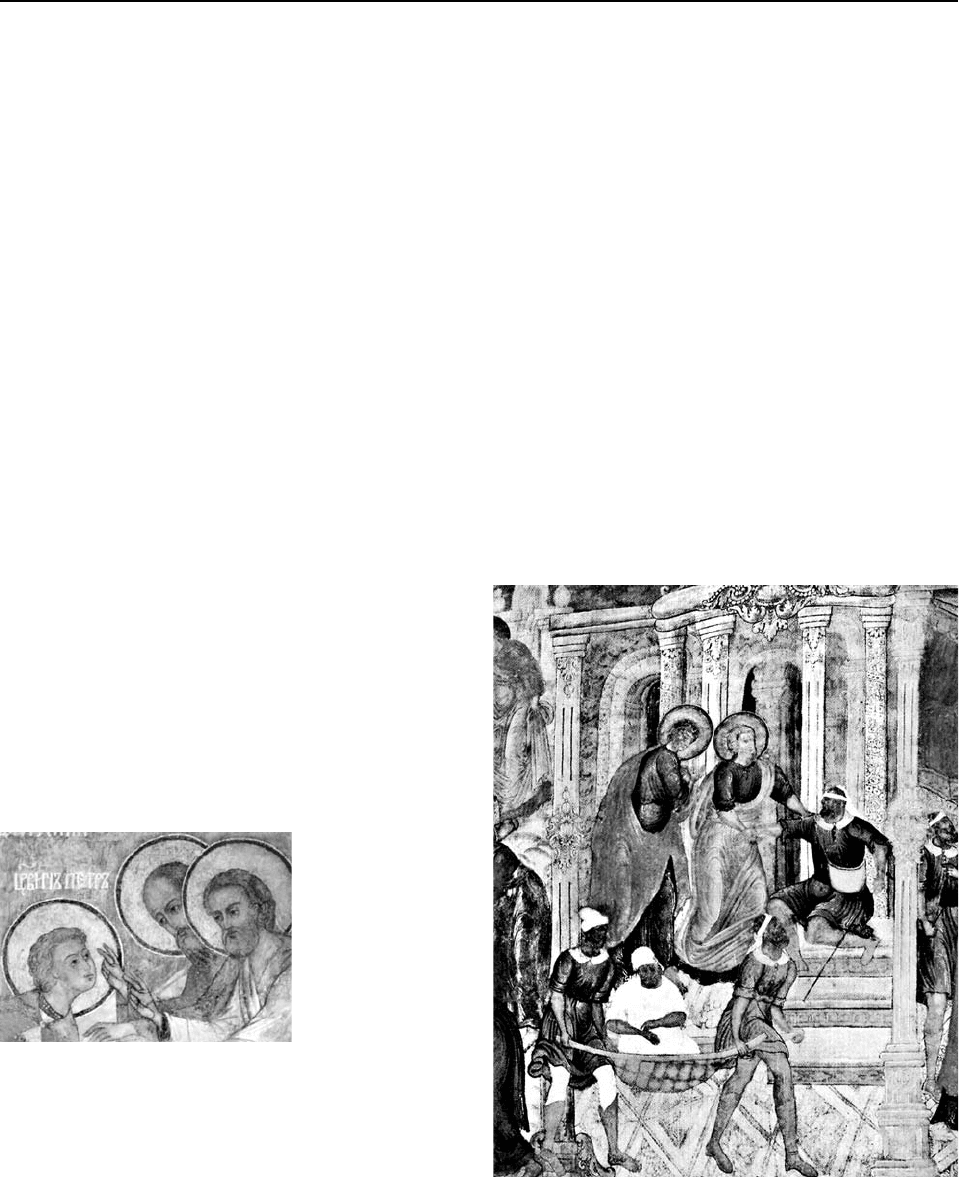
502 ПЕТР ОРДЫНСКИЙ
правилам и каждый четверг совершали о нем поминове"
ние. Много митр. Петр завещал лавре и др. монастырям
и церквам, воздвигнутым им из развалин. Он вполне мог
сказать: «Все, что имел я, посвятил вместе с собой на хва"
лу и служение Богу».
«Имя Петра Могилы — одно из лучших украшений
нашей церковной истории. Он, несомненно, превосхо"
дил всех современных ему иерархов не только Малорус"
ской, но и Великорусской Церкви и даже всей Церкви
Восточной, превосходил своим просвещением, еще бо"
лее своей любовью к просвещению и своим подвигом
на пользу просвещения и Церкви», — писал выдающий"
ся историк Русской Церкви митр. Макарий (Булгаков).
Но существует и совершенно противоположное мне"
ние о нем. Вот отзыв архиеп. Филарета (Гумилевского):
«Признаюсь искренно, что Могила мне очень не нравит"
ся по образу мыслей и некоторых дел, да и нет почти ни"
чего у него особенного, а все, что названо его именем,
принадлежит не ему. Потому мне очень не хотелось бы,
чтобы дано было ему почетное место между учителями
и просветителями Церкви. Папистический энтузиазм
или фантазия не дают права на такое звание».
Соч.: Триодь Постная. Киев, 1627; Агапита диакона главизны
поучительны. Киев, 1628; Акафисты. Киев, 1629; Служебник. Ки"
ев, 1629; Номоканон. Киев, 1629; Триодь Цветная. Киев, 1631;
Крест Христа Спасителя и каждого человека. Киев, 1631; Анфоло"
гия, сиреч молитвы. Киев, 1636; Евангелие учительное. Киев, 1637;
Лифос, или Камень, брошенный с пращи истины святой Право"
славной Русской Церкви смиренным отцом Евсевием Пименом
на сокрушение лживо-темной Перспективы… Кассиана Саковича.
Киев, 1644; М., 1652; Собрание короткой науки об артикулах веры
православных кафолических христиан. Киев, 1645; Слово на брак
Януша Радзивилла. Киев, 1645; Краткий катехизис. Киев, 1643;
Львов, 1646; М., 1649; Евхологион, альбо Молитвенник, или Треб"
ник. Киев, 1646; Духовное завещание // Памятники, изданные вре"
менною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учреж"
денною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губер"
наторе: в 4-х тт., 1845–59; Православное исповедание веры.
Амстердам, 1662; М., 1696.
Митр. Мануил (Лемешевский)
ПЕТР ОРДЫНСКИЙ, Ростовский, царевич (ск. 1290),
племянник хана Батыя, обращен в Православие архиепис"
копом Ростовским
Кириллом. После
кончины свт. Ки"
рилла, в 1261, ново"
обращенному царе"
вичу Петру явились
свв. апп. Петр и Па
вел и вручили ему
серебро и золото
для основания мо"
настыря. С благо"
словения нового
Ростовского еп.
Игнатия, новый
монастырь — Петровский «на поле» во имя Свв. Апосто"
лов был создан на берегу оз. Неро, а царевич Петр женил"
ся на знатной татарской девице, проживавшей в Ростове
со своими родителями, и имел многочисленное потомст"
во. Он дожил до глубокой старости и принял перед кон"
чиной постриг в Петровском «на поле» монастыре.
Память царевичу Петру отмечается 29 июня/12 июля
и 23 мая/5 июня.
ПЕТР-ПАВЕЛ РЯБИННИКИ (Именины рябины), народ"
ное название дня свв. Петра и Павла, епископов Никей"
ских (IX в.), 10/23 сент.
На Петра и Павла Рябинников день равнялся с ночью.
По народному поверью, в это время солнце не просто на зи"
му уходит, оно спать ложится и до весны глаза закрывает.
Олицетворением солнца в доме считались ягоды рябины, их
убирали на повети, заготавливали на зиму, развешивали
кистями. Считалось, что с деревьев не следует всю ягоду со"
бирать, а оставлять дроздам, снегирям и др. птицам для
прокорма. С рябиной был связан особый обряд. С молит"
вой и приговорами гроздья красной рябины вешались
не только на поветь, чердак или в сени, но и по-над дверями
и между оконными рамами. Крестьяне считали, что рябина
вместо солнца в окна глядела и отпугивала нечистую силу.
Из рябины приготавливали рябиновый квас. Он был
не только освежающим, но жаропонижающим и слаби"
тельным напитком, излечивал от простудных болезней.
В этот день крестьяне просили свв. Петра и Павла, чтобы
они помогли им перезимовать.
ПЕТР ПОЛУКОРМ (Петра Полукорма), народное название
трех дней в году, 21 дек./3 янв., 16/29 янв. и 1/14 февр.,
на которые в разных областях России крестьяне считали,
что половина корма, заготовленного на зиму, съедена.
21 дек./3 янв., на день св. Петра, митрополита Мос"
ковского и всея Руси чудотворца, хозяева проверяли свои
Явление Петра и Павла царевичу
Петру Ордынскому.
Фреска. XVII в.
Деяния апостола Петра. Настенная роспись.
XVII в. Кострома.
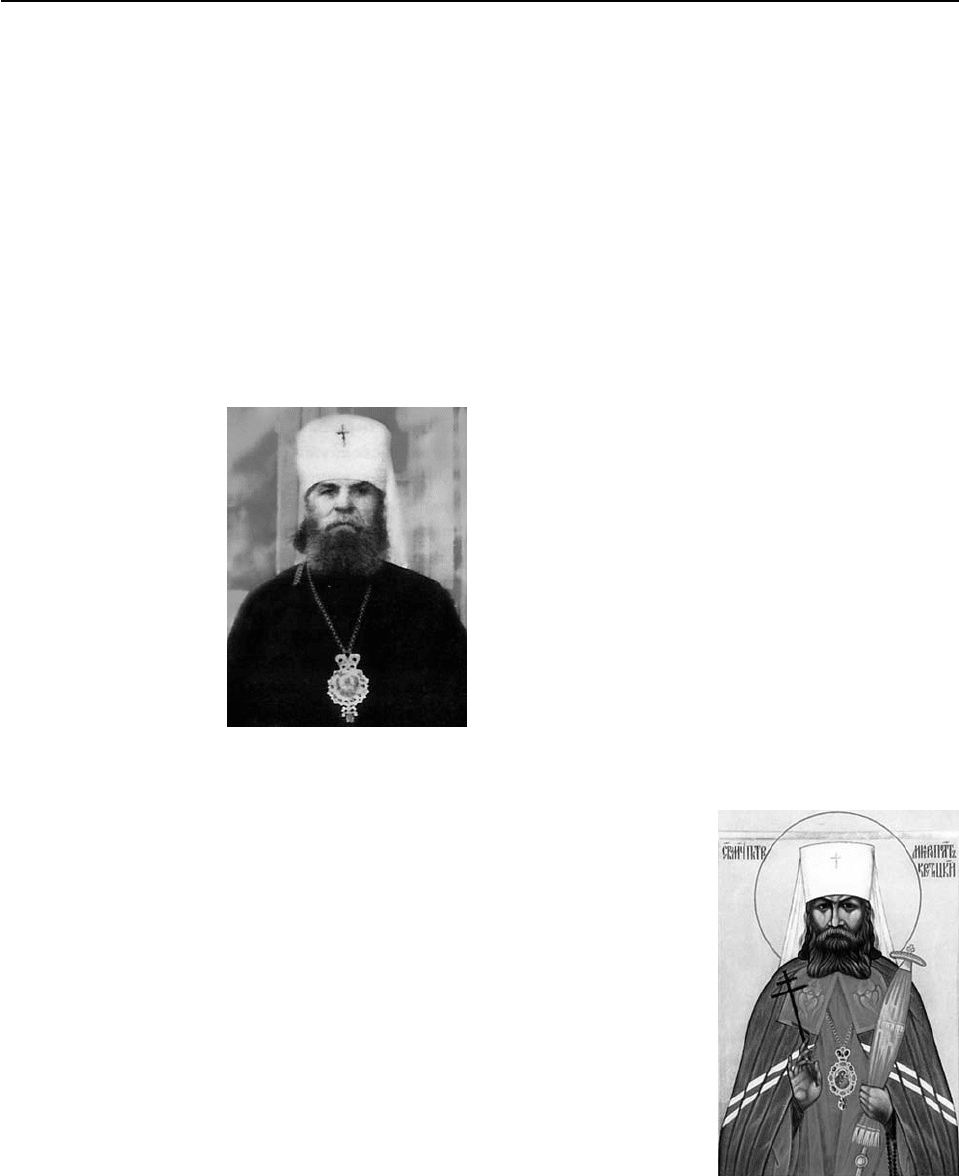
503ПЕТР (ПОЛЯНСКИЙ)
амбары и хранилища. Выходя из амбара, хозяин ломал
лучины и клал обломки крест-накрест поверх зерна, что"
бы охранить его от нечистой силы.
16/29 янв., в день поклонения веригам ап. Петра, как
и на предыдущего Петра Полукорма, хозяева проверяли
свои амбары, определялась половина времени содержа"
ния домашнего скота на зимнем корму.
В южных губерниях с этого же времени на реках на"
чинал ломаться лед, поэтому в народе говорили:
«На Петра-вериги трутся крыги», т. е. льдины.
Крестьяне считали, что родившемуся в этот день сле"
дует крепко за землю держаться. Не должен он «баклуши
бить — о хлебе у него постоянная забота».
1/14 февр., день прп. Петра Галатийского, крестьяне
также называли Петром Полукормом. День этот в неко"
торых местах назывался Трифон Мышегон или Трифон Пе
резимник.
ПЕТР (Полянский), священномученик, митрополит Кру"
тицкий (1862–27.09[10.10].1937). Родился в семье священ"
ника Воронежской губ.
Окончил Воронежскую ду"
ховную семинарию и Мос
ковскую духовную акаде
мию. Много лет служил
в Синодальном учебном
комитете, совершая реви"
зии духовных школ по всей
России. В 1917–18 прини"
мал участие в Поместном
Соборе Русской Церкви.
Во время начавшихся
гонений на Церковь,
в 1920 патр. Тихон предло"
жил ему принять постриг,
священство и стать его по"
мощником в делах церков"
ного управления. Расска"
зывая об этом предложе"
нии брату, свт. Петр сказал: «Я не могу отказаться. Если я
откажусь, то буду предателем Церкви, но, когда соглашусь,
я знаю, я подпишу сам себе смертный приговор».
Сразу после архиерейской хиротонии в 1920 в епис"
копа Подольского владыка Петр был сослан в Великий
Устюг, но после освобождения из-под ареста патр. Тихо"
на вернулся в Москву, став ближайшим помощником
Российского Первосвятителя. Вскоре он был возведен
в сан архиепископа (1923), затем стал митрополитом
Крутицким (1924) и был включен в состав Временного
Патриаршего Синода.
В последние месяцы жизни патр. Тихона митр. Петр
был его верным помощником во всех делах управления
Церковью. В н. 1925 Святейший назначил его кандида"
том в Местоблюстители Патриаршего Престола после
митрополита Казанского Кирилла и митрополита Ярос"
лавского Агафангела. После кончины патриарха обязан"
ности Патриаршего Местоблюстителя были возложены
на митр. Петра, поскольку митрополиты Кирилл и Ага"
фангел находились в ссылке. В этой должности владыка
Петр был утвержден и Архиерейским Собором 1925.
Предвидя свой скорый арест, владыка составил заве"
щание о своих заместителях и передал настоятелю Дани
лова монастыря деньги для пересылки ссыльным свя"
щеннослужителям. Агенты ГПУ предлагали ему пойти
на разные уступки, обещая какие-то блага для Церкви,
но владыка им отвечал: «Вы все лжете; ничего не дадите,
а только обещаете…».
В нояб. 1925 митр. Петр был арестован — для него на"
чалась пора мучительных допросов и нравственных истя"
заний. После заключения в Суздальском политизоляторе
владыку привезли на Лубянку, где ему предлагали отка"
заться от Первосвятительского служения в обмен на сво"
боду, но он ответил, что ни при каких обстоятельствах
не оставит своего служения.
В 1926 владыка был отправлен этапом в ссылку
на 3 года в Тобольскую обл., а затем на Крайний Север,
в тундру. Ссылка вскоре была продлена на 2 года.
В той же ссылке владыка вновь был арестован в 1930
и заключен в Екатеринбургскую тюрьму на 5 лет в оди"
ночную камеру. Затем он был переведен в Верхнеуральс"
кий политизолятор. Ему предложили отказаться от Мес"
тоблюстительства, взамен обещая свободу, но святитель
категорически отказался от этого предложения.
Ни продление срока ссылки, ни переводы во все бо"
лее отдаленные от центра места, ни ужесточение условий
заключения не смогли сломить волю святителя, хотя
и сокрушили его могучее здоровье. Все годы тяжелого
одиночного заключения он даже словом не проявил
ни к кому неприязни или нерасположения. В то время он
писал: «…как Предстоятель Церкви я не должен искать
своей линии. В противном случае получилось бы то, что
на языке церковном называется лукавством». На предло"
жение властей принять на себя роль осведомителя в Цер"
кви Патриарший Местоблюститель резко ответил: «По"
добного рода занятия несовместимы с моим званием
и к тому же несходны моей натуре». И хотя Первосвяти"
тель был лишен возможности управлять Церковью, он
оставался в глазах многих мучеников и исповедников,
возносивших его имя за богослужением, надежным ост"
ровком твердости и верности в годы отступлений и усту"
пок богоборческой власти.
Условия заключения святителя были очень тяжелы.
Владыка страдал от того,
что, чувствуя себя в отве"
те перед Богом за церков"
ную жизнь, он был ли"
шен всякой связи
с внешним миром,
не знал церковных но"
востей, не получал пи"
сем. Когда же до него до"
шли сведения о выходе
«Декларации» митр. Сер
гия (Страгородского), яв"
лявшегося его заместите"
лем, владыка был потря"
сен. Он был уверен
в митр. Сергии, в том, что
тот осознает себя лишь
«охранителем текущего
порядка», «без каких-ли"
бо учредительных прав»,
что святитель ему и ука"
Петр (Полянский),
митрополит Крутицкий.
Петр (Полянский),
митрополит Крутицкий.
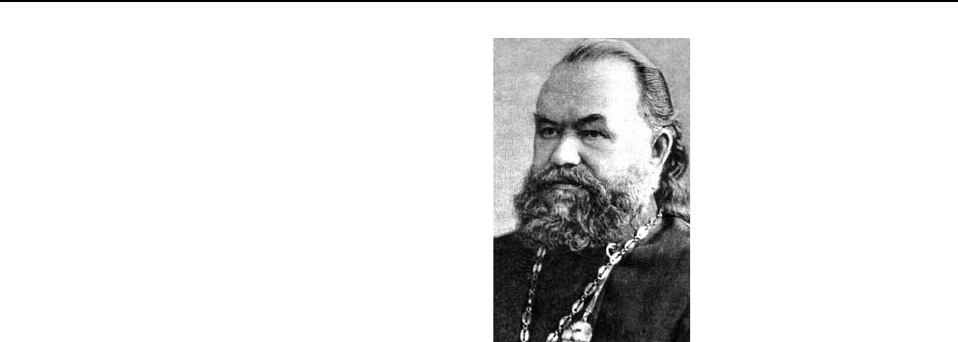
504 ПЕТР СКИПЕТРОВ
зал в письме 1929-го, где мягко укорил митр. Сергия
за превышение им своих полномочий. В том же письме
владыка просил митр. Сергия «исправить допущенную
ошибку, поставившую Церковь в унизительное положе"
ние, вызвавшее в Ней раздоры и разделения…»
В н. 1928 с владыкой имел возможность встретить"
ся и беседовать участник одной научной экспедиции
проф. Н. Ему владыка так сказал о своей оценке де"
ятельности митр. Сергия: «Для Первоиерарха подоб"
ное воззвание недопустимо. К тому же я не понимаю,
зачем собран Синод, как я вижу из подписей под Воз"
званием, из ненадежных лиц… В этом Воззвании на"
брасывается на Патриарха и на меня тень, будто бы мы
вели сношения с заграницей политические, между тем,
кроме церковных, никаких отношений не было. Я
не принадлежу к числу непримиримых, мною допуще"
но все, что можно допустить, и мне предлагалось в бо"
лее приличных выражениях подписать Воззвание, но я
не согласился, за это и выслан. Я доверял митр. Сер"
гию и вижу, что ошибся».
Митр. Петр по тайным каналам обращается к иерар"
хам Русской Церкви:
«1. Вы, епископы, должны сами сместить митрополи"
та Сергия.
2. Поминать митрополита Сергия за богослужением
не благословляю».
В 1930 святитель написал еще одно, последнее,
письмо к митр. Сергию, где выразил огорчение, что тот,
как лицо, ему подчиненное, не посвятил его в свои на"
мерения относительно легализации Церкви путем недо"
пустимых компромиссов: «Раз поступают письма
от других, то, несомненно, дошло бы и Ваше». Выражая
свое отрицательное отношение к компромиссу с комму"
нистами и к уступкам им, допущенным митр. Сергием,
владыка прямо требовал от последнего: «Если Вы
не в силах защищать Церковь, уйдите в сторону и усту"
пите место более сильному».
Т. о., святитель считал, что русские архиереи должны
сами наложить прещение на митр. Сергия за его антика"
нонические деяния. Возможно, для этого и было подго"
товлено в 1934 Послание священномученика архиеп. Се
рафима (Самойловича) о запрещении митр. Сергия в свя"
щеннослужении.
Как свидетельствуют некоторые источники, митр.
Сергий (Страгородский), ожидая освобождения закон"
ного Местоблюстителя, направил советскому правитель"
ству письмо о том, что в случае выхода из заключения
митр. Петра вся церковная политика уступок изменится
в прямо противоположную сторону. Власти отреагирова"
ли должным образом, и митр. Петр, дождавшись дня
освобождения — 23 июля 1936 — в Верхнеуральской
тюрьме, вместо свободы получил новый срок заключе"
ния еще на 3 года. К этому моменту ему было уже 74 го"
да, и власти решили объявить святителя умершим, о чем
и сообщили митр. Сергию, которому в декабре был усво"
ен титул Патриаршего Местоблюстителя — еще при жи"
вом митрополите Местоблюстителе Петре.
В сент. 1937 объявленный покойником при жизни
митр. Петр был расстрелян в Магнитогорской тюрьме.
В 1997 митр. Петр канонизирован Архиерейским Со"
бором Русской Церкви.
ПЕТР СКИПЕТРОВ, священ"
номученик, первомученик
Петроградский (4.06.1863–
19.01.1918), протоиерей. Ро"
дился в Вязниках в семье свя"
щенника. Окончил Петербург
скую духовную академию. С 1912
настоятель храма чудотворной
иконы «Всех скорбящих Ра"
дость». Убит вооруженными
бандитами-большевиками при
попытке остановить насилие
над верующими на территории
Александро-Невской лавры.
ПЕТР ТОМСКИЙ (Петр ПусF
тынник, в миру Петр ВасильеF
вич Мичурин) (ск. в 1820), пра"
ведный отрок. Из дворян. Уче"
ник старца Василиска Сибирского. Характер имел мяг"
кий, приветливый, со всеми был простодушен и друже"
любен. Целые дни проводил без пищи. Готовясь к при"
частию, не ел 5 дней. Его духовным оружием была Иису
сова молитва. Он прожил всего 20 лет. Старец Василиск
говорил о своем ученике: «Много странствий сотворили
мы с отцом Зосимою, а не нашли нигде подобного раба
Божия, такого жестоко-подвижного, смиренно-мудро"
го, каков был этот юноша Петр».
ПЕТР ЧАГРИНСКИЙ (Колпаков П. И.), праведный
(1856–1929). Был старостой церковной общины с. Чаг"
ры Самарской губ. Основой общины, члены которой на"
зывали себя «духовными наследниками прп. Серафима
Саровского», являлась безусловная трезвость, включая
трезвость ума, строгое воздержание и бесстрастие, а так"
же беспрекословное следование наставлениям своего
старца. Петр Чагринский канонизирован как местночти"
мый святой Самарской епархии в 1999.
ПЕТР ЧЕРЕВКОВСКИЙ, святой праведный (XVII в.).
Мощи его находятся в часовне, стоящей над местом его
погребения в с. Черевково Архангельской епархии. Он
был убит разбойничьей шайкой поляков в Смутное вре"
мя и вскоре после мученической кончины прославился
как чудотворец.
ПЕТР И СТЕФАН КАЗАНСКИЕ, святители (ск. в 1552).
В 1552 к протопопу Тимофею, привезшему в г. Свияжск
послание митрополита Московского, пришел татарин
и заявил, что он был чудесно исцелен, и дал обет крес"
титься. Протопоп наставил его в христианской вере, велев
ему быть верным Христу до смерти, и крестил с наречени"
ем ему имени Стефан. В знак своей верности новообра"
щенный вырвал клок своей бороды и сказал, что так даст
себя разорвать на части. За открытую и смелую проповедь
Христа он был единоплеменниками своими изрублен
в куски, а дом его сожжен. В тот же год был убит толпой
мусульман новокрещеный татарин Петр. На его могиле
был воздвигнут храм Воскресения Христова.
Память их празднуется 24 марта, в день гибели.
ПЕТР и ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИЕ, супруги, святые,
ярчайшие личности Святой Руси, своей жизнью отразив"
шие ее духовные ценности и идеалы. История жизни свв.
чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Пет"
ра и Февронии, много веков существовала в преданиях
Сщмч. Петр
Скипетров.
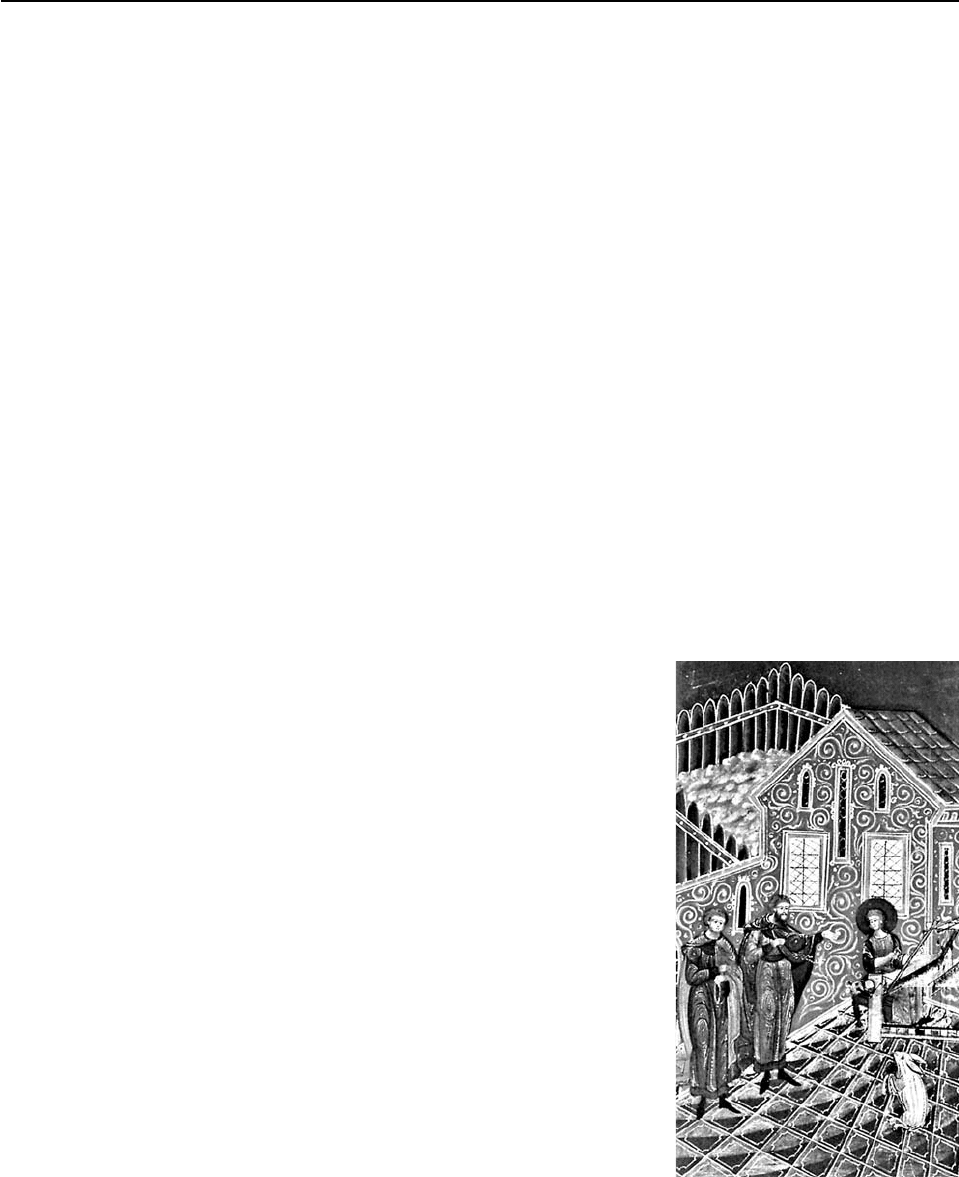
505ПЕТР И ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИЕ
Муромской земли, где они жили и где сохранялись их
честные мощи. Со временем подлинные события приоб"
рели сказочные черты, слившись в народной памяти
с легендами и притчами этого края. Сейчас исследовате"
ли спорят, о ком из исторических личностей написано
житие: одни склоняются к тому, что это были кн. Давид
и его жена Евфросиния, в иночестве Петр и Феврония,
скончавшиеся в 1228, другие видят в них супругов Петра
и Евфросинию, княживших в Муроме в XIV в.
Записал повествование о блгв. Петре и Февронии
в XVI в. свящ. Ермолай Прегрешный (в иночестве Еразм),
талантливый литератор, широко известный в эпоху
Иоанна Грозного. Сохранив в житии фольклорные черты,
он создал удивительно поэтичную повесть о мудрости
и любви — дарах Святого Духа чистым сердцем и смирен"
ным в Боге.
Прп. Петр был младшим братом княжившего в г. Му"
роме блгв. Павла. Однажды в семье Павла случилась бе"
да — по наваждению дьявола к его жене стал летать змей.
Горестная женщина, уступившая демонской силе, обо
всем поведала мужу. Князь наказал супруге выведать
у злодея тайну его смерти. Выяснилось, что погибель су"
постату «суждена от Петрова плеча и Агрикова меча».
Прознав об этом, кн. Петр тотчас решился убить насиль"
ника, положившись на помощь Божию. Вскоре на мо"
литве в храме открылось, где хранится Агриков меч, и,
выследив змея, Петр поразил его. Но перед смертью змей
обрызгал победителя ядовитой кровью, и тело князя по"
крылось струпьями и язвами.
Никто не мог исцелить Петра от тяжкой болезни.
Со смирением перенося мучения, князь во всем предал"
ся Богу. И Господь, промышляя о Своем рабе, направил
его в рязанскую землю. Один из юношей, посланных
на поиски лекаря, случайно зашел в дом, где застал за ра"
ботой одинокую девушку по имени Феврония, дочь дре"
волаза, имевшую дар прозорливости и исцелений. После
всех расспросов Феврония наказала слуге: «Приведи
князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и сми"
ренным в словах своих, то будет здоров!»
Князя, который сам ходить уже не мог, привезли к до"
му, и он послал спросить, кто хочет его вылечить. И обе"
щал тому, если вылечит, — большую награду. «Я хочу его
вылечить, — без обиняков ответила Феврония, — но на"
грады никакой от него не требую. Вот к нему слово мое:
если я не стану супругой ему, то не подобает мне лечить
его». Петр пообещал жениться, но в душе слукавил: гор"
дость княжеского рода мешала ему согласиться на подоб"
ный брак. Феврония зачерпнула хлебной закваски, дуну"
ла на нее и велела князю вымыться в бане и смазать все
струпы, кроме одного.
Благодатная девица имела премудрость Святых отцов
и назначила такое лечение не случайно. Как Господь
и Спаситель, исцеляя прокаженных, слепых и расслаб"
ленных, через телесные недуги врачевал душу, так и Фев"
рония, зная, что болезни попускаются Богом во испыта"
ние и за грехи, назначила лечение для плоти, подразуме"
вая духовный смысл. Баня, по Священному Писанию, об"
раз крещения и очищения грехов (Еф. 5, 26), закваске же
Сам Господь уподобил Царствие Небесное, которое на"
следуют души, убеленные баней крещения (Лк. 13, 21).
Поскольку Феврония прозрела лукавство и гордость
Петра, она велела ему оставить несмазанным один струп,
как свидетельство греха. Вскоре от этого струпа вся бо"
лезнь возобновилась, и князь вернулся к Февронии.
Во второй раз он сдержал свое слово. «И прибыли они
в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочести"
во, ни в чем не преступая Божии заповеди».
После смерти брата Петр стал самодержцем в городе.
Бояре уважали своего князя, но надменные боярские же"
ны невзлюбили Февронию, не желая иметь правительни"
цей над собой крестьянку, подучивали своих мужей недо"
брому. Всякие наветы пытались возводить на княгиню
бояре, а однажды взбунтовались и, потеряв стыд, предло"
жили Февронии, взяв, что ей угодно, уйти из города.
Княгиня ничего, кроме своего супруга, не желала. Обра"
довались бояре, потому что каждый втайне метил на кня"
жье место, и сказали обо всем своему князю. Блаженный
Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой,
предпочел добровольно отказаться от власти и богатства
и удалиться вместе с ней в изгнание.
Супруги поплыли по реке на двух судах. Некий муж"
чина, плывший со своей семьей вместе с Февронией, за"
смотрелся на княгиню. Святая жена сразу разгадала его
помысел и мягко укорила: «Почерпни воду с одной и дру"
гой стороны лодки, — попросила княгиня. — Одинакова
вода или одна слаще другой?» — «Одинакова», — отвечал
тот. «Так и естество женское одинаково, — молвила Фев"
рония. — Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой по"
мышляешь?» Обличенный смутился и покаялся в душе.
Вечером они причалили к берегу и стали устраивать"
ся на ночлег. «Что теперь с нами будет?» — с грустью раз"
мышлял Петр, а Феврония, мудрая и добрая жена, ласко"
во утешала его: «Не скорби, княже, милостивый Бог, тво"
рец и заступник
всех, не оставит нас
в беде!» В это время
повар принялся го"
товить ужин и, что"
бы повесить котлы,
срубил два малень"
ких деревца. Когда
окончилась трапеза,
княгиня благосло"
вила эти обрубочки
словами: «Да будут
они утром больши"
ми деревьями». Так
и случилось. Этим
чудом она хотела
укрепить супруга,
провидя их судьбу.
Ведь коли «для дере"
ва есть надежда, что
оно, если и будет
срублено, снова
оживет» (Иов. 14, 7),
то человек, надею"
щийся и уповающий
на Господа, будет
иметь благословение
и в этой жизни,
и в будущей.
Свв. Петр и Феврония.
Книжная миниатюра. ХХ в.

506 ПЕТРОВ ДЕНЬ
Не успели они проснуться, приехали послы из Мурома,
умоляя Петра вернуться на княжение. Бояре поссорились
из-за власти, пролили кровь и теперь снова искали мира
и спокойствия. Блж. Петр и Феврония со смирением воз"
вратились в свой город и правили долго и счастливо, творя
милостыню с молитвой в сердце.
Когда пришла старость, они приняли монашество
с именами Давид и Евфросиния и умолили Бога, чтобы
умереть им в одно время. Похоронить себя завещали
вместе в специально приготовленном гробу с тонкой пе"
регородкой посередине.
Они скончались в один день и час, каждый в своей ке"
лье. Люди сочли нечестивым хоронить в одном гробу мо"
нахов и посмели нарушить волю усопших. Дважды их те"
ла разносили по разным храмам, но дважды они чудес"
ным образом оказывались рядом. Так и похоронили свя"
тых супругов вместе около соборной церкви Рождества
Пресвятой Богородицы, и всякий верующий обретал
здесь щедрое исцеление.
Блгв. кн. Петр и кн. Феврония почивают в Троицком
монастыре г. Мурома. Празднуются святые 25 июня/
8 июля.
ПЕТРОВ ДЕНЬ, праздник первоверховных апп. Петра
и Павла, 29 июня/12 июля. Имеет древние корни. В язы"
ческой Руси на эти дни приходился праздник солнца,
связанный с такими божествами, как Сварог, Дажьбог,
Хорс, и эротическими ритуалами Ярилы. Образы свв.
апп. Петра и Павла вытеснили языческих идолов, но не"
которые древние суеверия, ритуально празднуемые в этот
день, сохранялись вплоть до XIX в. Крестьяне верили,
что в день апп. Петра и Павла рано утром играет солнце,
и старались даже сами наблюдать это чудное явление.
По замечанию Стоглава, в былое время в первый поне"
дельник после Петрова поста и в самый день Петров рус"
ские ходили в рощи «деяти зде бесевския потехи». Лето"
писец тоже говорит, что «о празднике святых верховных
апостолов Петра и Павла диавол сетию своею занимает
чрез колыски и качели, на них же бо колышущимся при"
ключается внезапу упуститься на землю, убиватися и зде
без покаяния душу свою испустити».
Адам Олеарий так описывал проведение праздника
в честь свв. апп. Петра и Павла: «У всех русских и москви"
тян около Петрова дня отправляется старинное зрелище.
Хотя они строги и безвыходно держат жен в своих домах,
так что редко пускают их в церковь или в гости, но в неко"
торые праздники позволяют женам и дочерям своим хо"
дить на приятные луга; там они качаются на круглых ка"
челях, поют особенные песни, сводятся одна за другой
за руки, водят круги или пляшут с рукоплесканиями
и притаптывают ногами». От этих-то гуляний и игр, со"
вершавшихся в старое время в честь солнца, в XIX в. со"
хранялись как остаток былого разные народные гулянья
и забавы, которые своими качелями только напоминают
уже забытое нашим народом веселое празднество в честь
солнца. Русская пословица говорит: «У мужика то и праз"
дник, что Петров день». В старой Руси день апп. Петра
и Павла был также важным временем в быту граждан"
ском, т. к. он служил сроком суда и взносов дани и по"
шлин, о чем особенно часто упоминают грамоты XV
и XVI вв. Платежи эти известны в этих памятниках гл.
обр. под именем «петровской дани, или просто петров"
ских поборов, которую тянули попы». Тогда же съезжа"
лись по зазывным грамотам ставиться на суд и вообще
производили разные хозяйственные и торговые сделки.
Так, напр., в одной из грамот об отпущении на волю
крестьян из-под власти бояр и детей боярских повелева"
ется отказывать, т. е. выводить от себя за другого, о Юрье
ве дне, иных о Рождестве, а иных о Петрове дне. Петров"
ские торги известны с XVI в. и в былое время составляли
особенные местные ярмарки по селам. Праздник
29 июня/12 июля считали важным сроком в различных
своих хозяйственных и домашних занятиях и сделках.
День памяти свв. апп. Петра и Павла как день церковный,
которым обыкновенно оканчивается Петров пост, или
попросту Петровки, назывался Петрово говейно. О про"
исхождении Петровки в Малороссии рассказывали, что
прежде ее не было и все недели были сплошные; мужья,
пользуясь этим, съедали масло, сметану, ежедневно при"
готовляемые женами, т. ч. ничего нельзя было заготовить
впрок. Вот хозяйки, которые были поумнее, посовето"
вавшись между собой, пустились на хитрость и учредили
Петровку: но как были неграмотные, то не сумели назна"
чить постоянного для нее срока, одна назначила в шесть
недель, другая — в пять и т. д. Т. о., все идет по их положе"
нию, не ровно, а по очереди. Во многих местах западных
губерний некоторые прихожане приносили в церковь
сбереженные постом сыр и хлеб, которые шли в пользу
причта. Наконец, нужно сказать, что св. ап. Петр считал"
ся в народе покровителем рыбного промысла и потому
нередко прямо назывался Рыболовом. Такое верование
особенно сильно между рыбаками, и потому они весьма
часто обращались за помощью к этому св. апостолу. При"
ходилось ли закидывать сети, застигнет ли на воде буря,
не удастся ли рыбный лов — рыбаки молились ап. Петру.
В иных случаях они даже складывались на большую вос"
ковую свечу и ставили ее пред образом «ловца рыб» — св.
ап. Петра, который был сам по занятию рыбарем, призван
был Господом к апостольскому служению в то самое вре"
мя, когда занимался рыбной ловлей. Обратившись к Пет"
ру и брату его Андрею, Иисус Христос сказал: «Грядита
по мне, и сотворю вы ловца человеком».
Не могло ускользнуть от внимания народного и то об"
стоятельство, что Сам Господь благословил занятие Пет"
ра, и, как замечает евангелист, после этого благословения
вместе со своими сотрудниками будущий апостол поймал
так много рыб, что от тяжести их едва не растерзались се"
ти. Этот случай, по замечанию Димитрия Ростовского,
имел особенное значение, т. к. он служил прообразом ду"
ховной апостольской молитвы, в которой «призываемые
яко слова Божия мрежею имеяше многие народы улови"
ти в спасение». Сама Церковь считала приличной и умес"
тной молитву ап. Петру как покровителю рыбного про"
мысла; так, напр., в Требнике Петра Могилы (изд. 1746)
есть чин на освящение новых сетей и здесь в одной из мо"
литв читаем: «Сам, Владыко Всесильный, и предлежа"
щия сети благослови, и в ловитве Твоим Божественным
благословением множество рыб на пищу Твоим рабом
всегда исполни, молитвами Преблагословенныя Слав"
ныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Ма"
рии и святых славных и всехвальных апостол Петра Вер"
ховнаго, Фомы, Нафанаила и Иоанна, и прочиих рыбам
ловцем бывших». И. Калинский

507ПЕТРОВ ДЕНЬ
По народному сказанию, в конце красной весны
и начале лета — в грозовую пору — идет на небесах по"
стройка «чертога новорайскаго». Топоры (молнии) сами,
без плотников, рубят стены здания нерукотворного, уда"
ряя по тучам, громоздящимся каменными горами толку"
чими, расступается под огненными топорами «обла"
чен-горюч камень», отверзаются окна двери рубленые.
«З-за той ми горы, з-за высокой, слышны ми тонойкий
голос, тонойкий голос, топоры дзвенят, топоры дзвенят,
каменья тешут, каменья тешут, церковь муруют, церковь
муруют, во трои двери, во трои двери — во три облаки», —
поется в старинной червонорусской песне:
У иединых дверех иде Сам Господь,
У других дверех Матенка Божя,
У третих дверех святый Петро.
Перед милым Богом органы грают,
Перед святым Петром свечи гореют,
Перед Матенков Божов ружа проквитат,
А з етой ружи (розы) пташок выникат:
Не ие то пташок, Сам милый Господь…
«Милый Господь» олицетворял в этой песне прикар"
патских русин солнце. Пречистая Дева заступает здесь
место древнеязыческой Лады, Петр-апостол поставлен
взамен громовника-Перуна. Горящие свечи — молнии,
гудящие органы — громовые раскаты, расцветающая ро"
за — утренняя зорька ясная, из златоогненного цвета ко"
торой и вылетает на беспредельный небесный простор
жар-птица — солнце.
В др. песенном сказании св. Петр является спутни"
ком Господа, шествующим за золотым плугом «в поле,
поле, в чистейком поле». Ходит за Богом пахарей клю"
чарь-апостол, походя, коня погоняет. А «Матенка Бо"
жия» обок с ним поспешает, семена носит, семена носит,
сына Своего просит:
Зароди, Божейку, яру пшеничейку,
Яру пшеничейку и ярейке житце!
Буде там стебевце саме тростове,
Будут колосойки — як былинойки,
Будут копойки — як звездойки,
Будут стогойки — як горойки,
Зберутся возойки — як чорны хмаройки!
В Сербии и в н. ХХ в. в деревенской глуши представ"
ляли ап. Петра разъезжающим на златорогом олене
по небесному полю над колосящимися земными нивами.
С этим поверьем находилось в непосредственной родст"
венной связи занесенное в снегиревскую летопись рус"
ских простонародных праздников древнее предание, гла"
сящее о том, что на «мирской» Петров праздник-пир,
устраивавшийся деревенским людом за Тотьмой,
на р. Ваге, выбегал из лесной дремучей пущи олень, по"
сылавшийся «праздновавшим Петру» мирянам в дар
от «апостола-праздника». Оленя, останавливавшегося
перед заранее приготовленными для варки котлами, уби"
вали-свежевали, на части разнимали, варили в котлах
на угощенье. Но это, по словам предания, продолжалось
только до той поры, покуда жил народ праведно-честно,
по завету отцов, дедов и прадедов. А потом пошел по лю"
дям разврат, грех, ложь опутала мир-народ сетями-тене"
тами, и перестал ап. Петр высылать свое праздничное
угощение даже и чествовавшим его святой день людям…
Пришлось им понапрасну ждать-поджидать и если ко"
лоть быка, так из своего стада. А потом перестала дерев"
ня «справлять Петровщину» всем миром, каждый начал
у себя во дворе ее праздновать.
Солнце светило, по народному преданию, на Петров
день, как на Пасху. Во многих местах существовал обы"
чай — деревенская молодежь поутру «караулила солнце».
Радовались собравшиеся караульщики, а затем с песнями
по дворам-домам расходились. Ладу вспоминали, Петров
день величали. Этими песнями починались «гулянки-Пет"
ровки», петровские хороводы, вплоть до первого Спаса.
На Петров день устраивали «обетныя угощенья», дела"
ли подарки петровские зятьям тещи, на угощение напра"
шивались, кумовья крестников проведывали, ходили
с пшеничными пирогами, сватья друг друга угощали, «от"
водные столы» правили. Девушки с парнями на качелях ка"
чались на Петра-Павла после обедни и до глубокой ночи.
Так и говорили в народе: «Как ни сторонись, девка,
а на петровских качелях с пареньком покачаешься!», «Пет"
ровы качели — девичье веселье!», «На Петров день кача"
лись, к Покрову свадьбу-радость справили!» и т. д. Этот
обычай осудили составители «Стоглава», отметив, что:
«о празднице св. верховных апостолов Петра и Павла свое
сетию диавол запинает чрез колыски и качели; на них же
бо колыщушеся, приключается внезапу упустити на зем"
лю, убавитися и зле, без покаяния, душу свою испущати»…
В некоторых местах на Петров день умывались «пет"
ровой водицею» из источников. Это умывание сопро"
вождалось песнями, плясками и всякими играми. В Ка"
шине и некоторых др. городах, долго сохранявших ста"
ринные обычаи, заведено было устраивать некоторое по"
добие святочного ряжения. Игрище собиралось на бере"
гу ручья, где в древние времена стоял идол какого-то
(вернее всего, Ярилы) языческого бога. Собравшиеся
парни гуляли посреди девушек, закрыв себе лица платка"
ми. Девушки должны были угадывать парней; угадавшей
предсказывалось в скором времени сыграть свою свадьбу.
О Петровом дне существовало много примет. «С Пет"
рова дня — красное лето, зеленый покос!» — гласит опыт
русака-северянина. «Женское лето — до Петра, с Петро"
ва дни — страдная пора!», «Далеко кулику до Петрова
дня!», «Худое порося и в Петровки зябнет; дворянская
кровь и в Петров день мерзнет!», «В Петров день бараш"
ка в лоб (можно разговеться)!», «С Петрова дня зарница
хлеб зарит!», «Петро-Павел жару прибавил!», «Утешили
бабу петровские жары голодухой!», «Петровка — голо"
довка, Спасовка — лакомка!» и т. д.
По примете следовало к Петрову дню наладить косы
и серпы: с Петрова дня — пожня, покос. «Коли дождь
на Петра — сенокос мокрый!», «На Петров день дождь — се"
но как хвощ (жесткое, на корм не очень спорое), зато уро"
жай не худой; два дождя — хороший, три дождя — богатый!»,
«Если просо на Петров день в ложку — будет и на ложку!»
Все рыболовы считали ап. Петра за своего покровите"
ля, особенно чтили его память. К Петрову дню приурочи"
валась бSольшая часть сделок, заключаемых между ловцами
и рыбопромышленниками, раздающими ловцам свои во"
ды мелкими участками — отдельно на каждую рыболовную
пору, с обязательством ставить рыбу на исады, или на вата"
ги, по известным ценам. Петровым днем заканчивается ве"
сенняя, начинается летняя пора рыболовная. В этот день
завершались расчеты по весеннему лову и заключались но"
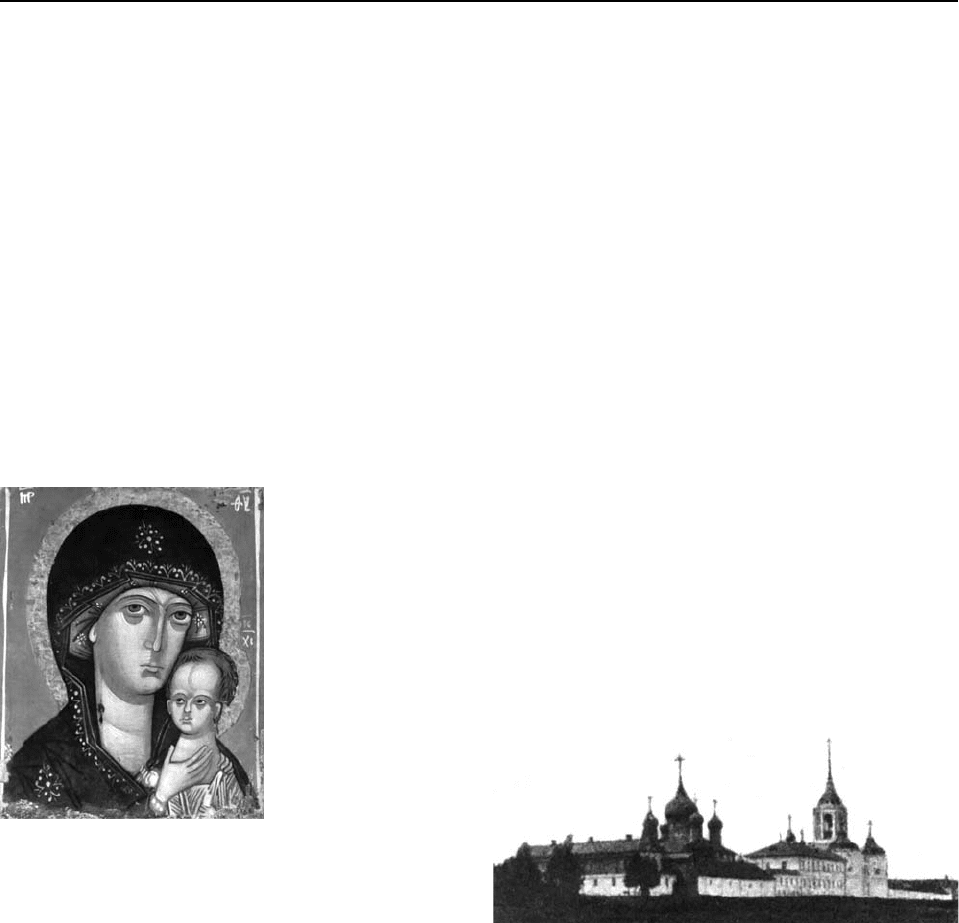
508 ПЕТРОВ ПОСТ
вые сделки на лето. На Петра-Павла устанавливалась новая
плата за воды (с лодки или с сети) и производилась расцен"
ка рыбного товара, который ловцы обязаны были сдать.
Ловецкий праздник в рыбных местах начинался
крестным ходом на рыболовные угодья, куда съезжались
ловцы со всех ближних станов и ватаг. После молебна
промышленники предлагали своим гостям угощение,
а потом пили «могарыч» по новым сделкам.
«Прошли Петровки — опало (с деревьев) по листу,
пройдет Илья (20-е июля) — опадет и два!» К Петрову
дню замолкали птицы. В этот день было принято печь
ватрушки. «На Петров день и кукушка подавится ват"
рушкой!» В некоторых местах девушки ходили в лес
«крестить кукушку». Когда выпадал 29-й июньский
день на постную пятницу, говорили, что «мясоед с по"
стом побратался». А. Коринфский
ПЕТРОВ ПОСТ, летний пост перед Петровым днем. За"
висит от даты прздника Пасхи, длится до дня первовер"
ховных апп. Петра и Павла, 29 июня/12 июля, если на эту
дату не выпадает постный день.
ПЕТРОВКИ — см.: ПЕТРОВ ДЕНЬ.
ПЕТРОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро"
дицы. Находится в Московском Успенском соборе ина"
звана так потому, что
в 1307 написана св.
митр. Петром Москов
ским, когда он был еще
игуменом на Волыни.
Она еще при жизни се"
го святителя ознамено"
вала себя чудотворени"
ями. При возвращении
митр. Максима из Вла"
димира Петр с братией
своей обители, прини"
мая благословение от
него, поднес ему в дар
написанную им икону
Пресвятой Богороди"
цы; святитель с радос"
тью принял святую
икону, украсил ее золо"
том и драгоценными
камнями и до конца жизни хранил ее в своей келье. По кон"
чине митр. Максима некто игумен Геронтий хотел хитрос"
тью захватить сан святителя и, взяв с собой святительскую
утварь, жезл и Петровскую икону, отправился в Царьград
с единомысленными ему церковными сановниками. Тогда
князь Галицкий Юрий просил блж. игумена Петра поспе"
шить в Царьград, чтобы помешать обману. Петр послушно
предпринял дальний путь и прибыл в Царьград. Блж. патр.
Афанасий принял его с радостью и, по внушению Духа Свя"
того, посвятил в сан митрополита всей России.
Когда же Геронтий подплывал к Царьграду, то подня"
лась страшная буря и корабль его был задержан. Ночью
во время бури явилась Пресвятая Богородица и сказала:
«Не на тебя возложится сан святительский, но тот, кто на"
писал Мой образ, Петр Ратский, возведен будет на верхов"
ный престол митрополии Русской и украсит его и упасет
людей своих, за которых Сын и Бог Мой Иисус пролил
кровь Свою». Когда после прекращения бури Геронтий
прибыл в Царьград, то принужден был рассказать свое
сонное видение. Тогда патриарх взял у него святительскую
утварь и честную икону и, передав свт. Петру, сказал:
«Прими святой Богородичный образ, который ты написал
своими руками, ибо его ради воздала тебе дар Сама Влады"
чица, предсказав о тебе». В 1325 перемещена была митро"
полия из Владимира в Москву, и Петровская икона пере"
несена была сюда митр. Петром и поставлена в Успенском
соборе, где находится до сих пор. В 1613 вместе с Феодо
ровской иконой она была при избрании на всероссийский
престол юного царя Михаила Феодоровича. Во Владими"
ре в соборе находится чудотворная Владимирская икона
Божией Матери, которая написана также святителем Пет"
ром. Она есть подобие Петровской в Москве.
Празднуется 24 авг./6 сент.
ПЕТРОВСКИЙ «НА ПОЛЕ» монастырь, Ярославская
епархия, вблизи Ростова Великого. Расположен был на бе"
регу оз. Неро. Основан епископом Ростовским Игнатием
на месте, где прп. Петру, царевичу Ордынскому, приняв"
шему христианство, явились во сне апп. Петр и Павел
и велели ему построить церковь.
Царевич исполнил при содействии еп. Игнатия пове"
ление, выстроил церковь, и скоро здесь возникла и оби"
тель, в которой прп. Петр принял пострижение и подви"
зался до самой праведной кончины своей в 1200. Мощи
его хранились в соборном храме под спудом. Близ гроб"
ницы находилась икона св. царевича древней работы.
Кроме Петропавловского собора, в обители была и др.
церковь, в честь Похвалы Пресвятой Богородицы. В мо"
настыре хранились местночтимые иконы Смоленской Бо"
жией Матери, свт. Николая и св. Димитрия Солунского.
Празднование прп. Петру совершалось 30 июня.
ПЕТРОВСКИЙ-ПАИСИЕВ монастырь, Ярославская губ.
Находился в 2 верстах от г. Углича на берегу р. Волги.
Основан в 1460 родственником прп. Макария Калязинско
го прп. Паисием.
В монастыре был 1 храм — Покрова Пресвятой Бого"
родицы, алтарь которого был обращен не на восток,
а на юг. В храме под спудом хранились мощи прп. Паи"
сия. После 1917 монастырь утрачен.
ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ЕПАРХИЯ, основана в 1828, когда
из Новгородской епархии выделилась Олонецко-Петроза"
водская епархия, включавшая уезды: Каргопольский, Оло"
нецкий, Петрозаводский, Вытегорский, Повенецкий, Пу"
дожский, Лодейнопольский. После Великой Отечествен"
ной войны Олонецко-Петрозаводская епархия входила
в состав Ленинградской митрополии. Ее самостоятельность
восстановлена в 1990. В н. ХХ в. в Карелии действовали ок.
600 православных храмов, 17 монастырей и 1724 часовни.
В 2006 в епархии было 59 храмов и часовен, 5 монастырей.
Петровская икона Пресвятой
Богородицы. XVIII в.
Петровский"Паисиев монастырь.
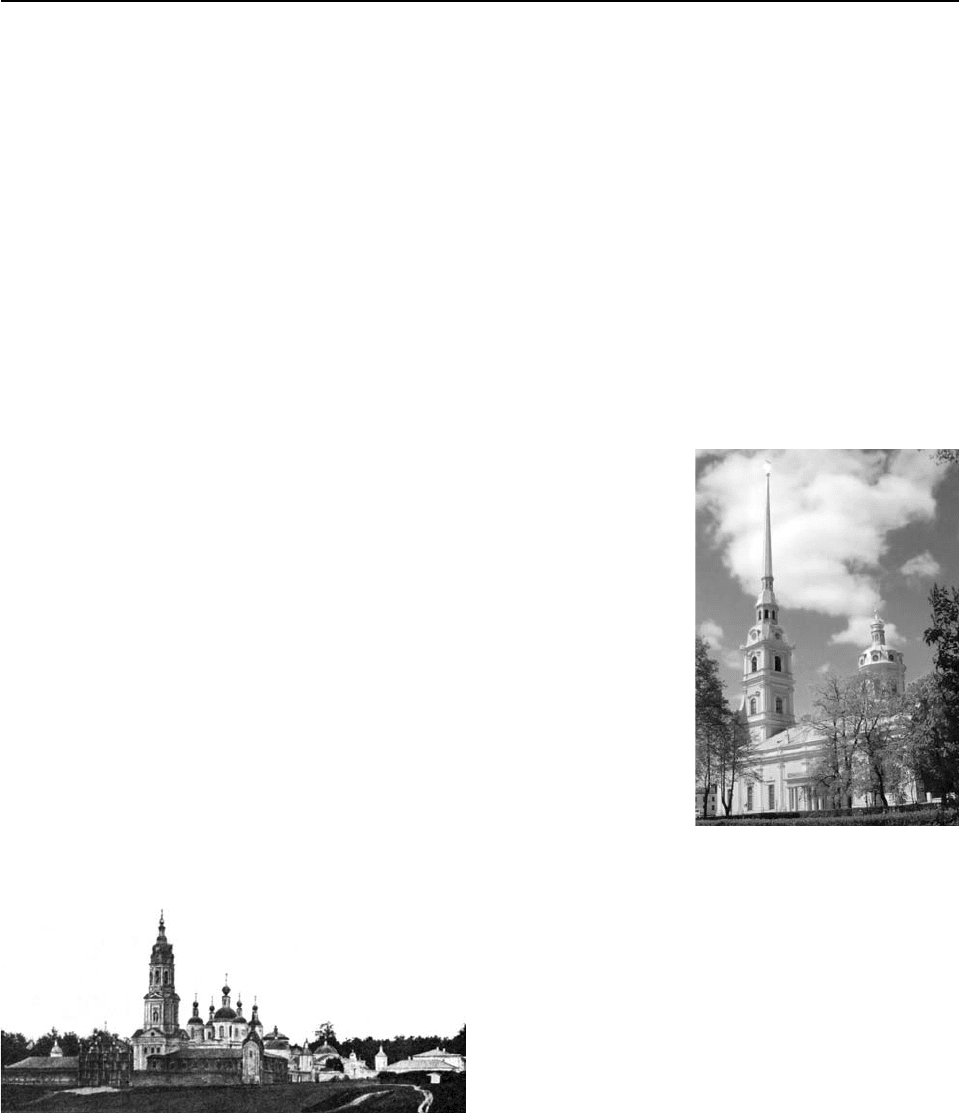
509ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОБОР
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (свв. апостолов ПЕТРА
И ПАВЛА), в Москве, у Яузских ворот. Известна с 1625.
Ныне существующий каменный храм построен в 1700
в стиле «московское барокко». Трапезная построена
в 1702, колокольня — в 1771. Храм не закрывался, сохра"
нил свое внутреннее убранство, а также несколько икон
из разрушенных окрестных храмов.
Святынями церкви являются: чудотворная Боголюбская
икона Божией Матери, 36 частиц мощей святых в напрес"
тольном кресте; частицы мощей свт. Петра, митрополита
Московского, прп. Нила Столобенского, икона Успения
Пресвятой Богородицы, почитаемая икона Иоанна Предте
чи с медным обручем. При храме действует Представитель"
ство Сербской Православной Церкви.
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (храм свв. апостолов
ПЕТРА И ПАВЛА), в Лефортове в Москве. Известна
с 1613. В к. XVII в. перестроена на средства полковника
Франца Лефорта. В 1711 храм выстроен заново на средст"
ва царя Петра I для Лефортовского полка (от древней по"
стройки сохранился южный портал).
Храм не закрывался и сохранил внутреннее убранст"
во XVIII в., в т. ч. деревянный позолоченный иконостас.
Святынями церкви являются: чудотворная Почаевская
икона Божией Матери (перенесена в храм в 1930-х), ико"
на Божией Матери «Нерушимая Стена», мощи блгв. кн.
Михаила Тверского.
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ женский скит, Бессарабская губ.
Находится в с. Боканча. Основан в 1869 как скит Гиржав"
ского Свято-Вознесенского монастыря. До 1920 был
приписан к этому монастырю. Храм — во имя свв. апп.
Петра и Павла. В 1958 был закрыт. В нем размещался пи"
онерский лагерь. В 1990-е открыт как женский.
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ мужской монастырь, Пензенская
губ. Находился в г. Саранске. Основан в к. XVII в. по бла"
гословению Московского патр. Адриана. Впоследствии
к нему был присоединен еще один монастырь — Ильин"
ский"Богоявленский. Петропавловским он стал имено"
ваться тогда, когда в нем был построен новый храм
и освящен во имя свв. Петра и Павла. В монастыре было
еще несколько церквей. Главной святыней была древняя
копия с подлинной чудотворной Владимирской иконы Бо"
жией Матери. При советской власти монастырь утрачен.
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ мужской монастырь, находился
в Рязанской губ. в Раненбургском у. (ныне Липецкая обл.),
недалеко от уездного г. Раненбурга (ныне Чаплыгин). Осно"
ван в н. XVIII в. на средства кн. Меньшикова. Перед 1917
в монастыре были 4 каменные церкви: во имя свв. апп. Пет"
ра и Павла, Успенская, Предтеченская и во имя Александра
Невского, устроенная на колокольне.
Святыней монастыря являлась икона Тихвинской Бо"
жией Матери, почитаемая чудотворной. Предание расска"
зывает, что при этой иконе совершилось много чудесных
исцелений. Для паломников вне ограды были устроены
2 гостинных дома. Особенно много богомольцев собира"
лось 28 июля, т. е. в день празднования Тихвинской иконе
Богоматери, когда из обители устраивался крестный ход
с этой иконой в г. Раненбург.
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ мужской монастырь, Черниговская
епархия, в окрестностях г. Глухова, на р. Клевени. Известен
с сер. XVII в., но, по преданию, был основан в 1230. Мо"
настырский каменный собор во имя свв. апп. Петра и Пав"
ла построен свт. Димитрием Ростовским, бывшим здесь
игуменом, и освящен им в 1697.
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ПАВЛОДАРСКИЙ женский моF
настырь, Астанайская епархия, г. Павлодар. В июне 1998
храм свв. апп. Петра и Павла был преобразован в монас"
тырь. Монастырь строится, устроен келейный корпус, за"
кончена роспись и собран иконостас в храме.
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОБОР, в Петербурге, в Петро"
павловской крепости, первоначальный деревянный храм
был заложен одновре"
менно с Петропавлов"
ской крепостью. Через
10 лет Петр I повелел за"
менить деревянную цер"
ковь каменной и 30 мая
1714 заложил первый
камень в основание
нынешнего Петропав"
ловского собора. Про"
ектировал и руководил
постройкой собора арх.
Д. Трезини. Строитель"
ство храма в стиле ба"
рокко продолжалось
около 20 лет. В первую
очередь была сооруже"
на колокольня со шпи"
лем. Петр торопил стро"
ителей и уже в 1721
поднимался на неокон"
ченную колокольню
и оттуда любовался видом строящегося города. К 1722
стены собора были подведены под крышу. Закончен со"
бор был уже после смерти Петра и освящен при Анне
Иоанновне 29 июня 1733.
В интерьере собора выделяется резной деревянный по"
золоченный иконостас в виде триумфальных ворот
(И. П. Зарудный). Он является своеобразным памятником
в честь победы России в Северной войне. В 1732 И. Крас"
новым по образцу западных храмов была возведена кафед"
ра. Симметрично кафедре установили Царское место.
Собор является усыпальницей российских императоров
и членов их семей. В нем находится 37 надгробий из белого
мрамора. Лишь 2 гробницы составляют исключение — уста"
новленные в 1906, выполненные по проекту арх. А. Л. Гуна
из уральского орлеца и алтайской яшмы надгробия на моги"
лах царя-освободителя Александра II и его жены.
Под лестницей, ведущей на колокольню, похоронены
сын Петра I царевич Алексей, его жена, кронпринцесса
Петропавловский монастырь.
Петропавловский собор
в Петербурге.
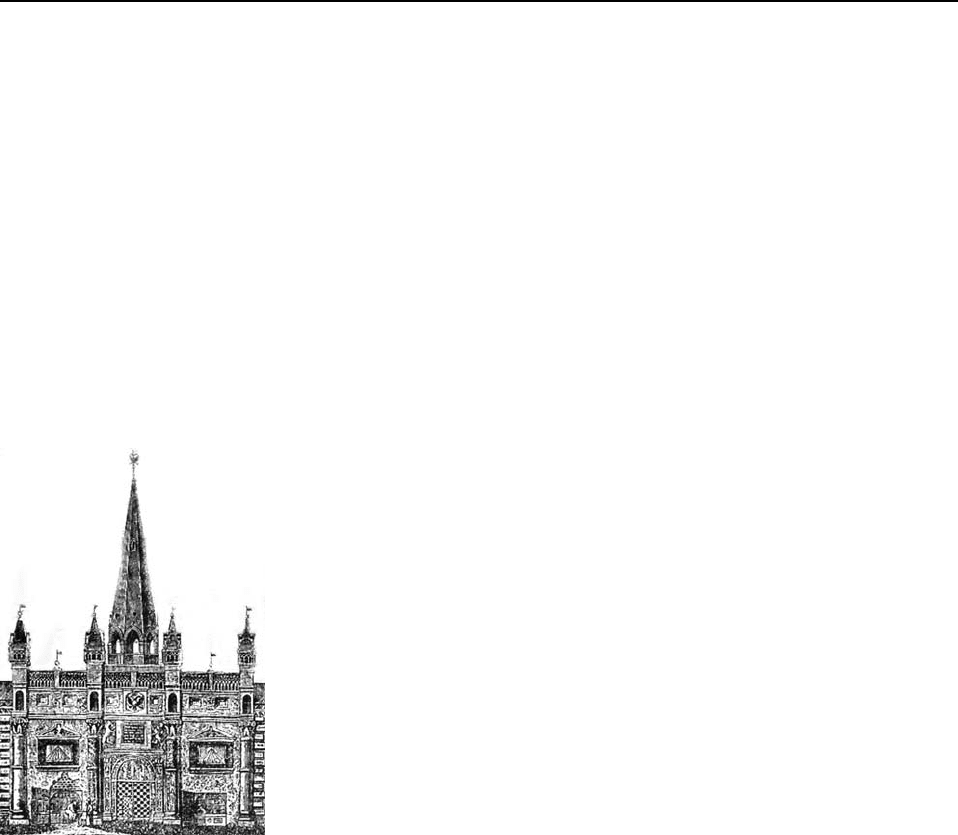
510 ПЕЧАЛОВАНИЕ
Шарлотта-Кристина и сестра Петра, Мария Алексеевна,
участвовавшая в «заговоре» царевича.
В соборе было много святынь и реликвий — частицы
от ризы Спасителя, частицы различных мощей, драгоцен"
ная утварь московской работы XVII в., старинные обра"
за в драгоценных ризах, а также паникадило из слоновой
кости, выточенное Петром I на токарном станке. Стены
собора были увешаны золотыми и серебряными венка"
ми, поднесенными почившим монархам.
Богослужения в соборе прекратились в к. 1917. Окон"
чательно собор был закрыт в 1919. Здание собора было
передано организованному еще в 1918 Музею города,
впоследствии — Музею истории Ленинграда.
ПЕЧАЛОВАНИЕ, в Древней Руси право высших или
особо уважаемых духовных лиц ходатайствовать перед
государем за осужденных или опальных. Последний слу"
чай печалования относится к 1698, когда патр. Адриан
безуспешно ходатайствовал перед Петром I о помилова"
нии осужденных на казнь стрельцов.
ПЕЧАТНЫЙ ДВОР, в России XVI–XVII вв. название ти"
пографии. Первый Печатный двор в России был основан
в Москве ок. 1553 при
поддержке Иоанна IV
и митр. Макария. Заве"
дение книгопечатания
было вызвано стремле"
нием русского прави"
тельства и Церкви уни"
фицировать тексты
богослужебных книг
и необходимостью
иметь значительное
количество таких книг
для распространения
христианства среди на"
селения Поволжья.
Печатный двор нахо"
дился на Никольской
улице. Первыми рус"
скими печатными кни"
гами, выпущенными,
по-видимому, на Пе"
чатном дворе, счита"
ются: Триодь постная, 2 Евангелия, Псалтирь, еще одно
Евангелие и Псалтирь, а также Триодь цветная (экземпляр
не обнаружен). Все эти книги не имели выходных данных.
В 1564 на Печатном дворе Иваном Федоровым и Петром
Мстиславцем был напечатан «Апостол», имевший выход"
ные данные, а в 1565 — «Часовник». После отъезда Федо"
рова и Мстиславца в Белоруссию работу на Печатном дво"
ре продолжили Никифор Тарасиев и Андроник Тимофеев
Невежа, выпустившие в 1568 «Псалтырь». После 1568 ра"
бота на Печатном дворе замерла. Книгопечатание пере"
шло в Александровскую слободу («Псалтырь», 1577).
В Москве печатание книг возобновилось в 1587. После по"
жара 1611 на том же месте был построен новый Печатный
двор (действовал с 1614). В 1645 и 1679 он был перестроен.
К сер. XVII в. Печатный двор представлял собой ряд стро"
ений, в которых размещались приказная, где сидели при"
казные люди во главе с дьяком, правильня, в которой ра"
ботали 4 справщика, подготавливая тексты для печати,
книжные чтецы и писец. Печатали на 12 станах, стоявших
в 3 комнатах по 4 стана в каждой. Стан обслуживали 2 на"
борщика, 1 разборщик, 4 тередорщика и 4 батырщика.
С подсобными работниками и сторожами штат Печатного
двора насчитывал 165 чел. В XVII в. здесь было издано бо"
лее 500 различных духовных книг, не считая отдельных
грамот. Тираж книг был ок. 1200 экз.
ПЕЧЕНГСКИЕ МУЧЕНИКИ (ск. в 1589), монахи, бого"
мольцы, трудники и вкладчики Трифонова-Печенгского мо
настыря, убитые шведами за веру Православную. Злодеи
сначала замучили иеромонаха Иону, затем напали на мо"
настырь, изрубили тех, кого там нашли, и предали все ог"
ню. Мученическую смерть приняли 51 инок и 65 мирян.
На обратном пути безбожных убийц настиг суд Божий —
они заблудились и почти все погибли от голода. Когда ино"
ки, бывшие в отсутствии, вернулись в разоренную обитель,
они с горьким плачем собрали рассеченные останки бра"
тий и с честью погребли их. Узнав об этом несчастье, царь
Феодор велел для безопасности перенести обитель в Коль"
ский острог, к храму Благовещения Богородицы. Когда же
город и монастырь сгорели в 1619, царь Михаил Феодоро"
вич велел построить новую обитель за р. Колой, и она дол"
гое время процветала (упразднена в к. XVIII в.).
Прмчч. Иона, Гурий и Герман Печенгские прославле"
ны как местночтимые святые. Прмч. Иона, ученик
и спостник прп. Трифона, был священником в г. Коле,
пришел в монастырь по обету, данному при тяжелой бо"
лезни дочери. При нападении шведов в 1590 был замучен
одним из первых. Прмч. Гурия, игумена Печенгского,
доброго пастыря и смиренного инока, шведы пытали,
стараясь узнать, где находится монастырская казна, за"
тем изрубили на части. Так же пострадал прмч. Герман,
подвижник и постник Печенгский.
Почитаются принявшие мученическую кончину иеро"
монах Иосиф и иеродиакон Пахомий, монахи: Феодосий,
Назарий, Геннадий, Онуфрий, Сампсон, Иуда, Филофей,
Онисим, Иов, Сампсон, Серапион, Георгий, Иустин, Сав"
ва, Спиридон, Савватий, Кирилл, Симеон, Александр,
Каллистрат, Феофил, Амвросий, Герман, Даниил, Феог"
ност, Моисей, Феодорит, Валериан, Герасим, Авраамий,
Дорофей, Лонгин, Ефрем, Феодосий, Паисий, Григорий,
Филимон; богомольцы, трудники и вкладчики монасты"
ря: Никифор, Евсевий, Пров, Савва, Антоний, Иоаким,
Ананий, Евсевий, Иоанн, Орест, Иоанн, Артемий,
Евграф, Феодор, Никита, Никита, Никита, Игнатий, Фе"
одор, Димитрий, Родион, Гавриил, Константин, Констан"
тин, Иоанн, Лука, Леонтий, Феодот, Евфимий, Фома, Гав"
риил, Дементий, Артемий, Стефан, Андрей, Парфений,
Никифор, Ананий, Стефан, Емельян, Филипп, Корни"
лий, Иоанн, Иоанн, Даниил, Стефан, Фока, Никита,
Архипп, Гавриил, Иоанн, Акилина, Евфимия. Страдальцы
были убиты в церкви и сожжены вместе с ней.
Мощи мучеников покоятся в возрождаемом ныне
Трифоновом-Печенгском монастыре. Над их могилой
построена деревянная Рождественская церковь.
ПЕЧЕРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы.
Сама собою образовалась в Великой Успенской церкви Ки
ево-Печерской лавры на стене алтаря в 1085. В Киево-Печер
ском Патерике о явлении ее повествуется так: «Иконопис"
цы принялись за дело — украшать храм. Во время трудов их
в алтаре невидимой силой изобразилась икона Богоматери.
Печатный двор. Рисунок XVII в.
