Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование
Подождите немного. Документ загружается.

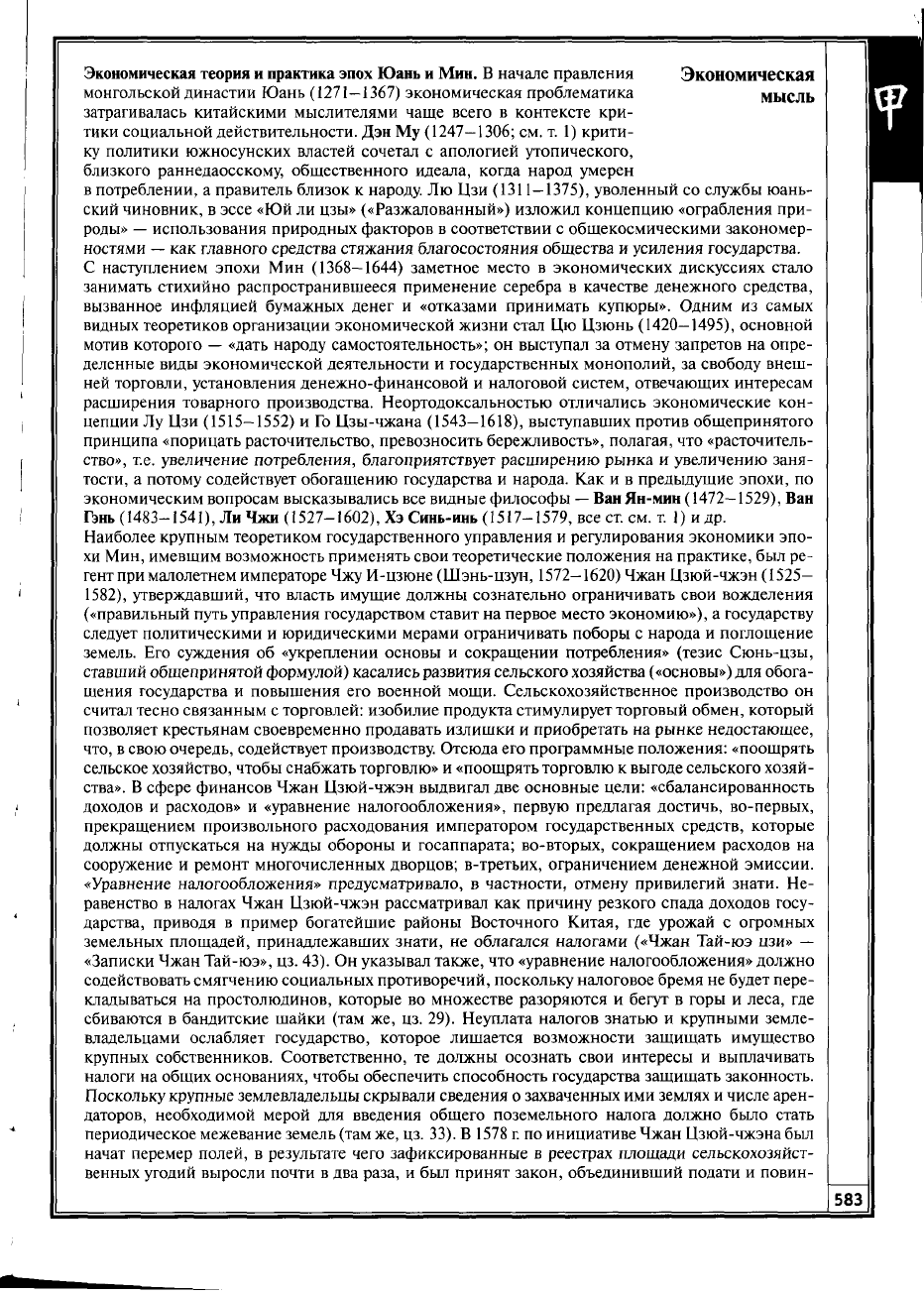
Экономическая теория и практика эпох Юань и Мин. В начале правления Экономическая
монгольской династии Юань (1271—1367) экономическая проблематика МЫСЛЬ
затрагивалась китайскими мыслителями чаще всего в контексте кри-
тики социальной действительности. Дэн Му (1247—1306; см. т. 1) крити-
ку политики южносунских властей сочетал с апологией утопического,
близкого раннедаосскому, общественного идеала, когда народ умерен
в потреблении, а правитель близок к народу. Лю Цзи (1311—1375), уволенный со службы юань-
ский чиновник, в эссе «Юй ли цзы» («Разжалованный») изложил концепцию «ограбления при-
роды» — использования природных факторов в соответствии с общекосмическими закономер-
ностями — как главного средства стяжания благосостояния общества и усиления государства.
С наступлением эпохи Мин (1368—1644) заметное место в экономических дискуссиях стало
занимать стихийно распространившееся применение серебра в качестве денежного средства,
вызванное инфляцией бумажных денег и «отказами принимать купюры». Одним из самых
видных теоретиков организации экономической жизни стал Цю Цзюнь (1420—1495), основной
мотив которого — «дать народу самостоятельность»; он выступал за отмену запретов на опре-
деленные виды экономической деятельности и государственных монополий, за свободу внеш-
ней торговли, установления денежно-финансовой и налоговой систем, отвечающих интересам
расширения товарного производства. Неортодоксальностью отличались экономические кон-
цепции Лу Цзи (1515—1552) и Го Цзы-чжана (1543—1618), выступавших против общепринятого
принципа «порицать расточительство, превозносить бережливость», полагая, что «расточитель-
ство», т.е. увеличение потребления, благоприятствует расширению рынка и увеличению заня-
тости, а потому содействует обогащению государства и народа. Как и в предыдущие эпохи, по
экономическим вопросам высказывались все видные философы
—
Ван Ян-мин (1472— 1529), Ван
Гэнь (1483-1541), Ли Чжи (1527-1602), Хэ Синь-инь (1517-1579, все ст. см. т. 1) и др.
Наиболее крупным теоретиком государственного управления и регулирования экономики эпо-
хи Мин, имевшим возможность применять свои теоретические положения на практике, был ре-
гент при малолетнем императоре Чжу И-цзюне (Шэнь-цзун, 1572—1620) Чжан Цзюй-чжэн (1525—
1582), утверждавший, что власть имущие должны сознательно ограничивать свои вожделения
(«правильный путь управления государством ставит на первое место экономию»), а государству
следует политическими и юридическими мерами ограничивать поборы с народа и поглощение
земель. Его суждения об «укреплении основы и сокращении потребления» (тезис Сюнь-цзы,
ставший общепринятой формулой) касались развития сельского хозяйства («основы») для обога-
щения государства и повышения его военной мощи. Сельскохозяйственное производство он
считал тесно связанным с торговлей: изобилие продукта стимулирует торговый обмен, который
позволяет крестьянам своевременно продавать излишки и приобретать на рынке недостающее,
что, в свою очередь, содействует производству. Отсюда его программные положения: «поощрять
сельское хозяйство, чтобы снабжать торговлю» и «поощрять торговлю к выгоде сельского хозяй-
ства». В сфере финансов Чжан Цзюй-чжэн выдвигал две основные цели: «сбалансированность
доходов и расходов» и «уравнение налогообложения», первую предлагая достичь, во-первых,
прекращением произвольного расходования императором государственных средств, которые
должны отпускаться на нужды обороны и госаппарата; во-вторых, сокращением расходов на
сооружение и ремонт многочисленных дворцов; в-третьих, ограничением денежной эмиссии.
«Уравнение налогообложения» предусматривало, в частности, отмену привилегий знати. Не-
равенство в налогах Чжан Цзюй-чжэн рассматривал как причину резкого спада доходов госу-
дарства, приводя в пример богатейшие районы Восточного Китая, где урожай с огромных
земельных площадей, принадлежавших знати, не облагался налогами («Чжан Тай-юэ цзи» —
«Записки Чжан Тай-юэ», цз. 43). Он указывал также, что «уравнение налогообложения» должно
содействовать смягчению социальных противоречий, поскольку налоговое бремя не будет пере-
кладываться на простолюдинов, которые во множестве разоряются и бегут в горы и леса, где
сбиваются в бандитские шайки (там же, цз. 29). Неуплата налогов знатью и крупными земле-
владельцами ослабляет государство, которое лишается возможности защищать имущество
крупных собственников. Соответственно, те должны осознать свои интересы и выплачивать
налоги на общих основаниях, чтобы обеспечить способность государства защищать законность.
Поскольку крупные землевладельцы скрывали сведения о захваченных ими землях и числе арен-
даторов, необходимой мерой для введения общего поземельного налога должно было стать
периодическое межевание земель (там же, цз. 33). В 1578 г. по инициативе Чжан Цзюй-чжэна был
начат перемер полей, в результате чего зафиксированные в реестрах площади сельскохозяйст-
венных угодий выросли почти в два раза, и был принят закон, объединивший подати и повин-
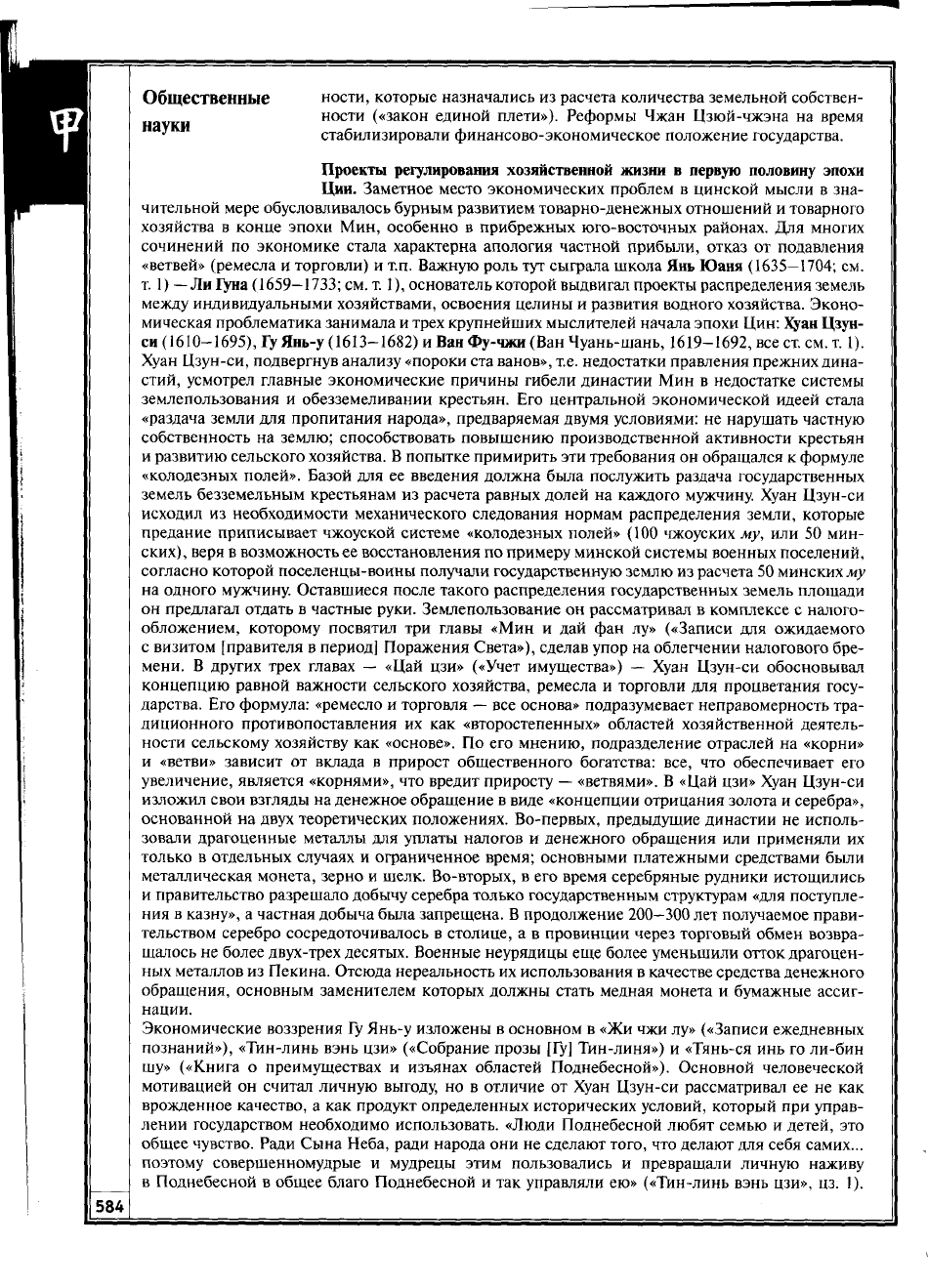
Общественные
науки
ности, которые назначались из расчета количества земельной собствен-
ности («закон единой плети»). Реформы Чжан Цзюй-чжэна на время
стабилизировали финансово-экономическое положение государства.
Проекты регулирования хозяйственной жизни в первую половину эпохи
Ции. Заметное место экономических проблем в цинской мысли в зна-
чительной мере обусловливалось бурным развитием товарно-денежных отношений и товарного
хозяйства в конце эпохи Мин, особенно в прибрежных юго-восточных районах. Для многих
сочинений по экономике стала характерна апология частной прибыли, отказ от подавления
«ветвей» (ремесла и торговли) и т.п. Важную роль тут сыграла школа Янь Юаня (1635—1704; см.
т. 1)
—
Ли Гуна (1659—1733; см. т. 1), основатель которой выдвигал проекты распределения земель
между индивидуальными хозяйствами, освоения целины и развития водного хозяйства. Эконо-
мическая проблематика занимала и трех крупнейших мыслителей начала эпохи Цин: Хуан Цзун-
си (1610-1695), ГуЯнь-у (1613-1682) и Ван Фу-чжи (Ван Чуань-шань, 1619-1692, все ст. см. т. 1).
Хуан Цзун-си, подвергнув анализу «пороки ста ванов», т.е. недостатки правления прежних дина-
стий, усмотрел главные экономические причины гибели династии Мин в недостатке системы
землепользования и обезземеливании крестьян. Его центральной экономической идеей стала
«раздача земли для пропитания народа», предваряемая двумя условиями: не нарушать частную
собственность на землю; способствовать повышению производственной активности крестьян
и развитию сельского хозяйства. В попытке примирить эти требования он обращался к формуле
«колодезных полей». Базой для ее введения должна была послужить раздача государственных
земель безземельным крестьянам из расчета равных долей на каждого мужчину. Хуан Цзун-си
исходил из необходимости механического следования нормам распределения земли, которые
предание приписывает чжоуской системе «колодезных полей» (100 чжоуских му, или 50 мин-
ских), веря в возможность ее восстановления по примеру минской системы военных поселений,
согласно которой поселенцы-воины получали государственную землю из расчета 50 минских му
на одного мужчину. Оставшиеся после такого распределения государственных земель площади
он предлагал отдать в частные руки. Землепользование он рассматривал в комплексе с налого-
обложением, которому посвятил три главы «Мин и дай фан лу» («Записи для ожидаемого
с визитом [правителя в период] Поражения Света»), сделав упор на облегчении налогового бре-
мени. В других трех главах — «Цай цзи» («Учет имущества») — Хуан Цзун-си обосновывал
концепцию равной важности сельского хозяйства, ремесла и торговли для процветания госу-
дарства. Его формула: «ремесло и торговля — все основа» подразумевает неправомерность тра-
диционного противопоставления их как «второстепенных» областей хозяйственной деятель-
ности сельскому хозяйству как «основе». По его мнению, подразделение отраслей на «корни»
и «ветви» зависит от вклада в прирост общественного богатства: все, что обеспечивает его
увеличение, является «корнями», что вредит приросту — «ветвями». В «Цай цзи» Хуан Цзун-си
изложил свои взгляды на денежное обращение в виде «концепции отрицания золота и серебра»,
основанной на двух теоретических положениях. Во-первых, предыдущие династии не исполь-
зовали драгоценные металлы для уплаты налогов и денежного обращения или применяли их
только в отдельных случаях и ограниченное время; основными платежными средствами были
металлическая монета, зерно и шелк. Во-вторых, в его время серебряные рудники истощились
и правительство разрешало добычу серебра только государственным структурам «для поступле-
ния в казну», а частная добыча была запрещена. В продолжение 200—300 лет получаемое прави-
тельством серебро сосредоточивалось в столице, а в провинции через торговый обмен возвра-
щалось не более двух-трех десятых. Военные неурядицы еще более уменьшили отток драгоцен-
ных металлов из Пекина. Отсюда нереальность их использования в качестве средства денежного
обращения, основным заменителем которых должны стать медная монета и бумажные ассиг-
нации.
Экономические воззрения Гу Янь-у изложены в основном в «Жи чжи лу» («Записи ежедневных
познаний»), «Тин-линь вэнь цзи» («Собрание прозы [Гу] Тин-линя») и «Тянь-ся инь го ли-бин
шу» («Книга о преимуществах и изъянах областей Поднебесной»). Основной человеческой
мотивацией он считал личную выгоду, но в отличие от Хуан Цзун-си рассматривал ее не как
врожденное качество, а как продукт определенных исторических условий, который при управ-
лении государством необходимо использовать. «Люди Поднебесной любят семью и детей, это
общее чувство. Ради Сына Неба, ради народа они не сделают того, что делают для себя самих...
поэтому совершенномудрые и мудрецы этим пользовались и превращали личную наживу
в Поднебесной в общее благо Поднебесной и так управляли ею» («Тин-линь вэнь цзи», цз. 1).
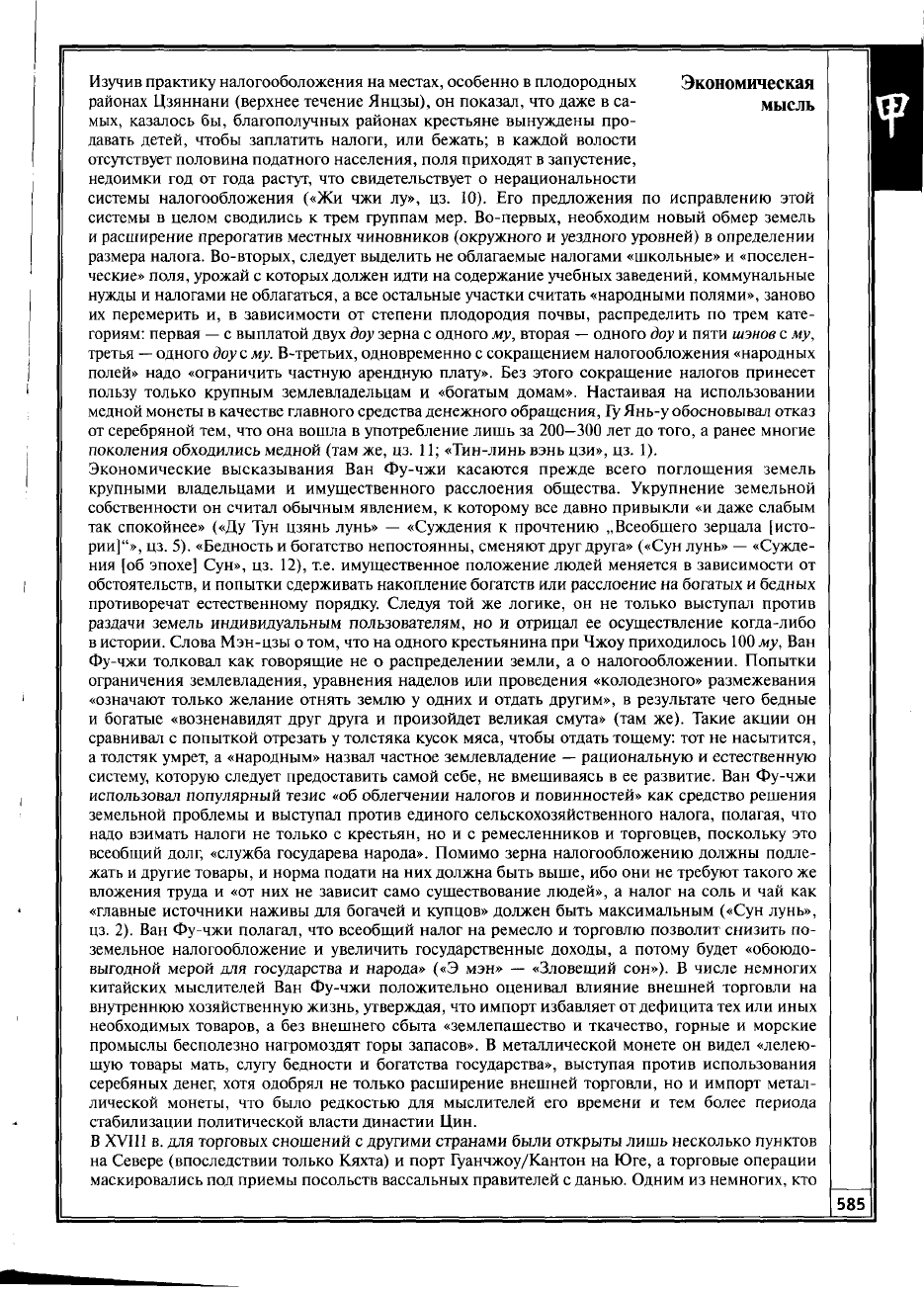
Изучив практику налогооболожения на местах, особенно в плодородных Экономическая
районах Цзяннани (верхнее течение Янцзы), он показал, что даже в са- мысль
мых, казалось бы, благополучных районах крестьяне вынуждены про-
давать детей, чтобы заплатить налоги, или бежать; в каждой волости
отсутствует половина податного населения, поля приходят в запустение,
недоимки год от года растут, что свидетельствует о нерациональности
системы налогообложения («Жи чжи лу», цз. 10). Его предложения по исправлению этой
системы в целом сводились к трем группам мер. Во-первых, необходим новый обмер земель
и расширение прерогатив местных чиновников (окружного и уездного уровней) в определении
размера налога. Во-вторых, следует выделить не облагаемые налогами «школьные» и «поселен-
ческие» поля, урожай с которых должен идти на содержание учебных заведений, коммунальные
нужды и налогами не облагаться, а все остальные участки считать «народными полями», заново
их перемерить и, в зависимости от степени плодородия почвы, распределить по трем кате-
гориям: первая — с выплатой двух доу зерна с одного му, вторая — одного доу и пяти шэнов с му,
третья
—
одного доу с му. В-третьих, одновременно с сокращением налогообложения «народных
полей» надо «ограничить частную арендную плату». Без этого сокращение налогов принесет
пользу только крупным землевладельцам и «богатым домам». Настаивая на использовании
медной монеты в качестве главного средства денежного обращения,
Гу
Янь-у обосновывал отказ
от серебряной тем, что она вошла в употребление лишь за 200—300 лет до того, а ранее многие
поколения обходились медной (там же, цз. 11; «Тин-линь вэнь цзи», цз. 1).
Экономические высказывания Ван Фу-чжи касаются прежде всего поглощения земель
крупными владельцами и имущественного расслоения общества. Укрупнение земельной
собственности он считал обычным явлением, к которому все давно привыкли «и даже слабым
так спокойнее» («Ду Тун цзянь лунь» — «Суждения к прочтению „Всеобщего зерцала [исто-
рии]"», цз. 5). «Бедность и богатство непостоянны, сменяют друг друга» («Сун лунь» — «Сужде-
ния [об эпохе] Сун», цз. 12), т.е. имущественное положение людей меняется в зависимости от
обстоятельств, и попытки сдерживать накопление богатств или расслоение на богатых и бедных
противоречат естественному порядку. Следуя той же логике, он не только выступал против
раздачи земель индивидуальным пользователям, но и отрицал ее осуществление когда-либо
в истории. Слова Мэн-цзы о том, что на одного крестьянина при Чжоу приходилось 100 му, Ван
Фу-чжи толковал как говорящие не о распределении земли, а о налогообложении. Попытки
ограничения землевладения, уравнения наделов или проведения «колодезного» размежевания
«означают только желание отнять землю у одних и отдать другим», в результате чего бедные
и богатые «возненавидят друг друга и произойдет великая смута» (там же). Такие акции он
сравнивал с попыткой отрезать у толстяка кусок мяса, чтобы отдать тощему: тот не насытится,
а толстяк умрет, а «народным» назвал частное землевладение — рациональную и естественную
систему, которую следует предоставить самой себе, не вмешиваясь в ее развитие. Ван Фу-чжи
использовал популярный тезис «об облегчении налогов и повинностей» как средство решения
земельной проблемы и выступал против единого сельскохозяйственного налога, полагая, что
надо взимать налоги не только с крестьян, но и с ремесленников и торговцев, поскольку это
всеобщий долг, «служба государева народа». Помимо зерна налогообложению должны подле-
жать и другие товары, и норма подати на них должна быть выше, ибо они не требуют такого же
вложения труда и «от них не зависит само существование людей», а налог на соль и чай как
«главные источники наживы для богачей и купцов» должен быть максимальным («Сун лунь»,
цз. 2). Ван Фу-чжи полагал, что всеобщий налог на ремесло и торговлю позволит снизить по-
земельное налогообложение и увеличить государственные доходы, а потому будет «обоюдо-
выгодной мерой для государства и народа» («Э мэн» — «Зловещий сон»). В числе немногих
китайских мыслителей Ван Фу-чжи положительно оценивал влияние внешней торговли на
внутреннюю хозяйственную жизнь, утверждая, что импорт избавляет от дефицита тех или иных
необходимых товаров, а без внешнего сбыта «землепашество и ткачество, горные и морские
промыслы бесполезно нагромоздят горы запасов». В металлической монете он видел «лелею-
щую товары мать, слугу бедности и богатства государства», выступая против использования
серебяных денег, хотя одобрял не только расширение внешней торговли, но и импорт метал-
лической монеты, что было редкостью для мыслителей его времени и тем более периода
стабилизации политической власти династии Цин.
В XVIII в. для торговых сношений с другими странами были открыты лишь несколько пунктов
на Севере (впоследствии только Кяхта) и порт Гуанчжоу/Кантон на Юге, а торговые операции
маскировались под приемы посольств вассальных правителей с данью. Одним из немногих, кто
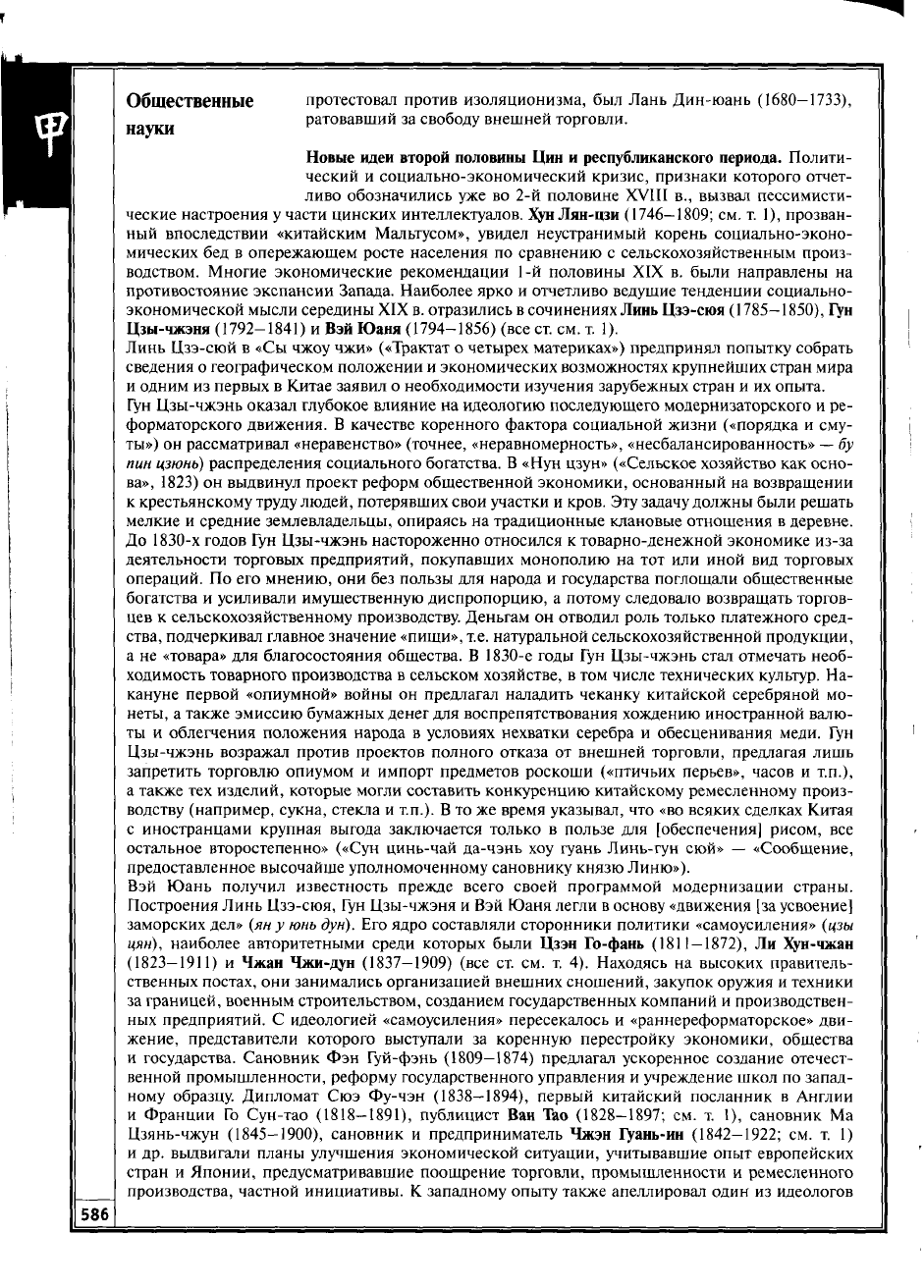
Общественные протестовал против изоляционизма, был Лань Дин-юань (1680—1733),
ратовавший за свободу внешней торговли.
Новые идеи второй половины Цин и республиканского периода. Полити-
ческий и социально-экономический кризис, признаки которого отчет-
ливо обозначились уже во 2-й половине XVIII в., вызвал пессимисти-
ческие настроения у части цинских интеллектуалов. Хун Лян-цзи (1746—1809; см. т. 1), прозван-
ный впоследствии «китайским Мальтусом», увидел неустранимый корень социально-эконо-
мических бед в опережающем росте населения по сравнению с сельскохозяйственным произ-
водством. Многие экономические рекомендации 1-й половины XIX в. были направлены на
противостояние экспансии Запада. Наиболее ярко и отчетливо ведущие тенденции социально-
экономической мысли середины XIX в. отразились в сочинениях Линь Цзэ-сюя (1785—1850), Гун
Цзы-чжэня (1792-1841) и Вэй Юаня (1794-1856) (все ст. см. т. 1).
Линь Цзэ-сюй в «Сы чжоу чжи» («Трактат о четырех материках») предпринял попытку собрать
сведения о географическом положении и экономических возможностях крупнейших стран мира
и одним из первых в Китае заявил о необходимости изучения зарубежных стран и их опыта.
Гун Цзы-чжэнь оказал глубокое влияние на идеологию последующего модернизаторского и ре-
форматорского движения. В качестве коренного фактора социальной жизни («порядка и сму-
ты») он рассматривал «неравенство» (точнее, «неравномерность», «несбалансированность» — бу
пин цзюнь) распределения социального богатства. В «Нун цзун» («Сельское хозяйство как осно-
ва», 1823) он выдвинул проект реформ общественной экономики, основанный на возвращении
к крестьянскому труду людей, потерявших свои участки и кров. Эту задачу должны были решать
мелкие и средние землевладельцы, опираясь на традиционные клановые отношения в деревне.
До 1830-х годов Гун Цзы-чжэнь настороженно относился к товарно-денежной экономике из-за
деятельности торговых предприятий, покупавших монополию на тот или иной вид торговых
операций. По его мнению, они без пользы для народа и государства поглощали общественные
богатства и усиливали имущественную диспропорцию, а потому следовало возвращать торгов-
цев к сельскохозяйственному производству. Деньгам он отводил роль только платежного сред-
ства, подчеркивал главное значение «пищи», т.е. натуральной сельскохозяйственной продукции,
а не «товара» для благосостояния общества. В 1830-е годы Гун Цзы-чжэнь стал отмечать необ-
ходимость товарного производства в сельском хозяйстве, в том числе технических культур. На-
кануне первой «опиумной» войны он предлагал наладить чеканку китайской серебряной мо-
неты, а также эмиссию бумажных денег для воспрепятствования хождению иностранной валю-
ты и облегчения положения народа в условиях нехватки серебра и обесценивания меди. Гун
Цзы-чжэнь возражал против проектов полного отказа от внешней торговли, предлагая лишь
запретить торговлю опиумом и импорт предметов роскоши («птичьих перьев», часов и т.п.),
а также тех изделий, которые могли составить конкуренцию китайскому ремесленному произ-
водству (например, сукна, стекла и т.п.). В то же время указывал, что «во всяких сделках Китая
с иностранцами крупная выгода заключается только в пользе для [обеспечения] рисом, все
остальное второстепенно» («Сун цинь-чай да-чэнь хоу гуань Линь-гун сюй» — «Сообщение,
предоставленное высочайше уполномоченному сановнику князю Линю»).
Вэй Юань получил известность прежде всего своей программой модернизации страны.
Построения Линь Цзэ-сюя, Гун Цзы-чжэня и Вэй Юаня легли в основу «движения [за усвоение]
заморских дел» (ян у юнь дун). Его ядро составляли сторонники политики «самоусиления» (цзы
цян), наиболее авторитетными среди которых были Цзэн Го-фань
(1811 —
1872), Ли Хун-чжан
(1823-1911) и Чжан Чжи-дун (1837-1909) (все ст. см. т. 4). Находясь на высоких правитель-
ственных постах, они занимались организацией внешних сношений, закупок оружия и техники
за границей, военным строительством, созданием государственных компаний и производствен-
ных предприятий. С идеологией «самоусиления» пересекалось и «раннереформаторское» дви-
жение, представители которого выступали за коренную перестройку экономики, общества
и государства. Сановник Фэн Гуй-фэнь (1809—1874) предлагал ускоренное создание отечест-
венной промышленности, реформу государственного управления и учреждение школ по запад-
ному образцу. Дипломат Сюэ Фу-чэн (1838—1894), первый китайский посланник в Англии
и Франции Го Сун-тао (1818-1891), публицист Ван Тао (1828-1897; см. т. 1), сановник Ма
Цзянь-чжун (1845—1900), сановник и предприниматель Чжэн Г\ань-ин (1842—1922; см. т. 1)
и др. выдвигали планы улучшения экономической ситуации, учитывавшие опыт европейских
стран и Японии, предусматривавшие поощрение торговли, промышленности и ремесленного
производства, частной инициативы. К западному опыту также апеллировал один из идеологов
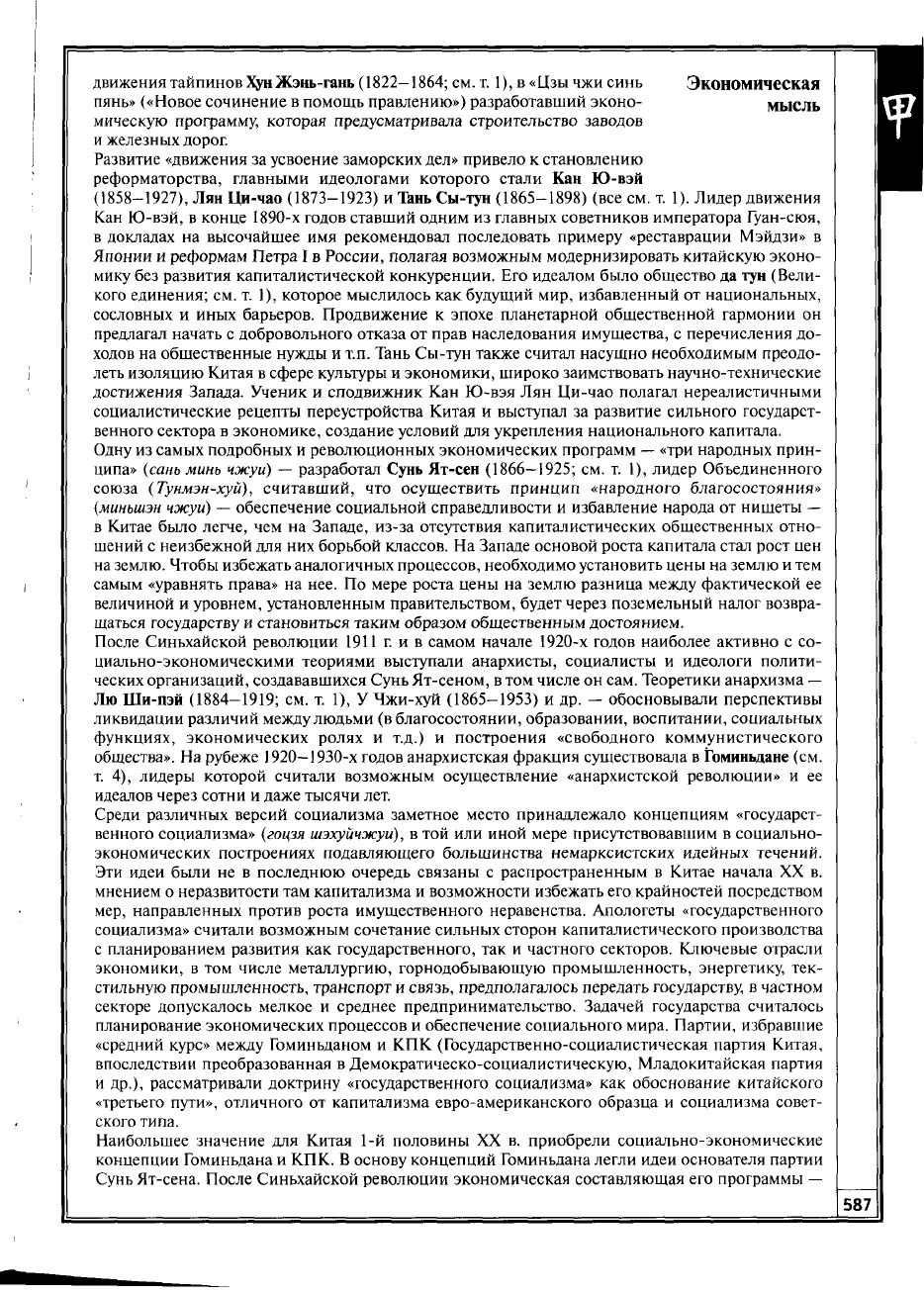
движения тайпинов Хун Жэнь-гань (1822—1864; см. т. 1), в «Цзы чжи синь Экономическая
пянь» («Новое сочинение в помощь правлению») разработавший эконо- мысль
мическую программу, которая предусматривала строительство заводов
и железных дорог.
Развитие «движения за усвоение заморских дел» привело к становлению
реформаторства, главными идеологами которого стали Кан Ю-вэй
(1858-1927), Лян Ци-чао (1873-1923) и Тань Сы-тун (1865-1898) (все см. т. 1). Лидер движения
Кан Ю-вэй, в конце 1890-х годов ставший одним из главных советников императора Гуан-сюя,
в докладах на высочайшее имя рекомендовал последовать примеру «реставрации Мэйдзи» в
Японии и реформам Петра I в России, полагая возможным модернизировать китайскую эконо-
мику без развития капиталистической конкуренции. Его идеалом было общество да тун (Вели-
кого единения; см. т. 1), которое мыслилось как будущий мир, избавленный от национальных,
сословных и иных барьеров. Продвижение к эпохе планетарной общественной гармонии он
предлагал начать с добровольного отказа от прав наследования имущества, с перечисления до-
ходов на общественные нужды и т.п. Тань Сы-тун также считал насущно необходимым преодо-
леть изоляцию Китая в сфере культуры и экономики, широко заимствовать научно-технические
достижения Запада. Ученик и сподвижник Кан Ю-вэя Лян Ци-чао полагал нереалистичными
социалистические рецепты переустройства Китая и выступал за развитие сильного государст-
венного сектора в экономике, создание условий для укрепления национального капитала.
Одну из самых подробных и революционных экономических программ — «три народных прин-
ципа» (сань минь чжуи) — разработал Сунь Ят-сен (1866-1925; см. т. 1), лидер Объединенного
союза (Тунмэн-хуй), считавший, что осуществить принцип «народного благосостояния»
(миныиэн чжуи) — обеспечение социальной справедливости и избавление народа от нишеты —
в Китае было легче, чем на Западе, из-за отсутствия капиталистических общественных отно-
шений с неизбежной для них борьбой классов. На Западе основой роста капитала стал рост цен
на землю. Чтобы избежать аналогичных процессов, необходимо установить цены на землю и тем
самым «уравнять права» на нее. По мере роста цены на землю разница между фактической ее
величиной и уровнем, установленным правительством, будет через поземельный налог возвра-
щаться государству и становиться таким образом общественным достоянием.
После Синьхайской революции 1911 г. и в самом начале 1920-х годов наиболее активно с со-
циально-экономическими теориями выступали анархисты, социалисты и идеологи полити-
ческих организаций, создававшихся Сунь Ят-сеном, в том числе он сам. Теоретики анархизма
—
Лю Ши-пэй (1884—1919; см. т. 1), У Чжи-хуй (1865—1953) и др. — обосновывали перспективы
ликвидации различий между людьми (в благосостоянии, образовании, воспитании, социальных
функциях, экономических ролях и т.д.) и построения «свободного коммунистического
общества». На рубеже 1920—1930-х годов анархистская фракция существовала в Гоминьдане (см.
т. 4), лидеры которой считали возможным осуществление «анархистской революции» и ее
идеалов через сотни и даже тысячи лет.
Среди различных версий социализма заметное место принадлежало концепциям «государст-
венного социализма» (гоцзя шэхуйчжуи), в той или иной мере присутствовавшим в социально-
экономических построениях подавляющего большинства немарксистских идейных течений.
Эти идеи были не в последнюю очередь связаны с распространенным в Китае начала XX в.
мнением о неразвитости там капитализма и возможности избежать его крайностей посредством
мер, направленных против роста имущественного неравенства. Апологеты «государственного
социализма» считали возможным сочетание сильных сторон капиталистического производства
с планированием развития как государственного, так и частного секторов. Ключевые отрасли
экономики, в том числе металлургию, горнодобывающую промышленность, энергетику, тек-
стильную промышленность, транспорт и связь, предполагалось передать государству, в частном
секторе допускалось мелкое и среднее предпринимательство. Задачей государства считалось
планирование экономических процессов и обеспечение социального мира. Партии, избравшие
«средний курс» между Гоминьданом и КПК (Государственно-социалистическая партия Китая,
впоследствии преобразованная в Демократическо-социалистическую, Младокитайская партия
и др.), рассматривали доктрину «государственного социализма» как обоснование китайского
«третьего пути», отличного от капитализма евро-американского образца и социализма совет-
ского типа.
Наибольшее значение для Китая 1-й половины XX в. приобрели социально-экономические
концепции Гоминьдана и КПК. В основу концепций Гоминьдана легли идеи основателя партии
Сунь Ят-сена. После Синьхайской революции экономическая составляющая его программы —
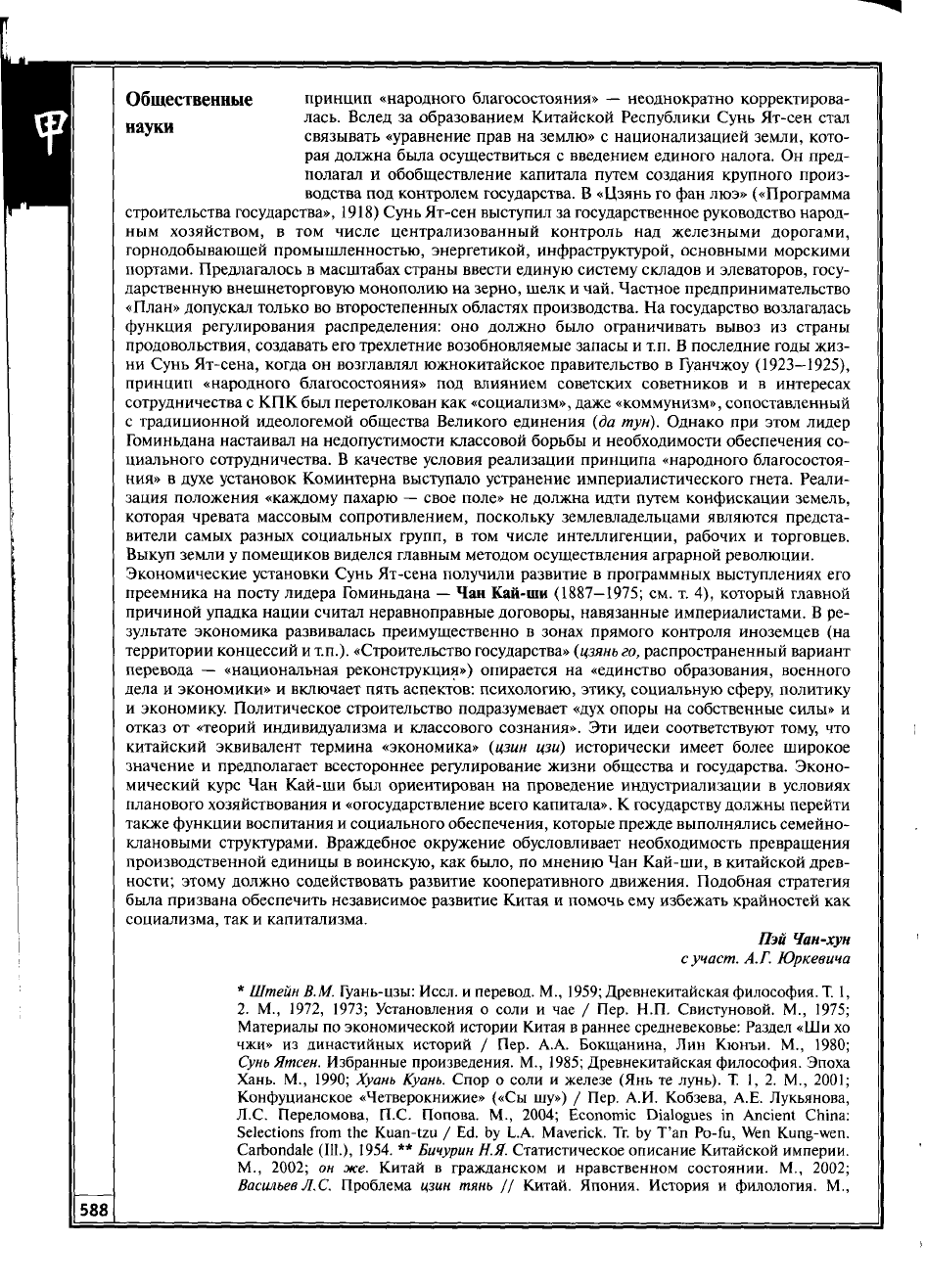
Общественные
науки
принцип «народного благосостояния» — неоднократно корректирова-
лась. Вслед за образованием Китайской Республики Сунь Ят-сен стал
связывать «уравнение прав на землю» с национализацией земли, кото-
рая должна была осуществиться с введением единого налога. Он пред-
полагал и обобществление капитала путем создания крупного произ-
водства под контролем государства. В «Цзянь го фан люэ» («Программа
строительства государства», 1918) Сунь Ят-сен выступил за государственное руководство народ-
ным хозяйством, в том числе централизованный контроль над железными дорогами,
горнодобывающей промышленностью, энергетикой, инфраструктурой, основными морскими
портами. Предлагалось в масштабах страны ввести единую систему складов и элеваторов, госу-
дарственную внешнеторговую монополию на зерно, шелк и чай. Частное предпринимательство
«План» допускал только во второстепенных областях производства. На государство возлагалась
функция регулирования распределения: оно должно было ограничивать вывоз из страны
продовольствия, создавать его трехлетние возобновляемые запасы и т.п. В последние годы жиз-
ни Сунь Ят-сена, когда он возглавлял южнокитайское правительство в Гуанчжоу (1923—1925),
принцип «народного благосостояния» под влиянием советских советников и в интересах
сотрудничества с КПК был перетолкован как «социализм», даже «коммунизм», сопоставленный
с традиционной идеологемой общества Великого единения (да тун). Однако при этом лидер
Гоминьдана настаивал на недопустимости классовой борьбы и необходимости обеспечения со-
циального сотрудничества. В качестве условия реализации принципа «народного благосостоя-
ния» в духе установок Коминтерна выступало устранение империалистического гнета. Реали-
зация положения «каждому пахарю — свое поле» не должна идти путем конфискации земель,
которая чревата массовым сопротивлением, поскольку землевладельцами являются предста-
вители самых разных социальных групп, в том числе интеллигенции, рабочих и торговцев.
Выкуп земли у помещиков виделся главным методом осуществления аграрной революции.
Экономические установки Сунь Ят-сена получили развитие в программных выступлениях его
преемника на посту лидера Гоминьдана — Чан Кай-ши (1887—1975; см. т. 4), который главной
причиной упадка нации считал неравноправные договоры, навязанные империалистами. В ре-
зультате экономика развивалась преимущественно в зонах прямого контроля иноземцев (на
территории концессий и т.п.). «Строительство государства» (цзянь го, распространенный вариант
перевода — «национальная реконструкция») опирается на «единство образования, военного
дела и экономики» и включает пять аспектов: психологию, этику, социальную сферу, политику
и экономику. Политическое строительство подразумевает «дух опоры на собственные силы» и
отказ от «теорий индивидуализма и классового сознания». Эти идеи соответствуют тому, что
китайский эквивалент термина «экономика» (цзин цзи) исторически имеет более широкое
значение и предполагает всестороннее регулирование жизни общества и государства. Эконо-
мический курс Чан Кай-ши был ориентирован на проведение индустриализации в условиях
планового хозяйствования и «огосударствление всего капитала». К государству должны перейти
также функции воспитания и социального обеспечения, которые прежде выполнялись семейно-
клановыми структурами. Враждебное окружение обусловливает необходимость превращения
производственной единицы в воинскую, как было, по мнению Чан Кай-ши, в китайской древ-
ности; этому должно содействовать развитие кооперативного движения. Подобная стратегия
была призвана обеспечить независимое развитие Китая и помочь ему избежать крайностей как
социализма, так и капитализма.
Пэй Чан-хун
сучаст. А.Г. Юркевича
* Штейн
В. М.
Гуань-цзы: Иссл. и перевод. М., 1959; Древнекитайская философия. Т. 1,
2. М., 1972, 1973; Установления о соли и чае / Пер. Н.П. Свистуновой. М., 1975;
Материалы по экономической истории Китая в раннее средневековье: Раздел «Ши хо
чжи» из династийных историй / Пер. A.A. Бокщанина, Лин Кюнъи. М., 1980;
Сунь Ятсен. Избранные произведения. М., 1985; Древнекитайская философия. Эпоха
Хань. М., 1990; Хуань Куань. Спор о соли и железе (Янь те лунь). Т. 1,2. М., 2001;
Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу») / Пер. А.И. Кобзева, А.Е. Лукьянова,
Л.С. Переломова, П.С. Попова. М., 2004; Economic Dialogues in Ancient China:
Selections from the Kuan-tzu / Ed. by L.A. Maverick. Tr. by T'an Po-fu, Wen Kung-wen.
Carbondale (111.), 1954. ** Бичурин Н.Я. Статистическое описание Китайской империи.
M., 2002; он же. Китай в гражданском и нравственном состоянии. М., 2002;
Васильев Л.С. Проблема цзин тянь // Китай. Япония. История и филология. М.,
588
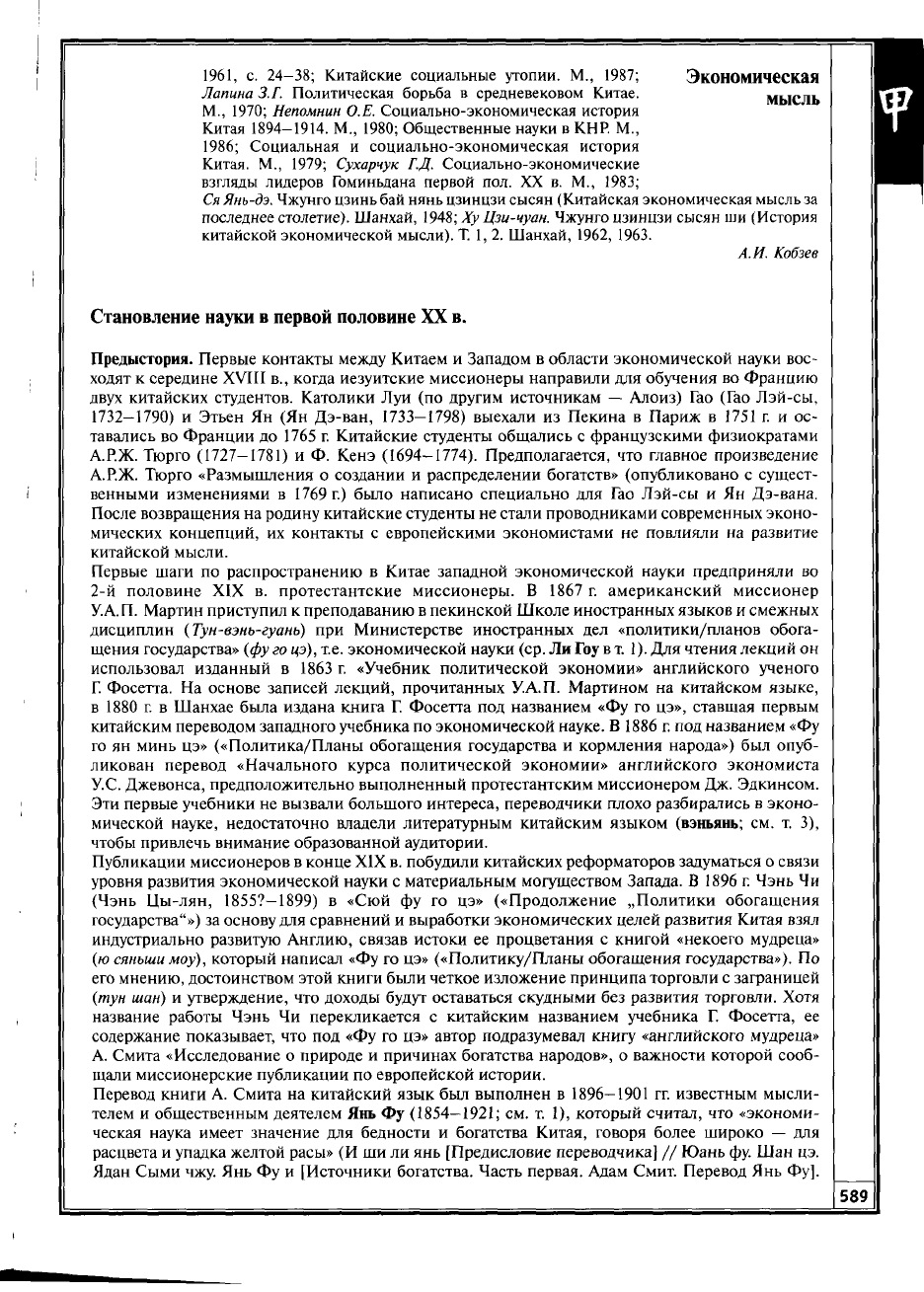
1961, с. 24-38; Китайские социальные утопии. М., 1987; Экономическая
Лапта З.Г. Политическая борьба в средневековом Китае. МЫСЛЬ
М., 1970; Непомнин O.E. Социально-экономическая история
Китая 1894-1914. М., 1980; Общественные науки в КНР. М.,
1986; Социальная и социально-экономическая история
Китая. М., 1979; Сухарнук Т.Д. Социально-экономические
взгляды лидеров Гоминьдана первой пол. XX в. М., 1983;
Ся
Янь-дэ. Чжунго цзинь бай нянь цзинцзи сысян (Китайская экономическая мысль за
последнее столетие). Шанхай, 1948; Ху Цзи-чуан. Чжунго цзинцзи сысян ши (История
китайской экономической мысли). Т. 1,2. Шанхай, 1962, 1963.
А. И. Кобзев
Становление науки в первой половине XX в.
Предыстория. Первые контакты между Китаем и Западом в области экономической науки вос-
ходят к середине XVIII в., когда иезуитские миссионеры направили для обучения во Францию
двух китайских студентов. Католики Луи (по другим источникам — Алоиз) Гао (Гао Лэй-сы,
1732-1790) и Этьен Ян (Ян Дэ-ван, 1733—1798) выехали из Пекина в Париж в 1751 г. и ос-
тавались во Франции до 1765 г. Китайские студенты общались с французскими физиократами
А.Р.Ж. Тюрго (1727—1781) и Ф. Кенэ (1694—1774). Предполагается, что главное произведение
А.Р.Ж. Тюрго «Размышления о создании и распределении богатств» (опубликовано с сущест-
венными изменениями в 1769 г.) было написано специально для Гао Лэй-сы и Ян Дэ-вана.
После возвращения на родину китайские студенты не стали проводниками современных эконо-
мических концепций, их контакты с европейскими экономистами не повлияли на развитие
китайской мысли.
Первые шаги по распространению в Китае западной экономической науки предприняли во
2-й половине XIX в. протестантские миссионеры. В 1867 г. американский миссионер
У.А.
П. Мартин приступил к преподаванию в пекинской Школе иностранных языков и смежных
дисциплин (Тун-вэнь-гуань) при Министерстве иностранных дел «политики/планов обога-
щения государства» (фу го цэ), т.е. экономической науки (ср. Ли Гоу в т. 1). Для чтения лекций он
использовал изданный в 1863 г. «Учебник политической экономии» английского ученого
Г. Фосетта. На основе записей лекций, прочитанных
У.А.
П. Мартином на китайском языке,
в 1880 г. в Шанхае была издана книга Г. Фосетта под названием «Фу го цэ», ставшая первым
китайским переводом западного учебника по экономической науке. В 1886 г. под названием «Фу
го ян минь цэ» («Политика/Планы обогащения государства и кормления народа») был опуб-
ликован перевод «Начального курса политической экономии» английского экономиста
У.С. Джевонса, предположительно выполненный протестантским миссионером Дж. Эдкинсом.
Эти первые учебники не вызвали большого интереса, переводчики плохо разбирались в эконо-
мической науке, недостаточно владели литературным китайским языком (вэньянь; см. т. 3),
чтобы привлечь внимание образованной аудитории.
Публикации миссионеров в конце XIX в. побудили китайских реформаторов задуматься о связи
уровня развития экономической науки с материальным могуществом Запада. В 1896 г. Чэнь Чи
(Чэнь Цы-лян, 18557-1899) в «Сюй фу го цэ» («Продолжение „Политики обогащения
государства"») за основу для сравнений и выработки экономических целей развития Китая взял
индустриально развитую Англию, связав истоки ее процветания с книгой «некоего мудреца»
(ю сяныии моу), который написал «Фу го цэ» («Политику/Планы обогащения государства»). По
его мнению, достоинством этой книги были четкое изложение принципа торговли с заграницей
(тун шан) и утверждение, что доходы будут оставаться скудными без развития торговли. Хотя
название работы Чэнь Чи перекликается с китайским названием учебника Г. Фосетта, ее
содержание показывает, что под «Фу го цэ» автор подразумевал книгу «английского мудреца»
А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», о важности которой сооб-
щали миссионерские публикации по европейской истории.
Перевод книги А. Смита на китайский язык был выполнен в 1896—1901 гг. известным мысли-
телем и общественным деятелем Янь Фу (1854—1921; см. т. 1), который считал, что «экономи-
ческая наука имеет значение для бедности и богатства Китая, говоря более широко — для
расцвета и упадка желтой расы» (И ши ли янь [Предисловие переводчика] // Юань фу. Шан цэ.
Ядан Сыми чжу. Янь Фу и [Источники богатства. Часть первая. Адам Смит. Перевод Янь Фу].
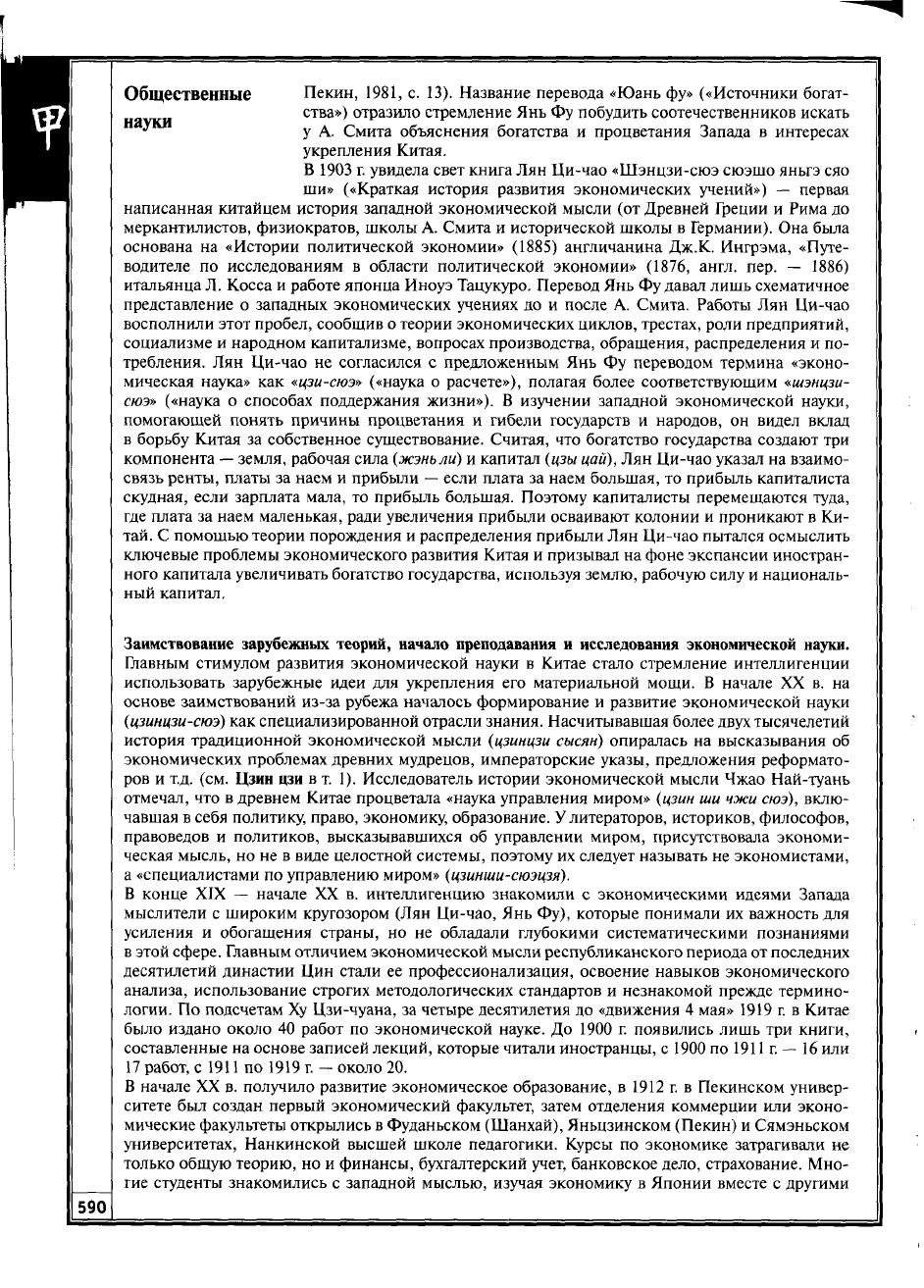
Общественные Пекин, 1981, с. 13). Название перевода «Юань фу» («Источники богат-
ства») отразило стремление Янь Фу побудить соотечественников искать
^ у А. Смита объяснения богатства и процветания Запада в интересах
укрепления Китая.
В 1903 г. увидела свет книга Лян Ци-чао «Шэнцзи-сюэ сюэшо яньгэ сяо
ши» («Краткая история развития экономических учений») — первая
написанная китайцем история западной экономической мысли (от Древней Греции и Рима до
меркантилистов, физиократов, школы А. Смита и исторической школы в Германии). Она была
основана на «Истории политической экономии» (1885) англичанина Дж.К. Ингрэма, «Путе-
водителе по исследованиям в области политической экономии» (1876, англ. пер. — 1886)
итальянца Л. Косса и работе японца Иноуэ Тацукуро. Перевод Янь Фу давал лишь схематичное
представление о западных экономических учениях до и после А. Смита. Работы Лян Ци-чао
восполнили этот пробел, сообщив о теории экономических циклов, трестах, роли предприятий,
социализме и народном капитализме, вопросах производства, обращения, распределения и по-
требления. Лян Ци-чао не согласился с предложенным Янь Фу переводом термина «эконо-
мическая наука» как «цзи-сюэ» («наука о расчете»), полагая более соответствующим «шэнцзи-
сюэ» («наука о способах поддержания жизни»). В изучении западной экономической науки,
помогающей понять причины процветания и гибели государств и народов, он видел вклад
в борьбу Китая за собственное существование. Считая, что богатство государства создают три
компонента — земля, рабочая сила (жэньли) и капитал (цзы цай), Лян Ци-чао указал на взаимо-
связь ренты, платы за наем и прибыли — если плата за наем большая, то прибыль капиталиста
скудная, если зарплата мала, то прибыль большая. Поэтому капиталисты перемещаются туда,
где плата за наем маленькая, ради увеличения прибыли осваивают колонии и проникают в Ки-
тай. С помощью теории порождения и распределения прибыли Лян Ци-чао пытался осмыслить
ключевые проблемы экономического развития Китая и призывал на фоне экспансии иностран-
ного капитала увеличивать богатство государства, используя землю, рабочую силу и националь-
ный капитал.
Заимствование зарубежных теорий, начало преподавания и исследования экономической науки.
Главным стимулом развития экономической науки в Китае стало стремление интеллигенции
использовать зарубежные идеи для укрепления его материальной мощи. В начале XX в. на
основе заимствований из-за рубежа началось формирование и развитие экономической науки
(цзинцзи-сюэ) как специализированной отрасли знания. Насчитывавшая более двухтысячелетий
история традиционной экономической мысли (цзинцзи сысян) опиралась на высказывания об
экономических проблемах древних мудрецов, императорские указы, предложения реформато-
ров и т.д. (см. Цзин цзи вт. 1). Исследователь истории экономической мысли Чжао Най-туань
отмечал, что в древнем Китае процветала «наука управления миром» (цзин ши нжи сюэ), вклю-
чавшая в себя политику, право, экономику, образование. У литераторов, историков, философов,
правоведов и политиков, высказывавшихся об управлении миром, присутствовала экономи-
ческая мысль, но не в виде целостной системы, поэтому их следует называть не экономистами,
а «специалистами по управлению миром» (цзинши-сюэцзя).
В конце XIX — начале XX в. интеллигенцию знакомили с экономическими идеями Запада
мыслители с широким кругозором (Лян Ци-чао, Янь Фу), которые понимали их важность для
усиления и обогащения страны, но не обладали глубокими систематическими познаниями
в этой сфере. Главным отличием экономической мысли республиканского периода от последних
десятилетий династии Цин стали ее профессионализация, освоение навыков экономического
анализа, использование строгих методологических стандартов и незнакомой прежде термино-
логии. По подсчетам Ху Цзи-чуана, за четыре десятилетия до «движения 4 мая» 1919 г. в Китае
было издано около 40 работ по экономической науке. До 1900 г. появились лишь три книги,
составленные на основе записей лекций, которые читали иностранцы, с 1900 по 1911 г. — 16 или
17 работ, с 1911 по 1919 г. — около 20.
В начале XX в. получило развитие экономическое образование, в 1912 г. в Пекинском универ-
ситете был создан первый экономический факультет, затем отделения коммерции или эконо-
мические факультеты открылись в Фуданьском (Шанхай), Яньцзинском (Пекин) и Сямэньском
университетах, Нанкинской высшей школе педагогики. Курсы по экономике затрагивали не
только общую теорию, но и финансы, бухгалтерский учет, банковское дело, страхование. Мно-
гие студенты знакомились с западной мыслью, изучая экономику в Японии вместе с другими
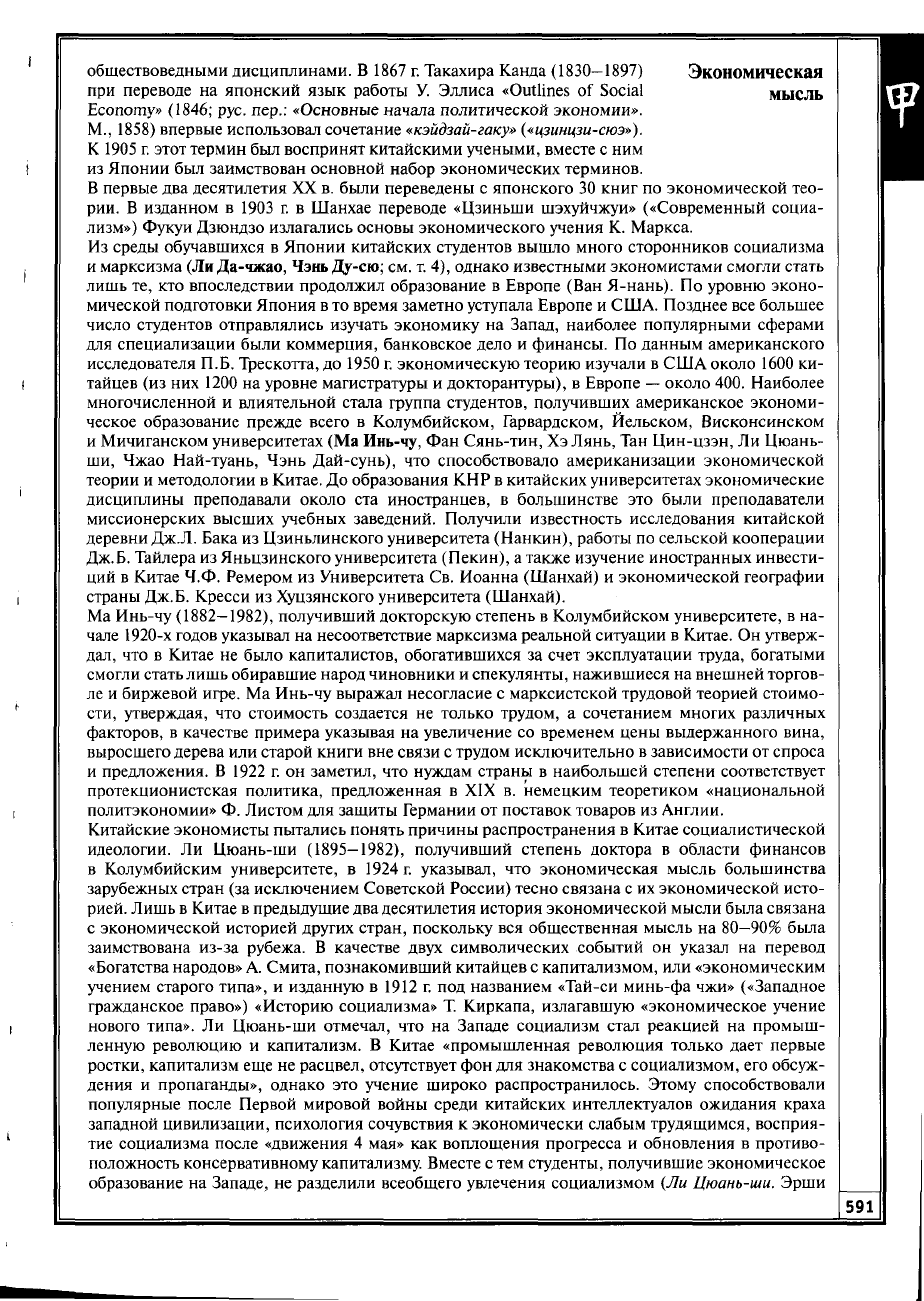
обшествоведными дисциплинами. В 1867 г. Такахира Канда (1830-1897) Экономическая
при переводе на японский язык работы У. Эллиса «Outlines of Social мысль
Economy» (1846; рус. пер.: «Основные начала политической экономии».
М., 1858) впервые использовал сочетание «кэйдзай-гаку» («цзинцзи-сюэ»).
К 1905 г. этот термин был воспринят китайскими учеными, вместе с ним
из Японии был заимствован основной набор экономических терминов.
В первые два десятилетия XX в. были переведены с японского 30 книг по экономической тео-
рии. В изданном в 1903 г. в Шанхае переводе «Цзиньши шэхуйчжуи» («Современный социа-
лизм») Фукуи Дзюндзо излагались основы экономического учения К. Маркса.
Из среды обучавшихся в Японии китайских студентов вышло много сторонников социализма
и марксизма (Ли Да-чжао, Чэнь Ду-сю; см. т. 4), однако известными экономистами смогли стать
лишь те, кто впоследствии продолжил образование в Европе (Ван Я-нань). По уровню эконо-
мической подготовки Япония в то время заметно уступала Европе и США. Позднее все большее
число студентов отправлялись изучать экономику на Запад, наиболее популярными сферами
для специализации были коммерция, банковское дело и финансы. По данным американского
исследователя П.Б. Трескотта, до 1950 г. экономическую теорию изучали в США около 1600 ки-
тайцев (из них 1200 на уровне магистратуры и докторантуры), в Европе — около 400. Наиболее
многочисленной и влиятельной стала группа студентов, получивших американское экономи-
ческое образование прежде всего в Колумбийском, Гарвардском, Йельском, Висконсинском
и Мичиганском университетах (Ма Инь-чу, Фан Сянь-тин, Хэ Лянь, Тан Цин-цзэн, Ли Цюань-
ши, Чжао Най-туань, Чэнь Дай-сунь), что способствовало американизации экономической
теории и методологии в Китае. До образования КНР в китайских университетах экономические
дисциплины преподавали около ста иностранцев, в большинстве это были преподаватели
миссионерских высших учебных заведений. Получили известность исследования китайской
деревни Дж.Л. Бака из Цзиньлинского университета (Нанкин), работы по сельской кооперации
Дж.Б. Тайлера из Яньцзинского университета (Пекин), а также изучение иностранных инвести-
ций в Китае Ч.Ф. Ремером из Университета Св. Иоанна (Шанхай) и экономической географии
страны Дж.Б. Кресси из Хуцзянского университета (Шанхай).
Ма Инь-чу (1882—1982), получивший докторскую степень в Колумбийском университете, в на-
чале 1920-х годов указывал на несоответствие марксизма реальной ситуации в Китае. Он утверж-
дал, что в Китае не было капиталистов, обогатившихся за счет эксплуатации труда, богатыми
смогли стать лишь обиравшие народ чиновники и спекулянты, нажившиеся на внешней торгов-
ле и биржевой игре. Ма Инь-чу выражал несогласие с марксистской трудовой теорией стоимо-
сти, утверждая, что стоимость создается не только трудом, а сочетанием многих различных
факторов, в качестве примера указывая на увеличение со временем цены выдержанного вина,
выросшего дерева или старой книги вне связи с трудом исключительно в зависимости от спроса
и предложения. В 1922 г. он заметил, что нуждам страны в наибольшей степени соответствует
протекционистская политика, предложенная в XIX в. немецким теоретиком «национальной
политэкономии» Ф. Листом для защиты Германии от поставок товаров из Англии.
Китайские экономисты пытались понять причины распространения в Китае социалистической
идеологии. Ли Цюань-ши (1895—1982), получивший степень доктора в области финансов
в Колумбийским университете, в 1924 г. указывал, что экономическая мысль большинства
зарубежных стран (за исключением Советской России) тесно связана с их экономической исто-
рией. Лишь в Китае в предыдущие два десятилетия история экономической мысли была связана
с экономической историей других стран, поскольку вся общественная мысль на 80—90% была
заимствована из-за рубежа. В качестве двух символических событий он указал на перевод
«Богатства народов» А. Смита, познакомивший китайцев с капитализмом, или «экономическим
учением старого типа», и изданную в 1912 г. под названием «Тай-си минь-фа чжи» («Западное
гражданское право») «Историю социализма» Т. Киркапа, излагавшую «экономическое учение
нового типа». Ли Цюань-ши отмечал, что на Западе социализм стал реакцией на промыш-
ленную революцию и капитализм. В Китае «промышленная революция только дает первые
ростки, капитализм еще не расцвел, отсутствует фон для знакомства с социализмом, его обсуж-
дения и пропаганды», однако это учение широко распространилось. Этому способствовали
популярные после Первой мировой войны среди китайских интеллектуалов ожидания краха
западной цивилизации, психология сочувствия к экономически слабым трудящимся, восприя-
тие социализма после «движения 4 мая» как воплощения прогресса и обновления в противо-
положность консервативному капитализму. Вместе с тем студенты, получившие экономическое
образование на Западе, не разделили всеобщего увлечения социализмом (Ли Цюань-ши. Эрши
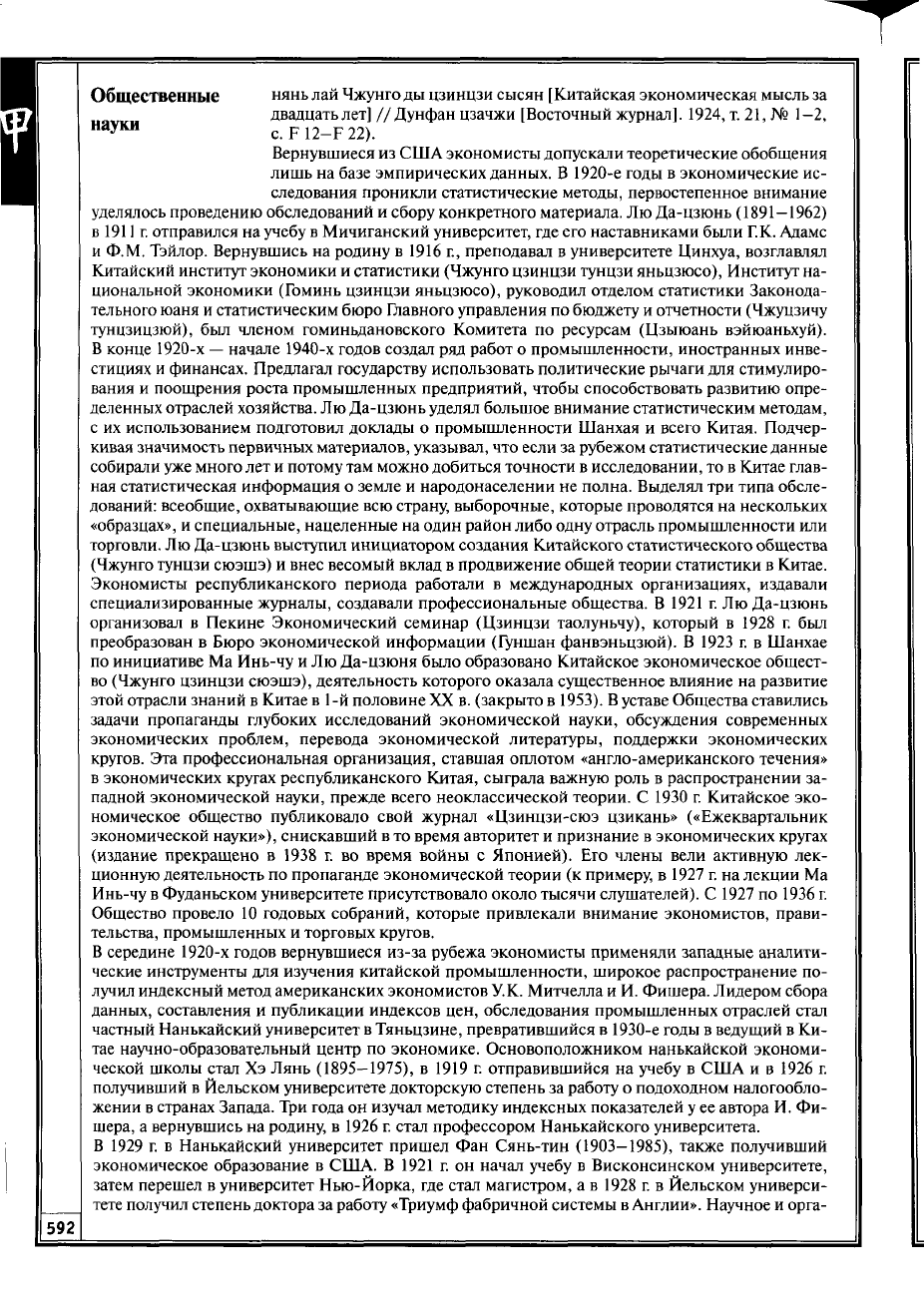
Общественные нянь лай Чжунго ды цзинцзи сысян [Китайская экономическая мысль за
двадцать лет] //Дунфан цзачжи [Восточный журнал]. 1924, т. 21, № 1-2,
НауКИ
с. Б 12—Р 22).
Вернувшиеся из США экономисты допускали теоретические обобщения
лишь на базе эмпирических данных. В 1920-е годы в экономические ис-
следования проникли статистические методы, первостепенное внимание
уделялось проведению обследований и сбору конкретного материала. ЛюДа-цзюнь (1891—1962)
в 1911 г. отправился на учебу в Мичиганский университет, где его наставниками были Г.К. Адаме
и Ф.М. Тэйлор. Вернувшись на родину в 1916 г., преподавал в университете Цинхуа, возглавлял
Китайский институт экономики и статистики (Чжунго цзинцзи тунцзи яньцзюсо), Институт на-
циональной экономики (Гоминь цзинцзи яньцзюсо), руководил отделом статистики Законода-
тельного юаня и статистическим бюро Главного управления по бюджету и отчетности (Чжуцзичу
тунцзицзюй), был членом гоминьдановского Комитета по ресурсам (Цзыюань вэйюаньхуй).
В конце 1920-х — начале 1940-х годов создал ряд работ о промышленности, иностранных инве-
стициях и финансах. Предлагал государству использовать политические рычаги для стимулиро-
вания и поощрения роста промышленных предприятий, чтобы способствовать развитию опре-
деленных отраслей хозяйства. Лю Да-цзюнь уделял большое внимание статистическим методам,
с их использованием подготовил доклады о промышленности Шанхая и всего Китая. Подчер-
кивая значимость первичных материалов, указывал, что если за рубежом статистические данные
собирали уже много лет и потому там можно добиться точности в исследовании, то в Китае глав-
ная статистическая информация о земле и народонаселении не полна. Выделял три типа обсле-
дований: всеобщие, охватывающие всю страну, выборочные, которые проводятся на нескольких
«образцах», и специальные, нацеленные на один район либо одну отрасль промышленности или
торговли. Лю Да-цзюнь выступил инициатором создания Китайского статистического общества
(Чжунго тунцзи сюэшэ) и внес весомый вклад в продвижение общей теории статистики в Китае.
Экономисты республиканского периода работали в международных организациях, издавали
специализированные журналы, создавали профессиональные общества. В 1921 г. ЛюДа-цзюнь
организовал в Пекине Экономический семинар (Цзинцзи таолуньчу), который в 1928 г. был
преобразован в Бюро экономической информации (Гуншан фанвэньцзюй). В 1923 г. в Шанхае
по инициативе Ма Инь-чу и Лю Да-цзюня было образовано Китайское экономическое общест-
во (Чжунго цзинцзи сюэшэ), деятельность которого оказала существенное влияние на развитие
этой отрасли знаний в Китае в
1
-й половине XX в. (закрыто в 1953). В уставе Общества ставились
задачи пропаганды глубоких исследований экономической науки, обсуждения современных
экономических проблем, перевода экономической литературы, поддержки экономических
кругов. Эта профессиональная организация, ставшая оплотом «англо-американского течения»
в экономических кругах республиканского Китая, сыграла важную роль в распространении за-
падной экономической науки, прежде всего неоклассической теории. С 1930 г. Китайское эко-
номическое общество публиковало свой журнал «Цзинцзи-сюэ цзикань» («Ежеквартальник
экономической науки»), снискавший в то время авторитет и признание в экономических кругах
(издание прекращено в 1938 г. во время войны с Японией). Его члены вели активную лек-
ционную деятельность по пропаганде экономической теории (к примеру, в 1927 г. на лекции Ма
Инь-чу в Фуданьском университете присутствовало около тысячи слушателей). С 1927 по 1936 г.
Общество провело 10 годовых собраний, которые привлекали внимание экономистов, прави-
тельства, промышленных и торговых кругов.
В середине 1920-х годов вернувшиеся из-за рубежа экономисты применяли западные аналити-
ческие инструменты для изучения китайской промышленности, широкое распространение по-
лучил индексный метод американских экономистов У.К. Митчелла и И. Фишера. Лидером сбора
данных, составления и публикации индексов цен, обследования промышленных отраслей стал
частный Нанькайский университет в Тяньцзине, превратившийся в 1930-е годы в ведущий в Ки-
тае научно-образовательный центр по экономике. Основоположником нанькайской экономи-
ческой школы стал Хэ Лянь (1895—1975), в 1919 г. отправившийся на учебу в США и в 1926 г.
получивший в Йельском университете докторскую степень за работу о подоходном налогообло-
жении в странах Запада. Три года он изучал методику индексных показателей у ее автора И. Фи-
шера, а вернувшись на родину, в 1926 г. стал профессором Нанькайского университета.
В 1929 г. в Нанькайский университет пришел Фан Сянь-тин (1903—1985), также получивший
экономическое образование в США. В 1921 г. он начал учебу в Висконсинском университете,
затем перешел в университет Нью-Йорка, где стал магистром, а в 1928 г. в Йельском универси-
тете получил степень доктора за работу «Триумф фабричной системы в Англии». Научное и орга-
