Бочкарева Н.С., Пикулева И.А. (Общ. ред.) Пограничные процессы в литературе и культуре: Сборник статей по материалам Международной научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Василия Каменского (17-19 апреля 2009 г.)
Подождите немного. Документ загружается.


230
конца музыкально в своей еще нерешительной и
первоначальной живописности» [Там же: 409]. Му-
зыкальность, интерпретируемая Пейтером как выс-
шая гармония, становится у Муратова свидетельст-
вом слабости и меланхолии.
Таким образом, все эссеисты вслед за поэтом
Россетти отмечают мотивы воды и музыки в литера-
турной интерпретации «Сельского концерта», ак-
центируя внимание на разных персонажах и по-
разному интерпретируя их функции. Если Россетти
пытается проследить за взглядом обнаженной с
флейтой, то Пейтер вместе с женщиной с кувшином
прислушивается к звукам музыки и воды. Уайльд
девушку с флейтой считает любовницей второго
юноши, а Муратов – подругой лютниста.
Пейтер использует «Сельский концерт» в каче-
стве примера жанра «живописной идиллии или по-
эмы» («painted idylls» или «painted poems»), создате-
лем которого, по мнению критика, являлся венеци-
анский художник, а Россетти в заголовок сонета
выносит название жанра («a Venetian Pastoral»).
Восхищаясь картиной Джорджоне, Россетти и Пей-
тер видят в ней круговое движение воды и музыки, в
то время как Уайльд и Муратов, предпочитая по-
эзию живописи, подчеркивают статичность «Сель-
ского концерта», на котором кувшин никогда не
наполнится водой. Поэтому в описании Россетти и
Пейтера пейзаж Джорджоне пронизан влагой, а в
описании Уайльда и Муратова – золотом жаркого
полдня.
—————
Проблема атрибуции луврской картины актуальна
и для сегодняшнего дня. С одной стороны, в совре-
менных энциклопедиях и учебных пособиях по ис-
кусству Возрождения «Сельский концерт» Джорд-
жоне традиционно считают несомненным шедевром
мастера [Власов 2000; Бочкарева 2003; Мосин 2007],
а с другой – появляются новые исследования, в ко-
торых это знаменитое произведение приписывают
Тициану: «Знаменитое произведение, долго припи-
сывавшееся Джорджоне» принадлежит Тициану, так
как «только ему свойственна такая глубокая и соч-
ная колористика», «живость и естественность изо-
бражения как человеческих фигур, так и пейзажей»
[Баттилотти 2000: 11]; «В настоящее время “Сель-
ский концерт” из Лувра окончательно связали с
именем молодого Тициана [Дажина 2006: 303]. Тре-
тья точка зрения представлена, в частности, в книге
канадской исследовательницы МакСуини: «It is now
known to have been begun by him [Giorgione] but fi-
nished by his younger contemporary Titian» / Сейчас
стало известно, что картина была начата им
[Джорджоне], но закончил ее его молодой совре-
менник Тициан [McSweeney 2007: 38] (пер. и курсив
наш. – К.З., Н.Б.).
Рассмотрим, например, абсолютно противополож-
ные интерпретации картины «Сельский концерт»,
представленные в работах двух крупнейших рос-
сийских искусствоведов Б.Р.Виппера (1888–1967) и
В.Н.Лазарева (1897–1976).
В книге Б.Р.Виппера «Проблема и развитие на-
тюрморта» (1922) творчество Джорджоне рассмат-
ривается в контексте широкого распространения в
Венеции открытий Леонардо да Винчи в области
светотени. Автор отмечает, что именно в этом горо-
де изобретатель сфумато нашел «своих духовных
учеников и последователей» и в качестве «лучшего
примера» приводит луврский «Концерт» Джорджо-
не. Исследователь акцентирует внимание на бессю-
жетности картины: «до удивительности лишена сю-
жета, лишена всякой логики событий, если так мож-
но сказать, жизненной логики (что сказалось, хотя
бы в близком сочетании нагих и одетых фигур)», – и
находит этому двоякое объяснение, которое заклю-
чается, с одной стороны, в смелости изображения
художником «интимной, домашней сцены» в пейза-
же, а с другой – в оригинальной компоновке «общих
красочных и световых сочетаний». «Игнорируя вся-
кое действие, художник развернул перед нами не-
обыкновенное богатство выражения как будто од-
ними только контрастами материи, нагого тела и
мягкой зелени, брошенными в рассеянном свете».
Однако автор и сам как будто полон сомнений по
поводу изображенного на картине, где «словно все
напряженно прислушиваются к какой-то внутренней
мелодии, к готовым отлететь звукам» [Виппер 2005:
285,286,295]. Исследователь, как нам кажется, ин-
терпретирует музыкальность Джорджоне в духе
П.Муратова как «меланхолическую бездействен-
ность». Естественно в этой связи упомянуть о двух-
томнике изданных в 1977 г. рукописях лекций
Б.Р.Виппера по искусству итальянского Ренессанса,
куда вошла, в частности, и глава по творчеству
Джорджоне, в которой автор, обращаясь к эссе
П.Муратова «На родине Джорджоне», заимствует
как целые абзацы из эссе, посвященные размышле-
ниям критика о «джорджонизме», так и отдельные
фразы из экфрасиса картины «Сельский концерт»:
«…девушка поднимает к губам флейту, а другая –
наклоняется к колодцу, чтобы зачерпнуть воды в
стеклянный кувшин. Но, кажется, никогда кувшин
не наполнится водой и никогда флейта не коснется
губ обнаженной пастушки» [Виппер 1977: 169]. Ср.
у Муратова: «… и не оставят ее легко касающиеся
пальцы краев каменного колодца, и не наполнится
водой ее стеклянный кувшин» [Муратов 2005: 408].
В.Н.Лазарев в книге «Старые итальянские масте-
ра» (1972) в отдельной главе по творчеству Джорд-
жоне убедительно показывает, что художник «по-
добно современным ему поэтам, воспевавшим кра-
соты сельской жизни, дал пасторальную сцену».
Автор обращается к поэме «Аркадия» («Arcadia»)
венецианского поэта Якопо Саннаццаро (1458-
1530), утверждая, что образы пастухов и пастушек
Джорджоне заимствовал из этого произведения,
«“где описывается расположенная над входом в
храм фреска (?) с изображением лесов и холмов ис-
ключительной красоты, полных ветвистых деревьев
и тысячи различных цветов, среди которых пасутся
стада” пастухов, либо доящих скот, либо настри-
гающих шерсть, либо играющих на свирелях, либо
поющих. И тут же упоминаются обнаженные нимфы
и сатиры, а также античные боги и в их числе Вене-
ра, обращенная спиною к зрителю» [Лазарев 1972:
367]. Очевидно, что В.Н.Лазарев пытается дать аде-
кватную трактовку картине, объяснить ее сюжет и
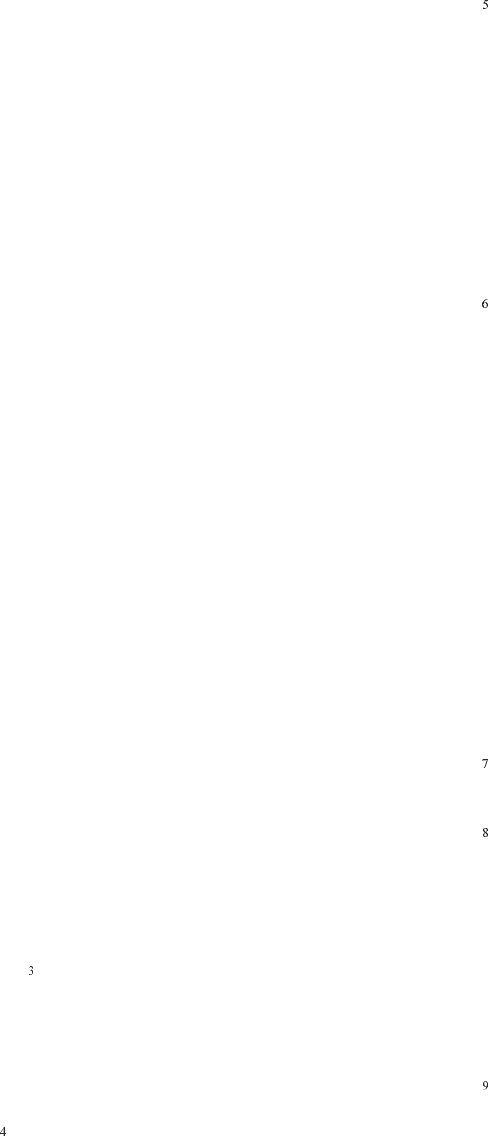
231
расставить по местам всех персонажей: «В центре
сидит горожанин в богатом одеянии, он мечтательно
перебирает струны лютни. Около него расположи-
лись загорелый пастух и обнаженная нимфа со сви-
релью. Слева представлена еще одна обнаженная
нимфа: она медленно льет воду из хрустального
кувшина… Пастух и нимфа как бы призывают его
[горожанина] покинуть город и удалиться вслед за
ними в тенистые, прохладные леса». Однако автор,
не будучи столь категоричен в своих заявлениях по
поводу сюжета картины, в заключительных строках,
посвященных ей, отмечает, что «содержание лувр-
ского “Концерта” настолько богато и многозначно,
что оно побуждает у зрителя множество различных
чувств. Перед картиной Джорджоне хочется помеч-
тать, в связи с ней рождаются десятки ассоциаций,
которые, нанизываясь одна на другую, немало обо-
гащают эстетическое восприятие» [Лазарев 1972:
368].
Таким образом, если Б.Р.Виппер утверждает, что
художник «изобразил интимную домашнюю сцену,
но поместил ее не в комнате, а на вольном воздухе,
в пейзаже» [Виппер 2005: 285] и видит в этом не
только смелый поступок живописца, но и пророче-
ское предвосхищение творчества Э.Мане и импрес-
сионистов, то В.Н.Лазарев отмечает, что речь здесь
идет исключительно о пасторальной сцене, распро-
страненной в литературе и живописи этого периода.
Если один исследователь узнает в изображенных
женских фигурах девушек, и подчеркивает их наго-
ту, то другой – предпочитает видеть в них мифоло-
гических существ – нимф [Лазарев 1972: 367]. Автор
«Старых итальянских мастеров» акцентирует вни-
мание на активных действиях персонажей (играют
на лютне, льют воду, ведут между собой диалоги),
переводя, таким образом, картину из области искус-
ства изобразительного, вневременного, в область
искусства словесного, то есть временного. Он под-
черкивает «сюжетность» и «содержательность» кар-
тины Джорджоне, отражающей события венециан-
ской сельской жизни и воплощающей мечту ренес-
сансных людей о Золотом веке.
В то время как Б.Р.Виппер интерпретирует му-
зыкальность Джорджоне как «меланхолическую
бездейственность» в духе П.Муратова (хотя и ни
разу не упоминает об эмигрировавшем русском пи-
сателе), то В.Н.Лазарев дважды цитируя в своей
статье размышления английского писателя
У.Пейтера о музыкальности венецианского худож-
ника трактует вслед за ним музыкальность Джорд-
жоне как гармонию человека и природы.
В 1850 г. по предложению Россетти начал изда-
ваться журнал «Джерм» («Росток»), который пре-
кратил свое существование после выхода четырех
номеров. В «Джерме» господствовала идея взаимо-
действия поэзии и живописи, «стихи и гравюры в
этом журнале были едины по темам» [Аникин 1986:
267, 271].
К.МакСуини, пытаясь определить, что важнее для
истории науки (современные достижения в области
критики искусства или литературное произведение
как таковое) рассматривает экфрастический сонет
Россетти в качестве примера, когда эти два явления
становятся взаимодополняемы. В связи с этим ис-
следовательница указывает на неточности в экфра-
сисе картины, так как второго мужчину с «нечеса-
ными волосами и голыми ступнями» («unkempt hair
and bare feet») кавалером назвать нельзя, это «дере-
венский житель, который пристально смотрит на
лютниста с вежливым восхищением» («is a rustic
who is gazing at the lute-player with attentive admira-
tion») [McSweeney 2007: 38].
Младшему брату поэта-прерафаэлита Уильяму
Майклу Россетти (1829–1919) «принадлежит первая
датировка произведений Россетти. Многие из при-
веденных им дат были впоследствии исправлены
или уточнены исследователями» [Вланес 2005: 383].
Действительно, в оглавлении одной из книг стихов
Россетти под редакцией У.М.Россетти указана дата
первой публикации сонета «К Венецианской пасто-
рали Джорджоне» (1850), а в саму книгу без каких-
либо дальнейших комментариев помещен второй
вариант [Rossetti 1972: xxvii, 684]. Нам известен пе-
ревод первого варианта сонета, осуществленный
М.Квятковской [Россетти 2005б: 239].
Н.И.Соколова в своей книге, посвященной творче-
ству Россетти, анализирует второй вариант сонета,
не упоминая о первой его редакции [Соколова
1995], в то время как канадская исследовательница
К.МакСуини не только обращается к обеим редак-
циям, но и считает, что заключительная строка пер-
вой редакции («Silence of heat, and solemn poetry»)
гораздо предпочтительней («greatly preferable») чем
второй («Life touching lips with Immortality»), так
как, по мнению исследовательницы, эта строка на-
рушила хрупкий баланс («the delicate balance») меж-
ду «ever» и «was» тяжеловесной абстрактной фор-
мулировкой («a ponderous abstract formulation»)
[McSweeney 2007: 39–40]. У.Пейтер видит эволю-
цию творчества Россетти, в отказе от «предельной
искренности» и «конкретности чувственной образ-
ности», свойственным его ранней лирике, и в пере-
ходе к более абстрактным эзотерическим образам,
связанным с «болезненной и стремительно возрас-
тавшей в поэте тягой к смерти» [Патер 2005: 6,7,13].
Это эссе в переводе С.Сухарева открывает сборни-
ки стихотворений Россетти [Россетти 2005а; Россет-
ти 2005б].
«Очаровательные пейзажи, повсюду разбросанные
в его стихах, уголки природы не столько панорам-
ные виды на пленэре, сколько зорко выхваченные
взором художника живописные эффекты – и “впа-
дина, окаймленная туманом” или “обрушенная пло-
тина”, увиденные им из окна или отраженные в од-
ном из зеркал его “дома жизни” (к примеру, виньет-
ки, замеченные Роз-Мари в волшебном берилле),
своей свежестью и простотой свидетельствуют о
силе описаний неодушевленного мира» [Патер 2005:
10].
Эту традицию в XX в. продолжит оксфордский
профессор, писатель и телеведущий Кеннет Кларк
(1903–1983), опубликовавший несколько книг, по-
священных истории искусства, по материалам про-
читанных им лекций. Его произведения «Пейзаж в
искусстве» («Landscape into Art», 1956) и «Нагота в
искусстве» («The Nude: A Study in Ideal Form», 1956)
232
отличает эссеистическая манера изложения. В книге
«Пейзаж в искусстве» автор прослеживает развитие
пейзажной живописи как самостоятельного жанра
от раннего Средневековья до начала XX в. и выде-
ляет несколько разновидностей пейзажа (пейзаж
символов, пейзаж реальности, пейзаж фантазии и
др.). Творчество Джорджоне он рассматривает в
четвертой главе под названием «Идеальный пей-
заж». Исследователь обращает внимание на две кар-
тины художника «Гроза» и «Сельский концерт» и
называет вторую картину «наивысшим выражением
драгоценнейшего момента в истории европейского
духа». Автор с восторгом замечает, что этот момент
«к нашему счастью, трактуется в шедевре художе-
ственной критики – эссе Патера о школе Джорджо-
не». К.Кларк видит новаторство Пейтера в том, что
он первый провел параллель между Джорджоне и
расцветом венецианской музыки и наглядно пока-
зал, что во многих картинах художников его школы
присутствуют музыкальные темы. Автор книги
«Пейзаж в искусстве» считает, что эта музыкаль-
ность и явилась отличительной чертой творческой
манеры венецианского художника от произведений
его младшего современника, и добавляет, что при
сравнении с «Сельским концертом» Джорджоне
обнаруживается «более внешний и материальный
характер чувственности Тициана» [Кларк 2004б:
142, 143].
Вторая книга К.Кларка «Нагота в искусстве» по-
священа истории западноевропейской традиции
изображения обнаженного тела от античности до
начала XX в. В четвертой главе, посвященной изо-
бражению Венеры, автор вновь обращается к интер-
претации У.Пейтером картины Джорджоне «Сель-
ский концерт»: «Как указывал Патер на нескольких
из прекраснейших страниц английской критики, в
“Сельском концерте” перед художником стоит цель
создать настроение с помощью цвета, формы и ас-
социаций. Наше восприятие картины носит характер
чувственный и непосредственный» [Кларк
2004а:145,146]. Кларк сравнивает «Сельский кон-
церт» с поэзией Китса, которая исполнена такой же
простоты, чувственности и страсти, и рассуждает о
невозможности адекватно передать словами изо-
бражаемое на картине.
Список литературы
Аникин Г.В. Эстетика Джона Рескина и англий-
ская литература XIX века. М.: Наука, 1986.
Баттилотти Д. Тициан / пер. с ит. М.Семисская.
М.: Белый город, 2000.
Бочкарева Н.С. Мировая художественная куль-
тура. Для филологов: Уч. изд-е. Ч. I. Пермь: Изд-во
ПГУ, 2003.
Бочкарева Н.С., Загороднева К.В. Эссе «Школа
Джорджоне» в контексте эстетической критики
Уолтера Пейтера // Вестник Пермского университе-
та. 2009. Вып. 2. Сер. Российская и зарубежная фи-
лология. С.70–83.
Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII – XVI
вв. Курс лекций по истории изобразительного ис-
кусства и архитектуры. М.: Искусство, 1977. Т. II.
Виппер Б.Р. Проблема и развитие натюрморта.
СПб.: Азбука-классика, 2005.
Вланес [Комментарии] // Россетти Д.Г. Дом жиз-
ни: Поэзия, проза / пер. с англ. В.Васильева, Влане-
са, Т.Казаковой и др. СПб.: Азбука-классика, 2005.
С.383–523.
Власов В.Г. Большой энциклопедический сло-
варь изобразительного искусства: В 8 т. СПб.: ЛИ-
ТА, 2000. Т. 2.
Гурвич Н.А. К вопросу о творчестве Джорджоне
// Ежегодник института истории искусств / под ред.
И.Э.Грабаря. М.: Академия наук СССР, 1954.
Дажина В.Д. [Примечания] // Патер У. Ренес-
санс. Очерки искусства и поэзии / пер.с англ.
В.Д.Дажиной. М.: Изд. дом Междун. ун-та, 2006.
С.286–314.
Кларк К. Нагота в искусстве / пер. с англ.
М.В.Куренной, И.В.Кытмановой, А.Т.Толстовой.
СПб.: Азбука-классика, 2004а.
Кларк К. Пейзаж в искусстве / пер. с англ.
Н.Н.Тихонова. СПб.: Азбука-классика, 2004б.
Козырева М.А., Тетельман А.И. Диалогизм в
английской критике конца XIX начала XX века
(О.Уайльд, Г.К.Честертон) // Вестник Пермского
университета. 2007. Вып. 2. Сер. Иностранные язы-
ки и литературы. С.34–36.
Лазарев В.Н. Джорджоне // В.Н.Лазарев. Старые
итальянские мастера. М.: Искусство, 1972. С. 355–
403.
Михальская Н.П. Взаимодействие литературы и
живописи в истории культуры Англии // Диалог в
пространстве культуры. М.: Прометей, 2003. С. 151–
164.
Мосин И.Г. Джорджоне // Мировая живопись: От
Джотто до Пикассо. СПб.: ООО СЗКЭО «Кристалл»,
М.: Оникс, 2007. С. 44–45.
Муратов П.П. Образы Италии. / ред. и коммент.
В.Н.Гращенкова. М.: Галарт, 2005. Т. II, III.
Патер У. Данте Габриэль Россетти / пер.
С.Сухарева // Россетти Д.Г. Дом Жизни: Сонеты,
стихотворения. СПб.: Азбука-классика, 2005. С.5-17.
Пейтер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии
/ пер. с англ. С.Займовского под ред. Е.Кононенко.
М.: БСГ-Пресс, 2006.
Россетти Д.Г. Дом жизни: Поэзия, проза / пер. с
англ. В.Васильева, Вланеса, Т.Казаковой. СПб.: Аз-
бука-классика, 2005а.
Россетти Д.Г. Дом Жизни: Сонеты, стихотворе-
ния / пер. с англ. В.Васильева, Вланеса, Т.Казаковой
и др. СПб.: Азбука-классика, 2005б.
Россетти Д.Г. Письма / пер. с англ. Л.Житковой,
Е.Никитиной, М.Квятковской. СПб.: Азбука-
классика, 2005в.
Соколова Н.И. Творчество Данте Габриэля Рос-
сетти в контексте «средневекового возрождения» в
викторианской Англии. М.:МПГУ, 1995.
Уайльд О. Критик как художник // Уайльд О.
Избранные произведения. В 2 т. / пер. с англ.
А.Зверева. М., 1993. Т.2. С.263–322.
Ханжина Е.П. Романтическая поэзия США: жан-
ры, поэтика, стиль. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1998.
Bendz E. The influence of Pater and Matthew Ar-
nold in the prose-writings of Oscar Wilde. Gothenburg:
Folcroft library edition, 1972.

233
Bowra C.M. The romantic imagination. L.: Oxford
University Press, 1961.
McSweeney K. What's the import?: nineteenth-
century poems and contemporary critical practice. Can-
ada: McGill-Queen's Press–MQUP, 2007.
Pater W. Dante Gabriel Rossetti // Pater W. Apprec-
iations with an essay on style. L. and N.Y.: Macmillan
and Co., 1890. P.213-228.
Pater W. The Renaissance. Studies in Art and Poe-
try. Oxford: University press, 1998.
Rossetti D.G. The works / ed., notes by
W.M.Rossetti. Hildesheim, N.Y.: Georg Olms Verlag,
1972.
Wilde O. The critic as artist // Complete works of
O.Wilde. With an introd. by V.Holland. L. and Glas-
gow, 1977. P.1009–1059.
А.А.Житенев (Воронеж)
ЯН ВЕРМЕЕР В ВОСПРИЯТИИ
СОВРЕМЕННЫХ ПОЭТОВ
Влияние живописи на развитие лирики в XX в.
было исключительно велико, но рассматривается
оно обычно только в одном аспекте – аспекте по-
строения новой семиотики. Интермедиальные ис-
следования, как правило, сводятся к идее антимети-
ческого, «остраняющего» преобразования материала
как универсального для эпохи структурного прин-
ципа. Эта закономерность прослеживается на уров-
не образной пластики, позволяющей выявлять еди-
ные «иконические модели» для различных течений
авангардной живописи, с одной стороны, и, с дру-
гой, «орнаментальной» прозы и постсимволистской
лирики [Flaker 1987: 29–31]. Она же убедительно
демонстрируется на речевом уровне, где «фонетиче-
ское разложение слов (аналогичное развертыванию
объемов и пересечение их плоскостями в картинах
кубистов) и непрерывность повторов (ср. прием
протекающей раскраски в живописи) создают со-
вершенно своеобразные эффекты сдвига смысловых
элементов» [Харджиев 1970: 49]. Закономерно, что
и в структурно-типологических исследованиях
влияние живописи на литературную практику XX в.
усматривается, главным образом, в «ослаблении
номинативной и изобразительной функции языково-
го знака» и «динамизации внутренних соотношений
между разными элементами художественного язы-
ка» [Грыгар 2007: 155].
Между тем такое истолкование оказывается су-
женным, не отражающим всех аспектов проблемы.
Так, наряду с многочисленными попытками перено-
са в слово кубистических приемов можно отметить
попытки найти источник инспирации в классике
изобразительного искусства. Примечательна в этом
отношении рецепция в XX в. наследия выдающегося
голландского живописца XVII в. – Яна Вермеера
(1632–1675). Камерность его жанровых работ оказа-
лась для неклассического искусства образцом утра-
ченной гармонии, воплощением недостижимого для
нового века баланса быта и бытия. Деструкция, де-
композиция, диспропорция, выступавшие, начиная с
Д.Бурлюка, ведущими ориентирами художествен-
© А.А.Житенев, 2009
ной практики, требовали «снятия», преодоления,
уравновешивания принципами «гуманизма» (в
смысле Ортеги-и-Гассета). Вермеер в этом отноше-
нии оказался «знаковой» фигурой: в начале XX сто-
летия его «в очередной раз «открыли», и он стал
считаться выдающимся художником», образцом
утраченного синтеза частного и поэтического [Уи-
лок 1994: 45]. В творчестве М.Пруста Вермеер стал
предельным выражением гармонического и бескон-
фликтного мироотношения, для С.Дали он стал ху-
дожником, воплотившим непревзойденный абсолют
живописной техники [Дешарн 1993: 41], в фильмах
П.Гринуэя – фигурой, выразившей трагическое рас-
хождение жизнетворящей потенции творчества и
деструктивного исторического процесса [Кнабе
1997: 245]. Перечень творческих людей, влияние на
которых оказал Я.Вермеер, может быть расширен за
счет современных мастеров слова.
Наиболее развернутый отклик на живопись Яна
Вермеера можно обнаружить в творчестве
А.Кушнера, посвятившего голландскому мастеру и
стихотворный, и эссеистический опыты. Кушнеров-
ское стихотворение 1984 г. инспирировано выстав-
кой картин из Дрезденской галереи, на которой,
среди прочего, была представлена «Девушка, чи-
тающая письмо у открытого окна» (ок. 1657). Для
Кушнера этот образ значим своим особым настрое-
нием, утверждающим непосредственность и безмя-
тежность в качестве важнейших жизненных ценно-
стей, весом особой поэтичностью частной жизни:
«Неужели в глаза мои хлынет жемчужный свет, /
напоенный голландской, приморской и мглистой
влагой? / Баснословная скатерть и в кнопочках та-
бурет; / или кресло? С почтовой в руках замерев
бумагой. /<…>/ Жить в семнадцатом веке, не подоз-
ревать о том, / как изменится жизнь через два или
три столетья, / и прельщать так и радовать этим
цветным стеклом, / этим воздухом теплым, как жи-
молостные соцветья…» [Кушнер 2000: 364] Суще-
ственны в этом тексте и очевидный контраст исто-
рических эпох, и разительное несовпадение миро-
пониманий. При всем этом сам текст вполне соотно-
сим с расхожими клише советского искусствозна-
ния, ставившими Вермееру в заслугу внимание к
«реальной жизни», ее «самым непритязательным
мотивам», облагороженным своеобразным «пленэ-
ризмом» и «вещественной убедительностью», но не
отражающим «сферу труда, активной деятельности
человека» [Вермеер 1983: 4–10]. А.Кушнер в этом
плане только меняет акценты, но не саму систему
координат, вписывая художника в свое представле-
ние о сфере частного бытия как противовесе фаль-
шивому официозу и социальности.
Эссе «Дельфтский мастер» (1998), написанное по
следам амстердамских и дельфтских впечатлений,
более глубоко и многогранно, чем ранний поэтиче-
ский текст. Основных смысловых линий в нем не-
сколько. Во-первых, это «знаковая» для А.Кушнера
идея уюта как воплощения ценностно упорядочен-
ного повседневного пространства. «Очеловечен-
ность» мира – важнейший показатель развитости
культуры, и поэт снова и снова акцентирует способ-
ность «ходить всю жизнь вокруг одних и тех же ве-
234
щей», весомость «никогда не надоедающей бессю-
жетной пьесы о земной радости и веселье» [Кушнер
2000: 339, 343]. Во-вторых, существенна для кушне-
ровского эссе идея определенности отношением к
бытовому пространству сложных культурных форм.
Противопоставление европейского мира, в котором
улица является продолжением интерьера, и вечного
российского «сортира в парадной», культурологиче-
ски значимо. «Метла на одной из картин Вермеера»
– «обдуманное изобретение с длинной черной лаки-
рованной ручкой и расположенной по окружности
метущей частью» [Кушнер 2000: 357] – оказывается
зримым воплощением цивилизационного разрыва.
В-третьих, поэт акцентирует связь между протес-
тантской религиозностью и трудом, в качестве кон-
траста обозначая вошедшее в кровь русского чело-
века отвращение к созиданию. Все цивилизацион-
ные срывы, весь катастрофизм отечественной исто-
рии оказываются увязаны Кушнером с профанно-
стью труда: «Там, где сажают деревцо и моют мос-
товые щеткой, там дорожат жизнью и умеют без
надрыва радоваться ей» [Кушнер 2000: 358].
Живопись Вермеера, таким образом, оказывается
основанием для выводов цивилизационного и куль-
турологического порядка, материалом для уточне-
ния собственных мировоззренческих оснований.
Одновременно свойственные ей семиотические ко-
ды переносятся в область художественного творче-
ства, и разговор о живописи незаметно превращает-
ся в разговор о стихах [Кушнер 2000: 338]. Кушнер
«вчитывает» в Вермеера значимые для себя смыслы,
модернизирует его логику и, благодаря этому, чер-
пает в ней легитимацию для собственных художест-
венных поисков. В результате возникает ряд абер-
раций, устанавливающих дистанцию между искус-
ствоведческой реальностью и реальностью поэтиче-
ского автометаописания.
Так, вопреки намерениям живописца, Кушнер
последовательно игнорирует иносказательный план
его работ. Всякая аллегория, с точки зрения поэта, –
дурной тон, художническая слабость. Поэтому все
«картины в картине» он отрицает, предпочитая рас-
сматривать их как декоративные пятна: вглядываясь
в картину, «мы игнорируем аллегорический смысл»;
«художник словно не вполне еще доверял себе, спе-
цифике своего искусства, искал для живописи оп-
равдания в слове, в идее» [Кушнер 2000: 337]. Меж-
ду тем, как свидетельствуют искусствоведческие
разыскания, вне аллегоризма и эмблематизма жан-
ровые работы Вермеера просто не могли состояться:
«сознательно усложняя символику своих произве-
дений, Вермер шел по тому же пути, что и авторы
многочисленных иллюстрированных сборников
эмблем», его интересовали полотна-шарады, изо-
бражения-ребусы [Уилок 1994: 41].
Стремление к «деидеологизации» Вермеера на-
ходит свое продолжение в акцентировании мимети-
ческих эффектов его живописи, в сведении к ним
всей полноты художественной содержательности:
«Душа художника обращается к нам непосредствен-
но через цвет: такого синего … такого алого … та-
кого желтого … больше нам нигде не найти» [Куш-
нер 2000: 337]. Однако, как показывают специаль-
ные исследования, сами миметические эффекты яв-
лялись результатом использования новейших тех-
нических средств и творческого переосмысления
получаемого с их помощью изображения. Вермеер,
в частности, широко использовал эффекты камеры-
обскуры, но, делая это, «не следовал механически
образу, полученному с ее помощью, но … коррек-
тировал формы, приспосабливая их к задуманной
композиции» [Уилок 1994: 100]. Иными словами,
сама фактура живописи являлась у художника про-
дуктом тонкого расчета, а не иррациональной любви
к цвету и свету.
В результате аберраций у Кушнера возникает
образ непосредственного, но глубокого мастера,
сумевшего найти способ для поэтизации повседнев-
ности, для оправдания «провинциальности» и доб-
ровольно отказавшегося от «судьбы» с ее ложным
пафосом. «Ощущение опрятности, праздничности и
душевной чистоты», «старины и благополучия»,
производимое его картинами, оказывается разитель-
ным контрастом к российской современности, к
«развороченной гусеничными тракторами, изуродо-
ванной буровыми вышками, отравленной заводски-
ми выбросами … земле» [Кушнер 2000: 353], и зна-
чимо как ее отрицание, как свидетельство возмож-
ности выйти к «мировой культуре» из любой исто-
рической бездны.
Поэма «Вермеер» Е. Рейна (1989) тесно привяза-
на к биографии героя и в качестве сюжетного «зер-
на» имеет встречу в амстердамском музее с карти-
ной «Женщина в голубом, читающая письмо» (ок.
1662–1664). Образ Вермееровской героини напоми-
нает герою Рейна черты его возлюбленной, что при-
водит в движение механизмы личной памяти и про-
дуцирует рефлексию о превратности бытия. Верме-
ер в этом контексте играет второстепенную роль,
его образ типологически обобщен, сведен к образу
«старого мастера», работа которого, будучи совер-
шенна, вытесняет и «отменяет» внехудожественную
реальность: «Я говорю «Марсель, / вот Александр
Великий». / И мы глядим отсель / на Дельфт, почти
безликий, / поскольку он теперь / Вермеера творе-
нье, / и нам открыта дверь / в одно столпотворенье»
[Рейн 2004: 174]. Герой Е.Рейна оказывается в по-
ложении аутсайдера, «барахольщика», «проиграв-
шего», и картина Вермеера значима для него как
смысловой фокус всей жизни, разгадка фатальных
событий: «А прочем, это так, а впрочем, так и надо.
/ Виват, мой кавардак, победа и блокада! / Все это
ничего. Ни спазма, ни азарта, / а вот взамен всего –
улыбка Леонардо. / Но как тебя сумел так написать
Вермеер? / Изобразить судьбу, твое письмо и веер, /
загадочный чертеж на этой старой стенке / и разга-
дать твои загадки и расценки?» [Рейн 2004: 190].
Фигура Вермеера, тем самым, соединяет два образа
искусства: искусство-познание и искусство-
катарсис, приближая героя к самопостижению и
помогая преодолеть утраты. Эта идея отчетливо
звучит в финале поэмы, где все нереализованные
жизненные возможности отступают в тень перед
навсегда сложившейся судьбой: «Ты обручен с этой
жизнью одной, / с ней ты повязан, чужой и родной, /

235
крепкие цепи на наших руках, / в этом вертепе – все
счастье, все прах» [Рейн 2004: 196].
Стихотворение Л.Лосева «В амстердамской га-
лерее» (между 1977 и 1985) в большей степени, не-
жели тексты А.Кушнера и Е.Рейна, тематически
приближено к Вермееру, но вместе с тем едва ли не
далее их отстоит от непосредственного зрительного
впечатления. Элементы зрительного ряда, перечис-
ленные Лосевым, и формально, и по сути передают
суммарное впечатление от полотен художника, от-
сылая не столько к вермееровскому залу в Рейксму-
зеуме, сколько к художественному альбому, где есть
и «Бокалы вина», и «Концерты» в разных вариантах,
и «Вид Дельфта». Главное в том впечатлении, кото-
рое призван передать лосевский текст – содержа-
тельно наполненное переживание времени, помно-
женное на ощущение ирреальности происходящего:
«На руках у дамы умер веер. / У кавалера умолкла
лютня. / Тут и подкрался к ним Вермеер, / тихая са-
па, старая плутня. / Свет – но как будто не из окош-
ка. / Европа на карте перемешалась. / Семнадцатый
век – но вот эта кошка / утром в отеле моем ошива-
лась» [Лосев 2000: 62]. Искусство настолько полно
вбирает в себя жизнь, что останавливает время,
«растягивает» его, внушает представление о без-
мерности бытия и бессмертии человека: «Как удли-
нился мой мир, Вермеер, / я в Оостенде жраал ууст-
риц, / видел прелестниц твоих, вернее, / чтения пи-
сем твоих искусниц. / Что там в письме, не memento
ли mori? / Все там будем. Но серым светом / с карты
Европы бормочет море: / будем не все там, будем не
все там» [Лосев 2000: 62]. Такого рода режим обще-
ния с феноменом искусства задает особое видение
времени, позволяя одновременно помнить о его ли-
нейном течении и пребывать в остановленном мгно-
вении: «В зале твоем я застрял, Вермеер, / как бы
баркас, проходящий шлюзы. / Мастер спокойный,
упрятавший время / в имя свое, словно в складки
блузы. / Утро. Обратный билет уже куплен. / Поезд
не скоро, в 16.40. / Хлеб надломлен. Бокал пригуб-
лен. / Нож протиснут меж нежных створок» [Лосев
2000: 62].
Обзор основных текстов, связанных в современ-
ной лирике с творчеством Яна Вермеера, позволяет
сделать несколько очевидных выводов. Причин по-
вышенного внимания к художнику, насколько мож-
но судить, несколько. Это, во-первых, реабилитация
частного бытия, его противопоставление как идео-
логической сфере, так и сфере социума в целом.
Немаловажным обстоятельством, во-вторых, следу-
ет признать модернистскую ностальгию по пласти-
ческой гармонии, по балансу замысла и воплоще-
ния, формы и содержания. В-третьих, существен-
ным стимулом к освоению вермееровского наследия
является потребность в ценностном насыщении по-
вседневности, эстетизации быта. Вместе с тем ни
одна попытка приблизиться к Вермееру не может
быть признана в полной мере состоявшейся: этому
препятствуют либо аберрации восприятия, либо ха-
рактер поэтического замысла. При всем этом живо-
пись Вермеера и его творческая судьба оказываются
важным стимулом для формулирования значимых
элементов автометаописания в современной литера-
туре, прояснения базовых представлений о поэзии и,
шире, о возможностях искусства.
Список литературы
Грыгар М. Кубизм и поэзия русского и чешского
авангарда // Грыгар М. Знакотворчество. Семиотика
русского авангарда. СПб., 2007. С. 139–185.
Дешарн Р., Дешарн Н. Сальвадор Дали. М., 1993.
Кнабе Г. Проблема постмодерна и фильм Питера
Гринуэя «Брюхо архитектора» // Искусство XX века:
уходящая эпоха? Сб. статей. Нижний Новгород,
1997. С. 232–258.
Кушнер А. С. Пятая стихия. М., 2000.
Лосев Л. Собранное: Стихи. Проза. Екатерин-
бург, 2000.
Рейн Е. После нашей эры. М., 2004.
Уилок К. Артур. Ян Вермер [Альбом]. СПб.,
1994.
Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура
Маяковского. М., 1970.
Ян Вермеер Дельфтский [Альбом] / авт-сост.
Е.И.Ротенберг. М., 1983.
Flaker A. Литература и живопись // Russian Lite-
rature. 1987. Vol. XXI/I. P. 25–36.
А.Х.Сатретдинова (Астрахань)
ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
ПОЭЗИИ БРЮСОВА
С ВИЗУАЛЬНЫМИ ИСКУССТВАМИ
Для искусства начала XX в. характерно стремле-
ние к взаимопроникновению разнообразных явле-
ний русской культуры. В это время в художествен-
ном сознании была широко распространена идея
синтеза искусств, направленная на поиск новых
форм художественной деятельности. Синтез мыс-
лился как первоочередная задача эпохи, как один из
важных путей постижения и разрешения вселен-
ских, мистических и эсхатологических вопросов.
Вяч. Иванов признавался: «Синтеза возжаждали мы
прежде всего» [Иванов 1905: 37].
Особенностью поэтики В.Брюсова является ас-
социативность мышления, синтетичность поэтиче-
ских форм и жанров, включение в художественное
пространство разных видов искусства. В поэзии
Брюсова обнаруживаются интермедиальные связи с
визуальными видами искусства: живописью,
скульптурой, архитектурой. Для художественного
метода Брюсова характерна установка на живопис-
ность, изобразительность слова. Поэту присуще
особое цветовое восприятие мира, поэтому нередко
его стихи запоминаются в виде цвето-звуковых ак-
кордов.
К закономерностям живописи Брюсов обращает-
ся в книге стихов «Семь цветов радуги». Живопис-
ные картины обнаруживаются в стихотворных цик-
лах («На Сайме») и в отдельных произведениях
(«Вешние воды», «Охотник», «Вечер над морем»,
«Ранняя весна», «Вечерние пеоны» и др.). Как будто
мазками кисти рисует поэт «ряд картин, и близких и
далеких»:
Желтым шелком, желтым шелком
© А.Х.Сатретдинова, 2009
236
По атласу голубому
Шьют невидимые руки.
К горизонту золотому,
Ярко-пламенным осколком
Сходит солнце в час разлуки
[Брюсов 1973, 1: 378].
Живописные изображения у Брюсова иногда яв-
ляются источником тропов. С помощью живопис-
ной образности поэт выражает основное содержание
поэзии, ее многоликость и динамичность. Поэтиче-
ская живописность у Брюсова, как правило, усили-
вает смысловую насыщенность художественного
образа. Показательно в этом плане одно из ранних
стихотворений – «Творчество» (1895), в котором с
помощью живописных приемов автор стремится
передать собственное мироощущение:
Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине…
Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне…
Звуки реют полусонно,
Звуки ластятся ко мне
[Там же: 35].
Некоторые поэтические тексты Брюсова вызва-
ны экфрастическим импульсом, и поэт стремится
«перевести» на язык поэзии выразительные возмож-
ности языка живописи. Так, в стихотворении
«Раньше утра» художественный синкретизм пред-
ставлен в описании ночного города:
Недвижные дома – как тысячи могил…
Там люди трупы спят, вдвоем и одиноко.
То навзничь, рот открыв, то ниц – на животе,
Но небо надо мной глубоко и высоко,
И даль торжественна в открытой наготе!
[Там же: 328].
В поэтических текстах Брюсов часто прибегал к
приему цветовой синтезии, иногда несовместимой:
«тот ал, тот синь, тот бледно-бел», «зеленый, алый,
странно-синий», «молочно-голубой». В поэзии Брю-
сова преобладают синие, голубые, золотые цвета.
Цветовые аналогии приводят к картинам Врубеля.
Но не только близость в цветовом восприятии объе-
диняет Врубеля и Брюсова. Некоторые детали и об-
разы вызывают ассоциации с произведениями ху-
дожника, очевидно и сходство их мироощущения.
Врубель является автором знаменитого портрета
Брюсова. Известно, что поэт им очень гордился. В
очерке «Последняя работа Врубеля» он писал: «По-
сле этого портрета мне других не нужно. И я часто
говорю, полушутя, что стараюсь остаться похожим
на свой портрет, сделанный Врубелем» [Брюсов
1912: 23].
В стихотворении «М.А.Врубелю» (1906) присут-
ствуют образы картин художника. Брюсов не вводит
в структуру текста заглавия картин Врубеля, он
строит свое произведение по принципу монтажных
комбинаций фрагментов, деталей, образов, мотивов
его картин, образуя пастиш. Аллюзия на образ шес-
тикрылого серафима содержится в строчке: «К тебе
нисходят Серафимы». Здесь же содержится намек
на картину «Демон поверженный»:
И в час на огненном закате
Меж гор предвечных видел ты,
Как дух величий и проклятий
Упал в провалы с высоты
[Брюсов 1973,1: 538].
Цитация заключается в так называемом «перево-
де» живописных элементов на язык поэзии.
Одним из популярных образов Врубеля является
образ Демона, который предстает в разных ипоста-
сях. Брюсов также интересовался проблемой демо-
низма, что нашло отражение в стихотворениях «Де-
мон самоубийства», «Наш демон», «Демоны пыли»,
«Демон сумрачной болезни…». Брюсовский Демон,
как и Демон Врубеля, – «не столько злобный, сколь-
ко страдающий и скорбный, но при всем том дух
властный, величавый». Он олицетворяет вечную
борьбу мятущегося человеческого духа («демон» по
греч. «душа»).
В поэме «Конь блед» (1903) появляется другой
символичный образ – образ всадника на белом коне,
несущего разрушение и смерть. Позднее этот образ
будет появляться и в других произведениях поэта
(«Всадник в городе»).
Для живописи Врубеля характерно сочетание
реалистического начала с фантастическим, что так-
же является особенностью поэтического творчества
Брюсова. В стихотворении «Закат» (1900) образное
восприятие картины заходящего солнца, соединяю-
щее в себе элементы реализма и фантастики, напо-
минает полотна Врубеля. С помощью поэтических
средств Брюсов передает живописный колорит зака-
та:
Видел я, над морем серым
Змей-Горыныч пролетал.
Море в отблесках горело,
Отсвет был багрово-ал
[Там же: 169].
Пейзаж стихотворения напоминает картины
Врубеля. Аллегорическая картина подобного заката,
только в живописи, в сочетании «золота и синевы»
представлена в произведении художника «Демон
поверженный».
Духовная близость поэта и художника отрази-
лась и на общности интересов к мифологическим и
фольклорным образам, особенно былинным. Бы-
линные герои на картинах Врубеля («Микула Селя-
нинович», «Богатырь»), как и в стихотворениях
Брюсова, являются воплощением силы и мощи.
Особый интерес в плане взаимопроникновения
образов представляет символичная картина Врубеля
«Пан». Этот образ неоднократно появлялся в поэти-
ческих и прозаических произведениях Брюсова:
стихотворениях «Лесная тьма», «Вечерний Пан»,
романах «Алтарь Победы», «Юпитер повержен-
ный». Возможно, интерес к греческому божеству
природы объясняется значением его имени, которое
переводится как «все». «Все» можно интерпретиро-
вать как способность божества обретать разные об-
лики, перевоплощаться. Дух перевоплощений был
свойственен самому Брюсову. У Врубеля Пан изо-
бражен на фоне русского пейзажа, что роднит его с
образом русской демонологии – лешим. Брюсовский
Пан также ассоциируется с русским лешим.
237
Таким образом, о связях Брюсова и Врубеля
можно говорить на интермедиальном уровне. Веро-
ятно, обращение Брюсова к Врубелю явилось по-
пыткой выявить идейные и эстетические основы
своего творчества сквозь призму чужого. Язык жи-
вописи выступает в данном случае в функции ин-
терсемиотического «перевода» на поэтический язык.
Интерсемиотический перевод обозначает, что текст,
построенный в пределах одной системы (живопись)
и трансформированный в материале другой системы
(поэзия), утрачивает специфические живописно-
пластические свойства и приобретает поэтические
свойства. В интерсемиотическом переводе живопись
находит свой поэтический эквивалент. Пластич-
ность, живописность достигается за счет языковых
структур, передающих цвет, линию, свет.
Стихотворение Брюсова «Habet illa in alvo», в ко-
тором воспевается женщина-мать, «несущая во чре-
ве» новую жизнь, также представляет собой образец
взаимодействия поэзии с живописью. В рукописи
этому произведению предпослано посвящение анг-
лийскому художнику-графику Обри Бердслею. Это
посвящение указывает на связь произведения Брю-
сова с гравюрой Бердслея, изображающей женщину
и зародыш ребенка, с указанием на страницу рас-
крытой книги с латинской надписью: «Incipit vita
nova» (Начинается новая жизнь) [Брюсов 1973,1:
610]. Брюсов неоднократно прославлял в своих сти-
хах женщину, главное назначение которой, по мне-
нию поэта, – продолжение рода («В борьбе с весной
редеет зимний холод…» и др.). Поэтому женщина,
вынашивающая ребенка, вызывала у поэта особое
умиление. Нередко в стихотворениях поэта восхи-
щение тайной беременности сопровождается явны-
ми эротическими описаниями:
Чрево Твое я блаженно целую,
Белые бедра твои охватя.
Тайны вселенной у ног Твоих чую, –
Чую, как дышит во мраке дитя
[Там же: 295].
Иногда уже в названии брюсовских произведе-
ний содержится аллюзия на какой-либо медиальный
претекст («Львица среди развалин», гравюра; «Про-
каженный», рисунок тушью). В стихотворном сбор-
нике «Все напевы» целый раздел озаглавлен «Над-
писи к гравюрам». Одно из стихотворений – «Осво-
бождение» – написано под впечатлением от гравю-
ры с картины Тинторетто (1518–1594) «Спасение
Арсинои», которая хранится в галерее Дрездена.
Изображение в стихотворениях Брюсова архи-
тектурных и скульптурных памятников отсылает к
другим медиальным носителям. Неоднократно в
поэзии Брюсова встречается скульптурный образ
Медного всадника («К Медному всаднику», 1906,
«Три кумира», 1913, «Вариации на тему “Медного
всадника”», 1923). К статуе Фальконе, которая яви-
лась своеобразным символом, скульптурным куми-
ром, обращались Мицкевич, Вяземский, Пушкин,
Пастернак и другие. В поэзии Брюсова тема статуи
тесно связана с образом Петербурга и пушкинской
символикой. Скульптурный мотив реализуется у
Брюсова, как и у Пушкина, в беге коня. Неподвиж-
ная статуя понимается поэтом как движущееся су-
щество:
Все тот же медный великан,
Топча змею, скакал над бездной…
Летел, взвивая ряд картин…
[Брюсов 1973,3: 188].
Брюсов использует здесь прием экфрасиса, кото-
рый соединяет описание уже существующего про-
изведения искусства с субъективным восприятием
автора. Так, ситуация экфрасиса в стихотворении «К
Медному всаднику» задана заглавием произведения,
поэтому текст воспринимается как своеобразная
реализация этой «заданности»: развернутое описа-
ние представленного в названии «свернутого» сим-
вола и раскрытие символики статуи Медного всад-
ника. Для Брюсова, как и для Пушкина, определяю-
щим является соединение в заглавии неподвижно-
сти, «тяжести» статуи (медный) и «движения» во-
площенного в ней образа (всадник).
В произведениях Брюсова идею незавершенно-
сти событий, движения, передает несовершенный
вид глаголов: скакал, летел, стоял, мчал, попирал,
летишь, высится. Поэт использует другие дополни-
тельные средства актуализации действия – причаст-
ные и деепричастные обороты, временные глаголь-
ные формы. В стихотворении «К Медному всадни-
ку» временность, смертность живых существ проти-
вопоставляются долговечности, длительному суще-
ствованию статуи, благодаря чему скульптурный
образ обогащается новым смыслом:
Но северный город – как призрак туманный,
Мы, люди, проходим, как тени во сне.
Лишь ты сквозь века, неизменный, венчанный,
С рукою простертой летишь на коне
[Брюсов 1973,1: 527].
Поэтическое воплощение скульптурного мотива
осуществляется у Брюсова не только в идее движе-
ния и продолжающейся жизни, но и в мотиве после-
дующей реализации действия:
…Уже скакал по камням града –
Над мутно плещущей Невой –
С рукой простертой Всадник Медный…
Куда он мчал слепой порыв?
«Вариации на тему “Медного Всадника”»
[Брюсов 1973, 3: 188].
И хотя экфрастическое описание статуи Медного
всадника наделено многозначностью, так как явля-
ется уже вторичным после Пушкина, чья традиция
является определяющей для Брюсова, поэту удалось
воссоздать собственную репрезентацию художест-
венной целостности произведения. Посредством
образа «ожившей» статуи актуализируется мотив
«бега времени».
А в стихотворении «Три кумира» (1913) поэт
изображает известные в Петербурге памятники Пет-
ру I («Медный Всадник»), Николаю I, и Александру
III. Отталкиваясь от реального факта современной
ему действительности, Брюсов придает этим
скульптурам особую знаковую роль. Названные мо-
нархи символизируют собой разные этапы сложного
исторического времени. Обращение к скульптурным
композициям позволило Брюсову наиболее точно
выразить в поэтической форме суть трех эпох, оли-
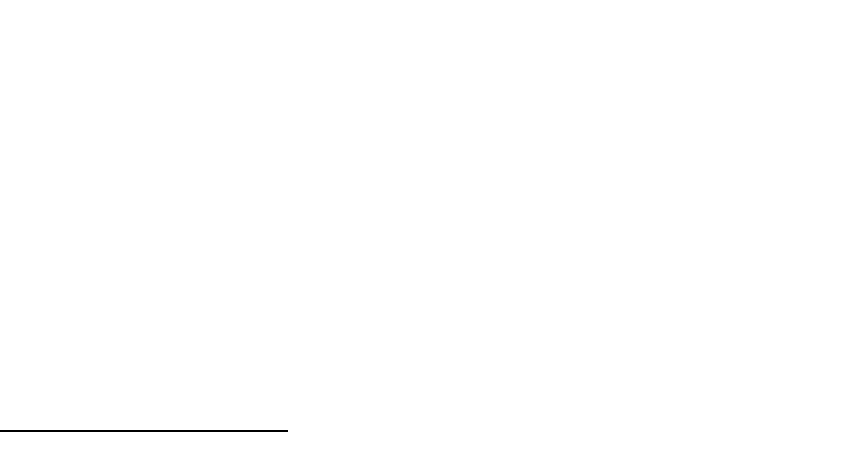
238
цетворяемых знаменитыми монархами. Это дости-
гается с помощью образной системы и доминантных
мотивов.
В стихотворении «Три кумира», как и в двух
других стихотворениях, где образ Медного всадника
является ключевым, образ Петра передается через
мотив движения, который осуществляется с помо-
щью двукратного употребления глагола «скачет» и
введения дополнительного действия «попирая»:
Попирая, в гордости победной,
Ярость змея, сжатого дугой,
По граниту скачет Всадник Медный,
С царственно протянутой рукой…
[Брюсов 1973,2: 187].
Неподвижная статуя является здесь поэтическим
воплощением жизненной активности.
Скульптура Николая I представлена как менее
динамичный образ, который характеризует глагол
движения «едет», а также лексические конструкции
«строгое спокойствие храня», «правит скоком сдер-
жанным коня». Для второй статуи свойственна раз-
меренность, медлительность, инертность.
В описании статуи Александра III – полная оста-
новка движения:
Третий, на коне тяжелоступном,
В землю втиснувшем упор копыт,
В полусне, волненью недоступном,
Недвижимо, сжав узду, стоит
[Брюсов 1973,2: 187].
Три статуи, «три кумира», являясь в стихотворе-
нии объектом повествования, становятся одновре-
менно средством актуализации прошлого и обра-
щения к будущему. Постепенное замедление исто-
рии, которую символизируют три правителя, сулит
неопределенное, туманное будущее:
Три кумира в городе туманов,
Три владыки в безрассветной мгле…
[Там же: 188]
Интермедиальные отношения в поэзии Брюсова
устанавливаются либо через систему отсылок к кон-
кретному медиальному носителю (живописной кар-
тине или скульптурному произведению), осуществ-
ляя переход на словесный уровень, либо посредст-
вом использования приемов и принципов, заимство-
ванных из смежных искусств. Медиальный носи-
тель, используемый как претекст, определяет спе-
цифику построения брюсовского текста, наполняет
его новым смыслом.
Список литературы
Иванов Вяч. Из области современных настрое-
ний // Весы. 1905. № 6.
Брюсов В. Собр.соч.: в 7 т. М.: Худож.лит., 1973.
Брюсов В. Последняя работа Врубеля // За моим
окном. М., 1912.
С.А.Звонова (Пермь)
РАЗНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКФРАСИСА
В ЛИРИКЕ Ю.Н.ВЕРХОВСКОГО
Творчество поэта, переводчика, историка лите-
ратуры Юрия Никандровича Верховского формиро-
валось в атмосфере «синтеза», который в начале ХХ
© С.А.Звонова, 2009
в. мыслился многообразно: как соотношение науч-
ного, рационального и интуитивного, науки и ис-
кусства, разных искусств (в частности, литературы и
живописи, музыки). В данном контексте сложилась
предложенная Верховским типология поэтического
творчества. Опираясь на «Историческую поэтику»
А.Н.Веселовского, ученый классифицировал не от-
дельные стихотворения, а их авторов. В зависимо-
сти от поэтической доминанты творчества он разли-
чал поэта-«певца», «пластика» («мастера»), поэта
«мысли и слова». «Музыкальность», «напевность», все
то, что свидетельствует о родстве поэзии с песней, по
его мнению, было характерно для «певца»; «живопис-
ность», «рельефность образов», «выдержанность кано-
нических строф», «строгость рифм» присущи «пласти-
ку». Поэт «мысли и слова», согласно Верховскому, мог
выражать свою индивидуальность не только «самоуг-
лублением певца» и «созерцанием пластика», но и
«чисто словесным (не музыкальным, не образным) вы-
ражением мысли» [Звонова 2006: 10]. Причины устой-
чивого интереса Верховского к проблеме типологии
поэтического творчества следует искать в его лири-
ке. Ее магистральные темы – искусства, творца; поэт
постоянно рефлексирует, идентифицируя себя с
«певцом»; экспериментирует, создавая самобытные
«синтетические» жанры.
Мне представляется, что данные вопросы пере-
секаются с проблемой экфрасиса. В узком смысле
слова под экфрасисом понимается описание предме-
та изобразительного искусства словами [Геллер
2002: 7], которое либо является самостоятельным
художественным текстом, либо может быть «вписа-
но» в художественное произведение (например,
описанием картины, висящей на стене, статуи в пар-
ке, канделябра и пр.). В широком смысле об экфра-
сисе принято говорить как об элементе стиля. Эк-
фрастический стиль характеризуется активным ис-
пользованием цветописи и звукописи, стремлением
приблизить изображаемое словом к живописной
картине, «скульптурностью» и «пластичностью»
образов, поиском новых, синтетических форм. В
данной работе сделана попытка рассмотреть разные
аспекты экфрасиса в лирике Ю.Н.Верховского.
Поскольку понятие экфрасиса прежде всего свя-
зано с пластическими, изобразительными искусст-
вами, остановлюсь на тех стихотворениях, в кото-
рых поэт, будучи по природе своего дара «певцом»,
сформировавшимся под влиянием символистского
культа музыки, стремился постичь словесную пла-
стику. Вслед за своим другом и наставником Вяче-
славом Ивановым Верховский утверждал, что ис-
тинная поэзия обладает «тройным очарованием»:
«звучит песней», «сияет образом, «хочет <…>– быть
словом» [Верховский 2008: 717]. В словесной живо-
писи он совершенствовался в традиционных пла-
стических жанрах: антологических идиллиях и эпи-
граммах. «Ах, понапрасну речами художнице я о
прекрасном / Думал поведать: могу ль живописать,
как она», – опровержением этого скромного замеча-
ния, по законам жанра исполненного самоуничиже-
ния, является цикл «Сельские эпиграммы» («Стихо-
творения. Т. 1: Сельские эпиграммы. Идиллии. Элегии»,
М., 1917).

239
В одной из своих эпиграмм поэт противопостав-
ляет живой пейзаж природе, изображенной посред-
ством грубой живописной техники:
Как не люблю на стене и в раме олеографий,
Так их в природе люблю, коль ими можно на-
звать
Черное море в сиянье лазурно-златого полудня,
Месяц над купой берез, ясный над нивой закат.
[Верховский 2008: 126].
Данный текст строится на интересном синтезе:
античные ритмы в сочетании с восходящими к эпи-
ческой поэзии древности символистскими эпитета-
ми («лазурно-златого полудня», «ясный закат»)
(здесь и далее в цитатах курсив мой. – С.З.) гармо-
нично соединяются с классическими для русской
поэзии образами берез и нивы, которые здесь восхо-
дят к традиционным сюжетам олеографий. Если,
воспользовавшись вслед за поэтом живописной
терминологией, характеризовать «художественную
технику» автора, то перед нами полотно, набросан-
ное яркими, грубыми мазками. Взгляду зрителя от-
крывается не целостная картина мира, а условные
«картинки», «зарисовки», многоцветные копии.
Преодолеть эту условность, своего рода «раму»,
обусловленную человеческим видением, художник
не в силах. Экфрасис проявляется в интересном по-
этическом эксперименте: попытке словом воспроиз-
вести литографическую технику с ее условность,
грубостью. Если говорить о проблематике данного
текста (а проблема в антологической эпиграмме,
несмотря на кажущуюся простоту и незатейливость
содержания, всегда ставится), то в данном случае
поднимается вопрос о границах и возможностях
искусства: лейтмотив всего творчества Верховского.
В целом ряде сельских эпиграмм поэт соперни-
чает с художником. Пейзаж в стихотворении «Волга
спокойно синеет внизу, загибаясь излукой…» рису-
ется с соблюдением законов перспективы. Автор
методично ориентирует читателя в поэтическом
пространстве: «тут <…> берег», «там <…> отмель,
нива и роща», «надо всем – облака». Лирический
герой – одновременно и сторонний наблюдатель,
завороженный красотой природы, и персонаж кар-
тины, гармонично вписываемый в пасторальный
пейзаж. Причем для полной иллюзии помещения
героя «внутрь» живописного полотна используется
в том числе и знаковая деталь: книга в руках героя,
усиливающая общее сентиментально-идиллическое
настроение текста-картины.
В некоторых эпиграммах поэт четко обозначает
ту «раму», в которую помещена «картина» окру-
жающего мира; авторский взгляд фокусируется на
определенных этой границей реалиях. Ср.:
В комнате милой моей я любить научаюсь,
Сидя часы у стола за одиноким трудом,
Видя в окно – лишь сруб соседней избы, а за нею –
Небо – и зелень одну, зелень – и небо кругом
[Верховский 2008: 121];
Взорам приятно опять темных ветвей бахрома,
Близких, обильно-лохматых, широкими лапами низ-
ко,
Низко свисающих к нам – рамой живой
[Верховский 2008: 128].
Еще один живописный прием, часто используе-
мый Верховским – описание пейзажа, увиденного
сквозь тонкую занавеску или ветви деревьев. Ср.:
«Яркий, лучисто-блестящий сквозь темные ветви
густые / Радостен пруд голубой, в зелени парка
сквозя»; «Юный, сквозь ветви березок краснеющий
месяц июльский»; «В окна сквозь ветви июльская
ночь звездами глядела»; «Солнце и небо глядят ясно
в двойное окно, / Часто – слепительно-ясно; и я,
опустив занавеску / Легкую – легкой рукой, ею лю-
буюсь. Она – / Солнцем пронизанный ситец…»;
«Круглая, желтая низко луна; огромная, смотрит /
Ясно сквозь нежный узор кружева юных берез».
Такой способ изображения требует особого мастер-
ства живописца: тщательного подбора красок, игры
полутонами, светом и тенью. Чтобы посоперничать
с художником, поэт привлекает цветописные эпите-
ты, метафоры и сравнения, «играет» словами «свет»,
«тень», «отблеск» (как в стихотворении, написан-
ном под влиянием катулловского «К воробью Лес-
бии»: «Вижу я: в трепетных пятнах и легкого света,
и теплых / Тихих зыбучих теней брошенных сетью
плюща, – / прыгнул воробушек…»). Отдается пред-
почтение контрастным образам, часто используется
антитеза. Среди фигур, которыми поэт охотно поль-
зуется – эллипсис, позволяющий читателю-зрителю
мысленно дорисовать полотно, мастерски набросан-
ное двумя-тремя штрихами.
В известных мне источниках нет указаний на то,
что Верховский серьезно увлекался живописью, но
то, что он знал и понимал ее, несомненно. В его
автобиографии живопись называется среди состав-
ляющих, сформировавших атмосферу родительско-
го дома; две сестры Верховского были художница-
ми [Верховский 2008: 728]. Живопись играла нема-
ловажную роль и в культуре символизма, в русле
которого были написаны первые стихи поэта; сим-
птоматично, что его первый сборник («Разные сти-
хотворения», 1908) вышел в издательстве «Скорпи-
он», придававшем особое значение художественно-
му оформлению книги.
Одна из антологических сельских эпиграмм по-
священа Лидии Никандровне Верховской, сестре-
художнице, иллюстрировавшей «Зеленый сборник
стихов и прозы», в котором участвовал начинающий
поэт. Стихотворение «Слушай, художница. Нынче
опять я ходил любоваться…» создано в характерной
для всего цикла цветовой гамме: темные ветви, зо-
лотые нивы, небесная лазурь; расположение пей-
зажных реалий на полотне также вписано в знако-
мую систему координат: в ее центре находится де-
рево, над ним – синее небо, на фоне которого выпи-
саны ветви, внизу – раскинувшиеся «ковром» нивы.
Также намечена перспектива: «Нивы <…> / Далее –
зеленью мягкого луга светлеют; / За ними темной
полоскою лес небо, зубчатый, облег…». Поэт созда-
ет не просто проникнутую лирическим субъекти-
визмом зарисовку – перед нами философско-
символическая картина мироздания с Древом Мира
в центре. Иконописные цвета, которым отдает пред-
почтение Верховский, если обратиться к их христи-
анской символике (зеленый – символ юности и цве-
