Исаев И.А. Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России
Подождите немного. Документ загружается.

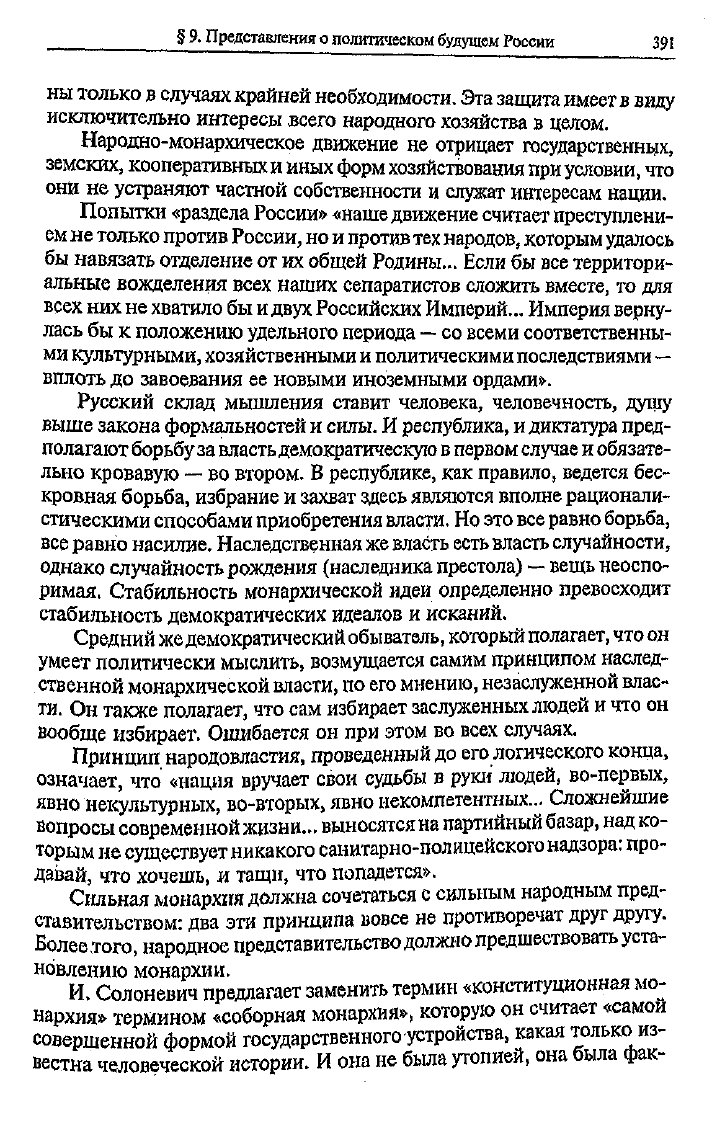
§
9.
Представления
о политическом
будущем
России
391
ны
только в
случаях
крайней
необходимости. Эта защита имеет в
виду
исключительно интересы всего народного хозяйства в целом.
Народно-монархическое движение не отрицает государственных,
земских, кооперативных
и
иных
форм
хозяйствования
при
условии, что
они
не устраняют частной собственности и
служат
интересам нации.
Попытки
«раздела
России» «наше движение считает преступлени-
ем
не только против
России,
но и
против тех
народов,
которым
удалось
бы навязать отделение от их общей Родины... Если бы все территори-
альные вожделения
всех
наших сепаратистов сложить вместе, то для
всех
них не
хватило
бы
и
двух
Российских
Империй...
Империя
верну-
лась бы к положению
удельного
периода
—
со всеми соответственны-
ми
культурными, хозяйственными
и
политическими последствиями
—
вплоть до завоевания ее новыми иноземными ордами».
Русский склад мышления ставит человека, человечность,
душу
выше закона формальностей и силы.
И
республика,
и
диктатура
пред-
полагают
борьбу
за власть демократическую
в
первом
случае
и
обязате-
льно кровавую — во втором. В республике, как правило, ведется бес-
кровная
борьба, избрание и
захват
здесь являются вполне рационали-
стическими способами приобретения
власти.
Но
это все равно борьба,
все равно насилие. Наследственная же власть есть власть случайности,
однако случайность рождения (наследника престола) — вещь неоспо-
римая.
Стабильность монархической идеи определенно превосходит
стабильность демократических идеалов и исканий.
Средний же демократический обыватель, который полагает, что
он
умеет
политически мыслить, возмущается самим принципом наслед-
ственной монархической
власти,
по его
мнению,
незаслуженной влас-
ти.
Он также полагает, что сам избирает заслуженных людей и что он
вообще избирает. Ошибается он при этом во
всех
случаях.
Принцип
народовластия, проведенный до его логического конца,
означает, что «нация
вручает
свои
судьбы
в руки людей, во-первых,
явно
некультурных, во-вторых, явно некомпетентных... Сложнейшие
вопросы современной
жизни...
выносятся
на
партийный
базар,
над
ко-
торым не
существует
никакого
санитарно-полицейского надзора: про-
давай, что хочешь, и тащи, что попадется».
Сильная
монархия должна сочетаться с сильным народным пред-
ставительством: два эти принципа вовсе не противоречат
друг
другу.
Болеетого, народное представительство должно предшествовать
уста-
новлению монархии.
И.
Солоневич
предлагает
заменить термин «конституционная мо-
нархия» термином «соборная монархия», которую он считает «самой
совершенной формой государственного устройства, какая только из-
вестна человеческой истории. И она не была утопией, она была фак-
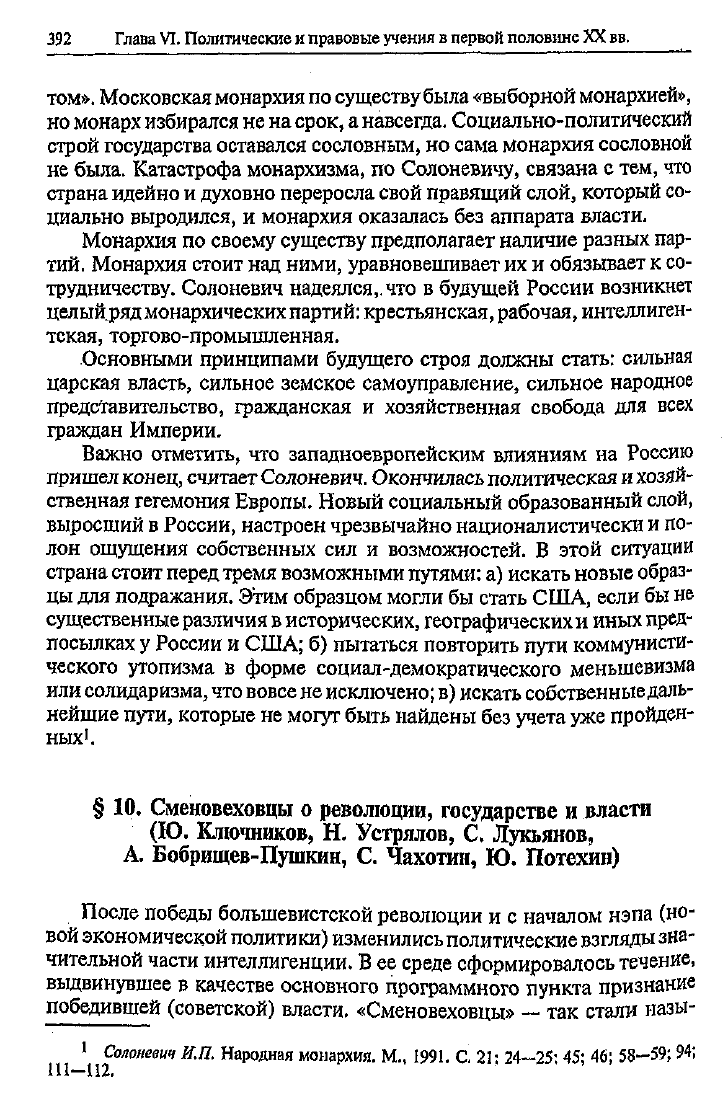
392
Глава
VI. Политические
и
правовые учения в первой половине
XX
вв.
том».
Московская монархия по
существу
была «выборной монархией»,
но
монарх избирался не на
срок,
а навсегда. Социально-политический
строй
государства
оставался сословным, но сама монархия сословной
не была. Катастрофа монархизма, по Солоневичу, связана
с
тем, что
страна идейно и
духовно
переросла свой правящий слой, который со-
циально выродился,
и
монархия оказалась
без
аппарата власти.
Монархия по своему
существу
предполагает наличие разных пар-
тий.
Монархия стоит над
ними,
уравновешивает их и обязывает к со-
трудничеству.
Солоневич
надеялся,,
что
в
будущей
России возникнет
целый.ряд монархических партий:
крестьянская,
рабочая, интеллиген-
тская,
торгово-промышленная.
Основными принципами
будущего
строя должны стать: сильная
царская власть, сильное земское самоуправление, сильное народное
представительство, гражданская
и
хозяйственная свобода
для
всех
граждан Империи.
Важно отметить,
что
западноевропейским влияниям
на
Россию
пришел
конец,
считает Солоневич. Окончилась политическая
и
хозяй-
ственная гегемония Европы. Новый социальный образованный слой,
выросший в России, настроен чрезвычайно националистически
и
по-
лон ощущения собственных
сил и
возможностей.
В
этой ситуации
страна стоит перед тремя возможными путями: а) искать новые образ-
цы
для подражания. Этим образцом могли бы стать США, если бы не
существенные различия в исторических, географических
и
иных пред-
посылках
у
России
и
США; б) пытаться повторить пути коммунисти-
ческого утопизма
в
форме социал-демократического меньшевизма
или солидаризма, что вовсе не исключено; в) искать собственные даль-
нейшие пути, которые не
могут
быть найдены без
учета
уже пройден-
ных
1
.
§
10. Сменовеховцы о революции, государстве и власти
(Ю.
Ключников, Н. Устрялов, С. Лукьянов,
А. Бобрищев-Пушкин, С. Чахотин, Ю.
Потехин)
После победы большевистской революции
и с
началом нэпа (но-
вой экономической политики) изменились политические взгляды зна-
чительной части интеллигенции. В
ее
среде
сформировалось течение,
выдвинувшее
в
качестве основного программного пункта признание
победившей (советской) власти.
«Сменовеховцы»
— так
стали назы-
1
Солоневич
ИЛ.
Народная монархия. М., 1991. С. 21;
24-25:
45;
46;
58-59;
94;
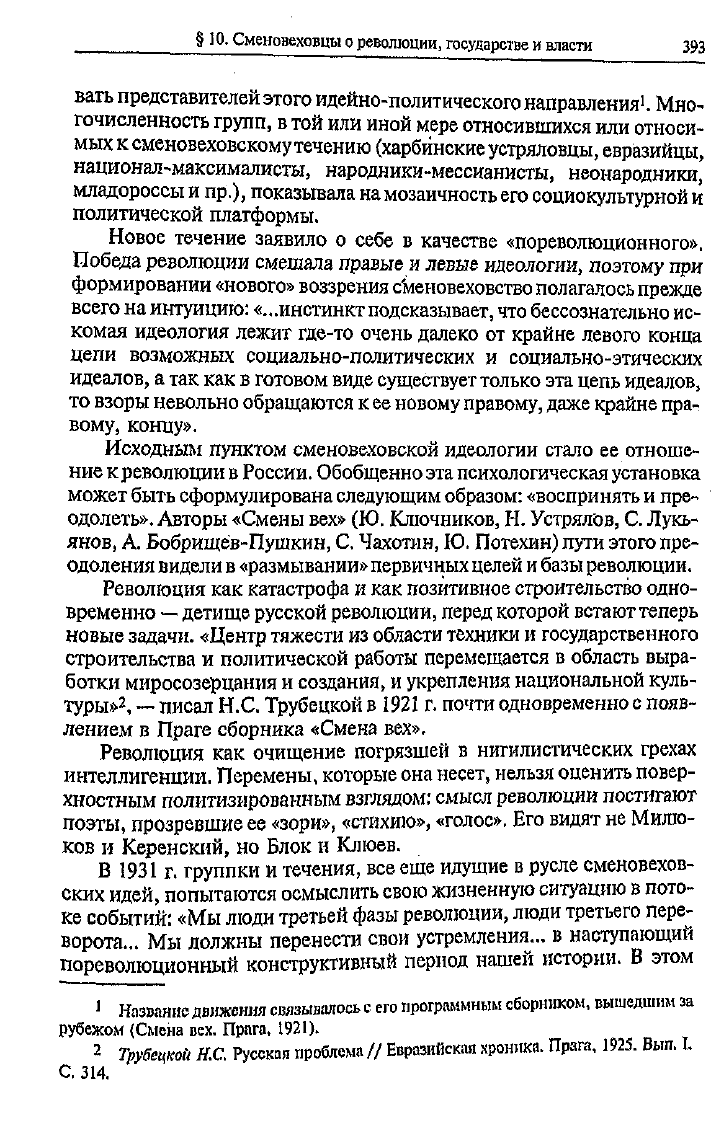
§
Ю-
Сменовеховцы
о
революции,
государстве
и
власти
393
вать представителей этого идейно-политического
направления
1
.
Мно-
гочисленность групп, в той или иной мере относившихся или относи-
мых к сменовеховскому течению (харбинские устряловцы, евразийцы,
национал-максималисты, народники-мессианисты, неонародники,
младороссы
и пр.),
показывала
на
мозаичность его социокультурной
и
политической платформы.
Новое течение заявило о
себе
в качестве «пореволюционного».
Победа революции смешала правые и левые идеологии, поэтому при
формировании
«нового»
воззрения сменовеховство полагалось прежде
всего на интуицию: «...инстинктподсказывает, что бессознательно ис-
комая
идеология лежит
где-то
очень далеко от крайне левого конца
цепи
возможных социально-политических и социально-этических
идеалов, а так как в готовом виде
существует
только эта цепь идеалов,
то взоры невольно обращаются к ее новому правому,
даже
крайне пра-
вому,
концу».
Исходным пунктом сменовеховской идеологии стало ее отноше-
ние
креволюции
в
России.
Обобщенно эта психологическая установка
может быть сформулирована следующим образом: «воспринять
и
пре-
одолеть».
Авторы
«Смены
вех»
(Ю. Ключников, Н. Устрялов,
С.
Лукь-
янов,
А. Бобрищев-Пушкин, С. Чахотин, 10. Потехин) пути этого пре-
одоления видели
в
«размывании» первичных целей
и
базы революции.
Революция как катастрофа и
как
позитивное строительство одно-
временно
—
детище русской революции, перед которой
встают
теперь
новые задачи. «Центр тяжести из области техники и государственного
строительства и политической работы перемещается в область выра-
ботки миросозерцания и создания, и укрепления национальной куль-
туры»
2
,
— писал
Н.С.
Трубецкой
в
1921 г. почти одновременно
с
появ-
лением в Праге сборника «Смена
вех».
Революция как очищение погрязшей в нигилистических
грехах
интеллигенции. Перемены, которые она несет, нельзя оценить повер-
хностным политизированным взглядом: смысл революции постигают
поэты,
прозревшие ее
«зори»,
«стихию»,
«голос».
Его видят не Милю-
ков
и Керенский, но Блок и Клюев.
В 1931 г. группки и течения, все еще идущие в
русле
сменовехов-
ских идей, попытаются осмыслить свою жизненную ситуацию в пото-
ке событий: «Мы люди третьей фазы революции, люди
третьего
пере-
ворота... Мы должны перенести свои устремления... в наступающий
пореволюционный конструктивный период нашей истории. В этом
1
Название
движения связывалось с его программным
сборником,
вышедшим за
рубежом
(Смена вех. Прага,
1921).
2
Трубецкой
КС.
Русская проблема // Евразийская хроника. Прага, 1925. Вып.
I.
С. 314.
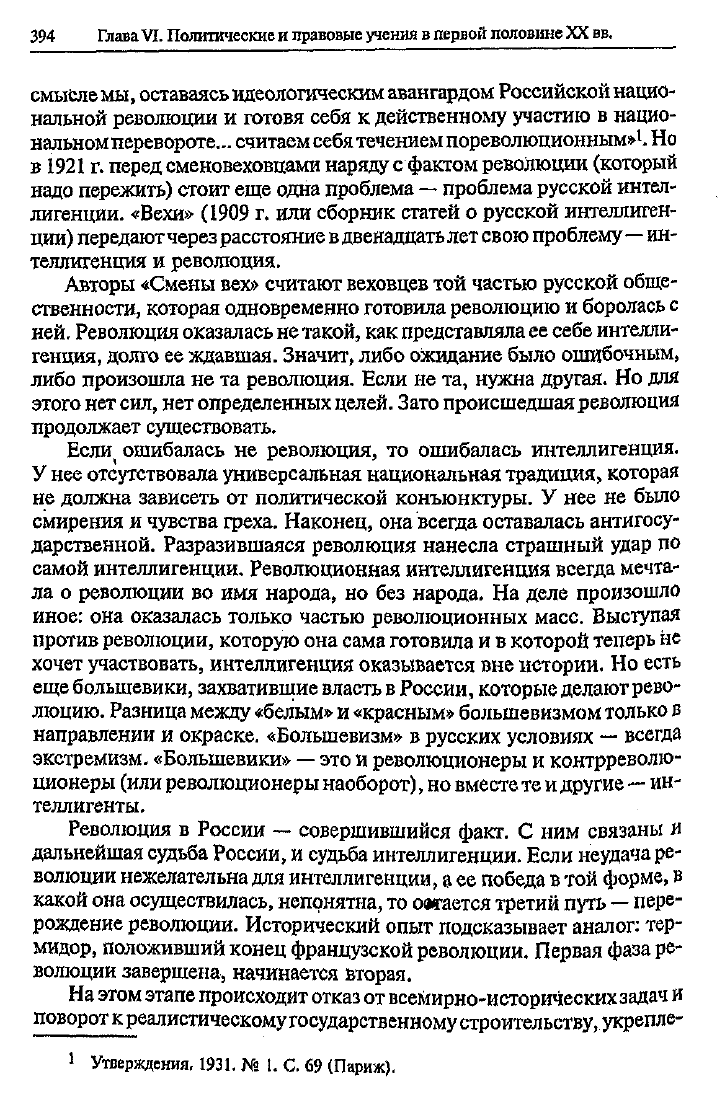
394 Глава
VI.
Политические
и правовые учения в первой половине XX вв.
смысле
мы,
оставаясь идеологическим авангардом
Российской
нацио-
нальной революции и готовя себя к действенному
участию
в нацио-
нальномперевороте... считаем себя течением пореволюционным»
1
. Но
в 1921 г. перед сменовеховцами наряду с фактом революции (который
надо пережить) стоит еще одна проблема — проблема русской интел-
лигенции.
«Вехи»
(1909 г. или сборник статей о русской интеллиген-
ции)
передают через расстояние в двенадцать лет свою проблему —
ин-
теллигенция и революция.
Авторы
«Смены
вех»
считают веховцев той
частью
русской обще-
ственности, которая одновременно готовила революцию и боролась с
ней.
Революция оказалась
не
такой,
как представляла ее
себе
интелли-
генция,
долго
ее ждавшая. Значит, либо ожидание было ошибочным,
либо произошла не та революция. Если не та, нужна
другая.
Но для
этого нет
сил,
нет определенных
целей.
Зато происшедшая революция
продолжает существовать.
Если
(
ошибалась не революция, то ошибалась интеллигенция.
У нее
отсутствовала
универсальная национальная традиция, которая
не должна зависеть от политической конъюнктуры. У нее не было
смирения
и
чувства
греха.
Наконец, она
всегда
оставалась антигосу-
дарственной. Разразившаяся революция нанесла страшный
удар
по
самой интеллигенции. Революционная интеллигенция
всегда
мечта-
ла о революции во имя народа, но без народа. На
деле
произошло
иное:
она оказалась только
частью
революционных масс. Выступая
против революции, которую она сама готовила и в которой теперь не
хочет
участвовать,
интеллигенция оказывается вне истории. Но есть
еще большевики, захватившие власть
в
России, которые
делают
рево-
люцию. Разница
между
«белым»
и
«красным»
большевизмом только в
направлении и окраске. «Большевизм» в русских условиях —
всегда
экстремизм. «Большевики» — это и революционеры и контрреволю-
ционеры (или революционеры
наоборот),
но вместе те
и
другие
— ин-
теллигенты.
Революция в России — совершившийся факт. С ним связаны и
дальнейшая
судьба
России,
и
судьба
интеллигенции. Если
неудача
ре-
волюции нежелательна для интеллигенции, а ее победа в той форме, в
какой
она осуществилась, непонятна, то овгается третий
путь
— пере-
рождение революции. Исторический опыт подсказывает аналог: тер-
мидор, положивший конец французской революции. Первая фаза ре-
волюции завершена, начинается вторая.
На
этом этапе происходит отказ от всемирно-исторических
задач
и
поворот
к
реалистическому государственному
строительству,
укрепле-
1
Утверждения. 1931. № 1. С. 69
(Париж).
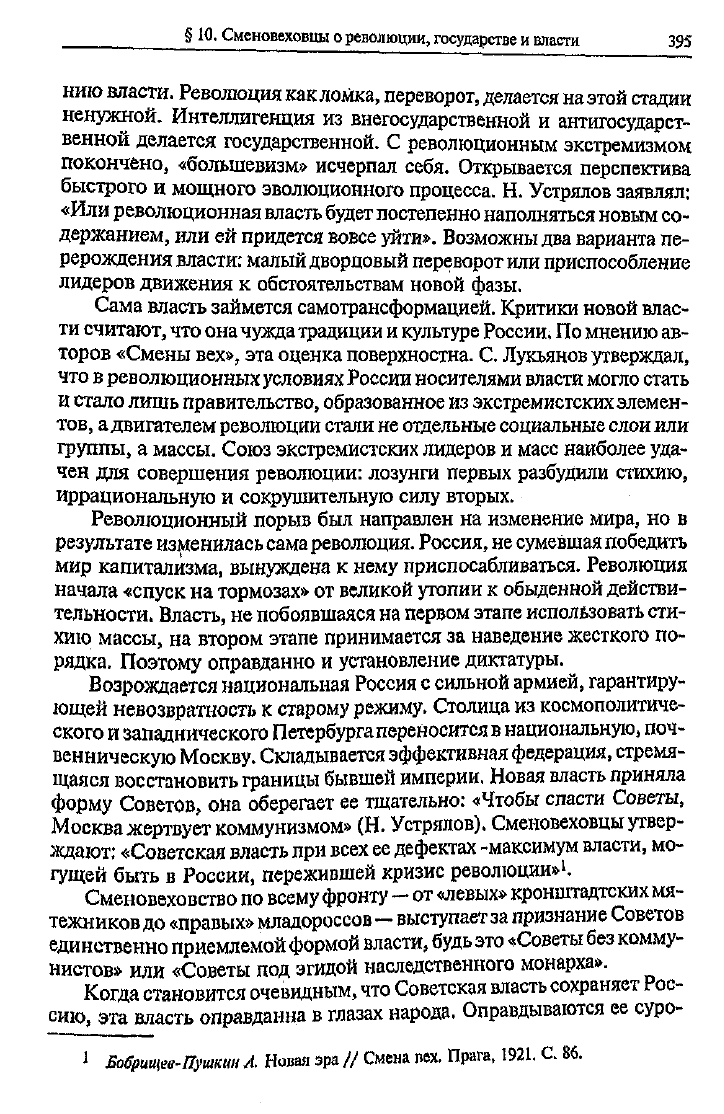
§
10. Сменовеховцы
о
революции,
государстве
и власти 395
нию власти. Революция
как
ломка, переворот, делается
на
этой стадии
ненужной. Интеллигенция из внегосударственной и антигосударст-
венной
делается государственной. С революционным экстремизмом
покончено,
«большевизм»
исчерпал себя. Открывается перспектива
быстрого и мощного эволюционного процесса. Н. Устрялов заявлял:
«Или революционная власть
будет
постепенно
наполняться
новым со-
держанием, или ей придется вовсе
уйти».
Возможны два варианта пе-
рерождения власти: малый дворцовый переворот
или
приспособление
лидеров движения к обстоятельствам новой фазы.
Сама власть займется самотрансформацией. Критики новой влас-
ти считают, что она
чужда
традиции
и
культуре
России.
По
мнению ав-
торов «Смены
вех»,
эта оценка поверхностна. С. Лукьянов
утверждал,
что в революционных условиях
России
носителями власти могло стать
и
стало лишь правительство, образованное
из
экстремистских элемен-
тов, а двигателем революции стали
не
отдельные социальные слои или
группы, а массы. Союз экстремистских лидеров и масс наиболее уда-
чен для совершения революции: лозунги первых разбудили стихию,
иррациональную и сокрушительную силу
вторых.
Революционный порыв был направлен на изменение мира, но в
результате
изменилась сама революция.
Россия,
не
сумевшая победить
мир капитализма, вынуждена к нему приспосабливаться. Революция
начала
«спуск
на
тормозах»
от великой утопии к обыденной действи-
тельности. Власть, не побоявшаяся на первом этапе использовать сти-
хию массы, на втором этапе принимается за наведение жесткого по-
рядка. Поэтому оправданно и установление диктатуры.
Возрождается национальная Россия с сильной армией, гарантиру-
ющей невозвратность к старому режиму. Столица из космополитиче-
ского
и
западнического Петербурга переносится
в
национальную, поч-
венническую Москву. Складывается
эффективная
федерация, стремя-
щаяся
восстановить границы бывшей
империи.
Новая власть приняла
форму Советов, она
оберегает
ее тщательно:
«Чтобы
спасти Советы,
Москва
жертвует
коммунизмом»
(Н.
Устрялов). Сменовеховцы
утвер-
ждают:
«Советская власть
при
всех
ее дефектах -максимум власти, мо-
гущей
быть в России, пережившей кризис революции»
1
.
Сменовеховство по
всему
фронту - от
«левых»
кронштадтских
мя-
тежников до
«правых»
младороссов -
выступает
за
признание
Советов
единственно приемлемой формой власти,
будь
это
«Советы
без
комму-
нистов» или
«Советы
под эгидой наследственного монарха».
Когда становится очевидным, что Советская власть сохраняет
Рос-
сию, эта власть оправданна в
глазах
народа. Оправдываются ее суро-
1
Бобрищев-Пушкин
А. Новая эра // Смена вех. Прага, 1921. С. 86.
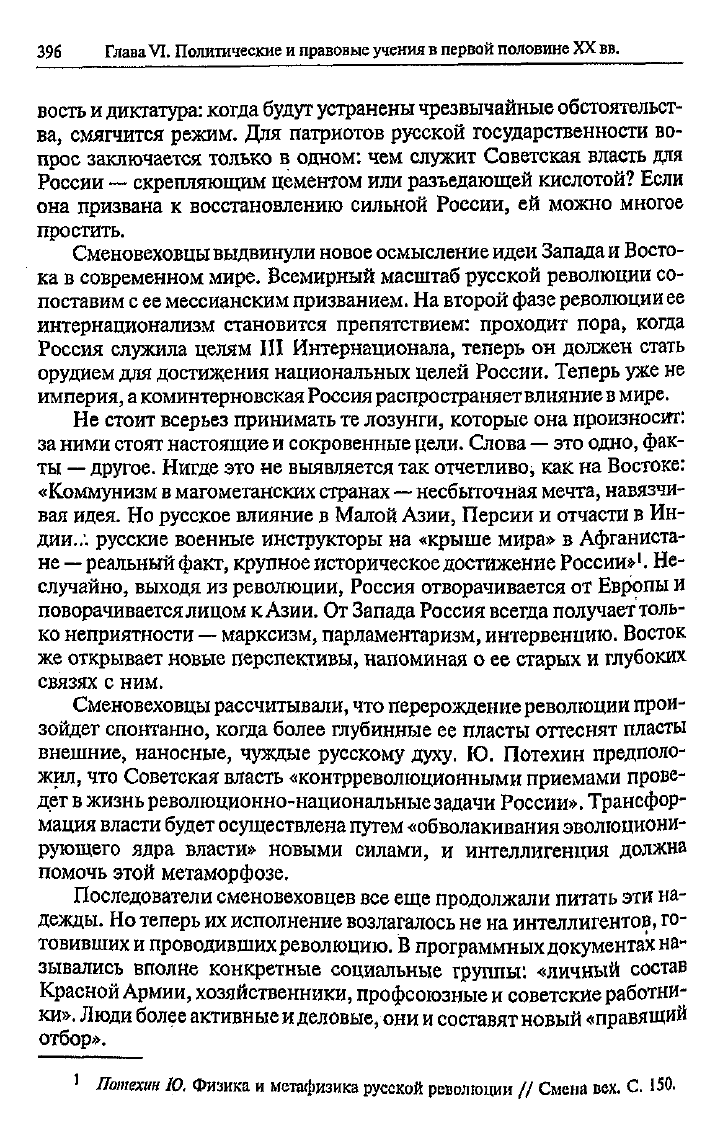
396
Глава
VI. Политические и правовые учения в первой половине XX вв.
вость
и
диктатура:
когда
будут
устранены чрезвычайные обстоятельст-
ва, смягчится режим. Для патриотов русской государственности во-
прос заключается только в одном: чем
служит
Советская власть для
России
— скрепляющим цементом или разъедающей кислотой? Если
она призвана к восстановлению сильной России, ей можно многое
простить.
Сменовеховцы выдвинули новое осмысление идеи Запада
и
Восто-
ка
в современном мире. Всемирный масштаб русской революции со-
поставим с ее мессианским
призванием.
На второй фазе революции ее
интернационализм становится препятствием: проходит пора, когда
Россия
служила
целям III Интернационала, теперь он должен стать
орудием для достижения национальных целей России. Теперь уже не
империя,
а коминтерновская
Россия
распространяет влияние
в
мире.
Не
стоит всерьез принимать те лозунги, которые она произносит:
за ними стоят настоящие
и
сокровенные
цели.
Слова — это одно, фак-
ты —
другое.
Нигде это не выявляется так отчетливо, как на Востоке:
«Коммунизм в магометанских странах — несбыточная мечта, навязчи-
вая идея. Но русское влияние в Малой Азии, Персии и отчасти в Ин-
дии.;, русские военные инструкторы на «крыше
мира»
в Афганиста-
не
—
реальный
факт,
крупное историческое достижение России»
1
. Не-
случайно, выходя из революции, Россия отворачивается от Европы и
поворачивается лицом
к
Азии. От Запада Россия
всегда
получает
толь-
ко
неприятности — марксизм, парламентаризм, интервенцию. Восток
же открывает новые перспективы, напоминая о ее
старых
и
глубоких
связях с ним.
Сменовеховцы рассчитывали, что перерождение революции прои-
зойдет спонтанно, когда более глубинные ее пласты оттеснят пласты
внешние,
наносные,
чуждые
русскому
духу.
Ю. Потехин предполо-
жил, что Советская власть «контрреволюционными приемами прове-
дет в жизнь революционно-национальные задачи России». Трансфор-
мация
власти
будет
осуществлена
путем
«обволакивания эволюциони-
рующего
ядра
власти»
новыми силами, и интеллигенция должна
помочь этой метаморфозе.
Последователи сменовеховцев все еще продолжали питать эти на-
дежды.
Но
теперь их исполнение возлагалось не на интеллигентов, го-
товивших
и
проводивших революцию. В программных документах на-
зывались вполне конкретные социальные группы: «личный состав
Красной
Армии, хозяйственники, профсоюзные
и
советские работни-
ки».
Люди
более активные
и
деловые, они
и
составят новый «правящий
отбор».
1
Потехин
10. Физика и метафизика русской революции // Смена вех. С. 150.
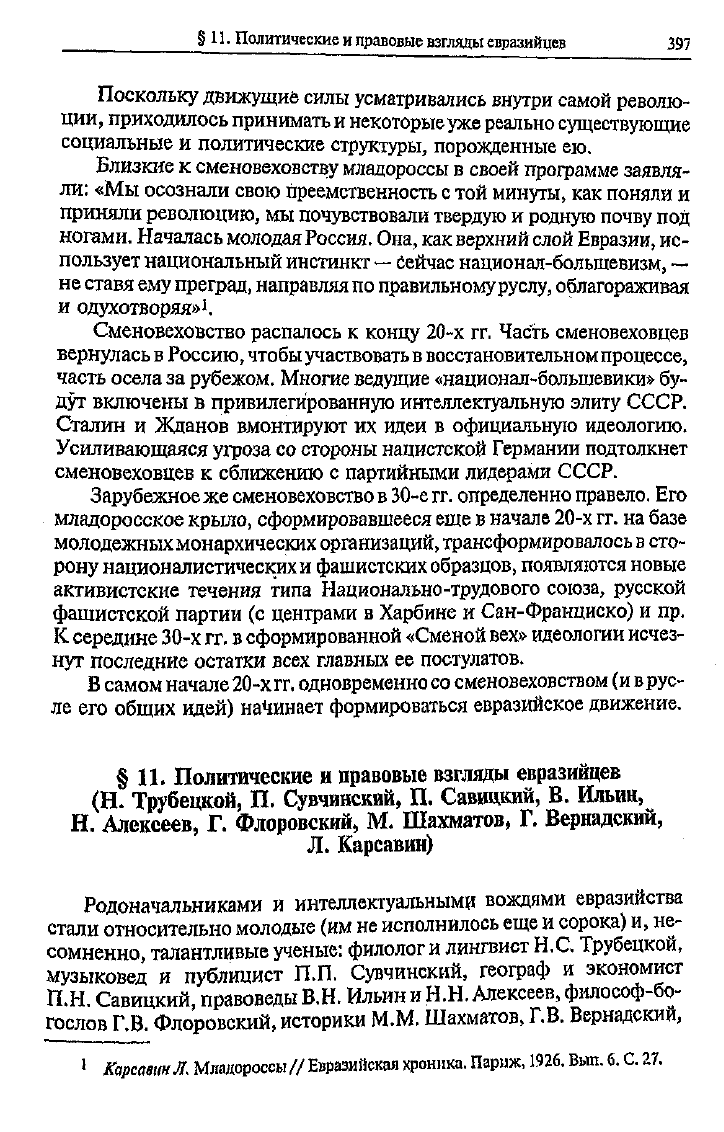
§11.
Политические и правовые взгляды евразийцев
397
Поскольку
движущие силы усматривались внутри самой револю-
ции,
приходилось
принимать
и
некоторые уже реально
существующие
социальные
и
политические
структуры,
порожденные ею.
Близкие
к
сменовеховству младороссы в своей программе заявля-
ли:
«Мы осознали свою преемственность
с
той минуты, как
поняли
и
приняли
революцию, мы почувствовали
твердую
и
родную
почву под
ногами.
Началась молодая
Россия.
Она,
как
верхний
слой
Евразии,
ис-
пользует
национальный
инстинкт
— Сейчас национал-большевизм, —
не
ставя ему преград,
направляя
по
правильному
руслу,
облагораживая
и
одухотворяя»
1
.
Сменовеховство распалось
к
концу
20-х гг.
Часть сменовеховцев
вернулась
в
Россию,
чтобы
участвовать
в
восстановительном
процессе,
часть осела за рубежом.
Многие
ведущие
«национал-большевики» бу-
дут включены
в
привилегированную интеллектуальную элиту
СССР.
Сталин
и
Жданов вмонтируют
их
идеи
в
официальную идеологию.
Усиливающаяся
угроза
со стороны нацистской Германии подтолкнет
сменовеховцев
к
сближению
с
партийными лидерами
СССР.
Зарубежное же сменовеховство
в
30-е
гг.
определенно
правело.
Его
младоросское
крыло,
сформировавшееся еще в начале 20-х гг. на базе
молодежных монархических
организаций,
трансформировалось
в
сто-
рону националистических
и
фашистских
образцов,
появляются новые
активистские течения типа Национально-трудового союза, русской
фашистской
партии
(с
центрами
в
Харбине
и
Сан-Франциско)
и пр.
К
середине 30-х гг. в
сформированной
«Сменой
вех»
идеологии исчез-
нут последние остатки
всех
главных
ее
постулатов.
В самом начал
е
20-х гг.
одновременно
со
сменовеховством
(и
в
рус-
ле
его
общих идей) начинает формироваться евразийское движение.
§11.
Политические и правовые взгляды евразийцев
(Н.
Трубецкой, П. Сувчинский, П. Савицкий, В. Ильин,
Н.
Алексеев, Г. Флоровский, М.
Шахматов,
Г. Вернадский,
Л.
Карсавин)
Родоначальниками
и
интеллектуальными вождями евразийства
стали относительно молодые (им не исполнилось еще и сорока) и, не-
сомненно,
талантливые ученые: филолог
и
лингвист
Н.С.
Трубецкой,
музыковед
и
публицист П.П. Сувчинский, географ
и
экономист
П.Н.
Савицкий,
правоведы
В.Н.
Ильин
и
Н.Н.
Алексеев, философ-бо-
гослов Г.В.
Флоровский,
историки М.М. Шахматов, Г.В. Вернадский,
1
Карсавин
Л.
Младороссы //
Евразийская
хроника.
Париж,
1926. Вып. 6.
С.
27.
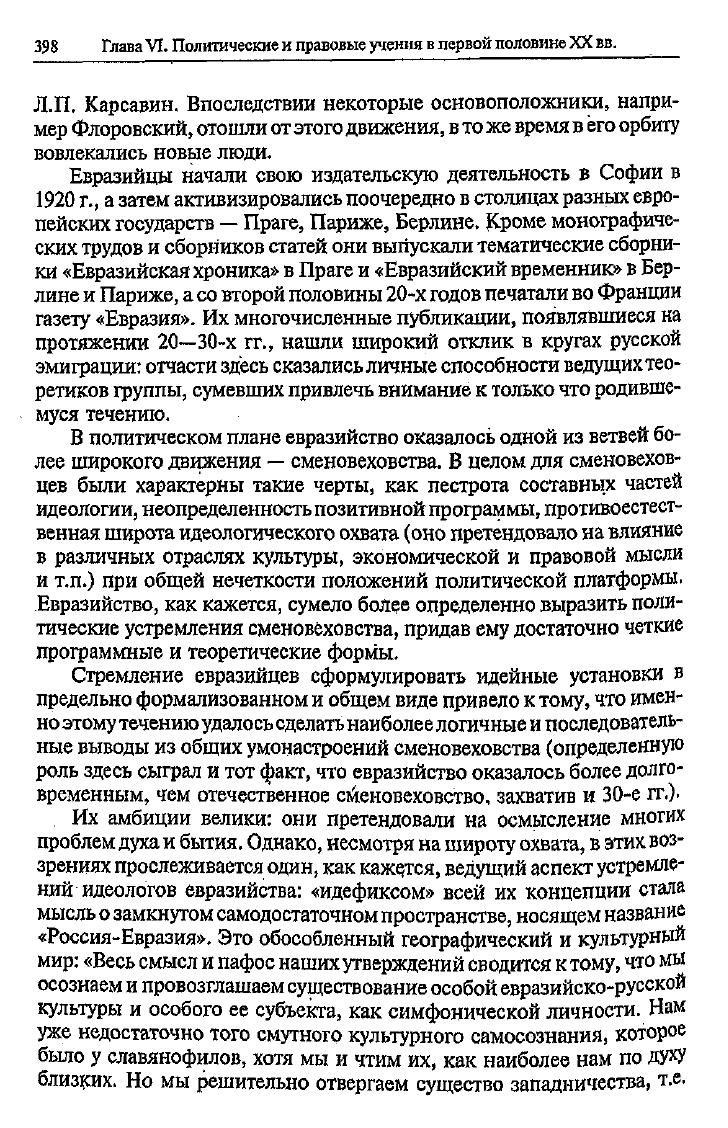
398 Глава VI. Политические и правовые учения
в
первой половине XX вв.
Л.П.
Карсавин. Впоследствии некоторые основоположники, напри-
мер
Флоровский,
отошли от этого движения,
в
то же время в его орбиту
вовлекались новые люди.
Евразийцы начали свою издательскую деятельность в Софии в
1920 г., а затем активизировались поочередно в столицах разных евро-
пейских
государств
— Праге, Париже, Берлине. Кроме монографиче-
ских
трудов
и сборников статей они выпускали тематические сборни-
ки
«Евразийская хроника» в Праге и «Евразийский временник» в Бер-
лине и
Париже,
а со второй половины 20-х
годов
печатали во Франции
газету
«Евразия». Их многочисленные публикации, появлявшиеся на
протяжении
20—30-х
гг., нашли широкий отклик в
кругах
русской
эмиграции:
отчасти здесь сказались личные способности
ведущих
тео-
ретиков группы, сумевших привлечь внимание к только что родивше-
муся течению.
В политическом плане евразийство оказалось одной из ветвей бо-
лее широкого движения — сменовеховства. В целом для сменовехов-
цев были характерны такие черты, как пестрота составных частей
идеологии, неопределенность позитивной программы, противоестест-
венная
широта идеологического
охвата
(оно претендовало на влияние
в различных отраслях
культуры,
экономической и правовой мысли
и
т.п.) при общей нечеткости положений политической платформы.
Евразийство, как кажется,
сумело
более определенно выразить поли-
тические устремления сменовеховства, придав ему достаточно четкие
программные и теоретические формы.
Стремление евразийцев сформулировать идейные установки в
предельно формализованном
и
общем виде привело
к
тому,
что имен-
но
этому течению
удалось
сделать
наиболее логичные
и
последователь-
ные выводы из общих умонастроений сменовеховства (определенную
роль здесь сыграл и тот факт, что евразийство оказалось более долго-
временным, чем отечественное сменовеховство, захватив и 30-е гг.).
Их
амбиции велики: они претендовали на осмысление многих
проблем
духа
и
бытия. Однако, несмотря на широту
охвата,
в этих
воз-
зрениях прослеживается
один,
как кажется, ведущий аспект устремле-
ний
идеологов евразийства: «идефиксом» всей их концепции стала
мысль
о
замкнутом самодостаточном пространстве, носящем название
«Россия-Евразия». Это обособленный географический и культурный
мир:
«Весь
смысл и пафос наших утверждений сводится к
тому,
что мы
осознаем
и
провозглашаем существование особой евразийско-русской
культуры
и особого ее
субъекта,
как симфонической личности. Нам
уже недостаточно
того
смутного
культурного
самосознания, которое
было у славянофилов,
хотя
мы и чтим их, как наиболее нам по
духу
близких. Но мы решительно отвергаем
существо
западничества, т.е.
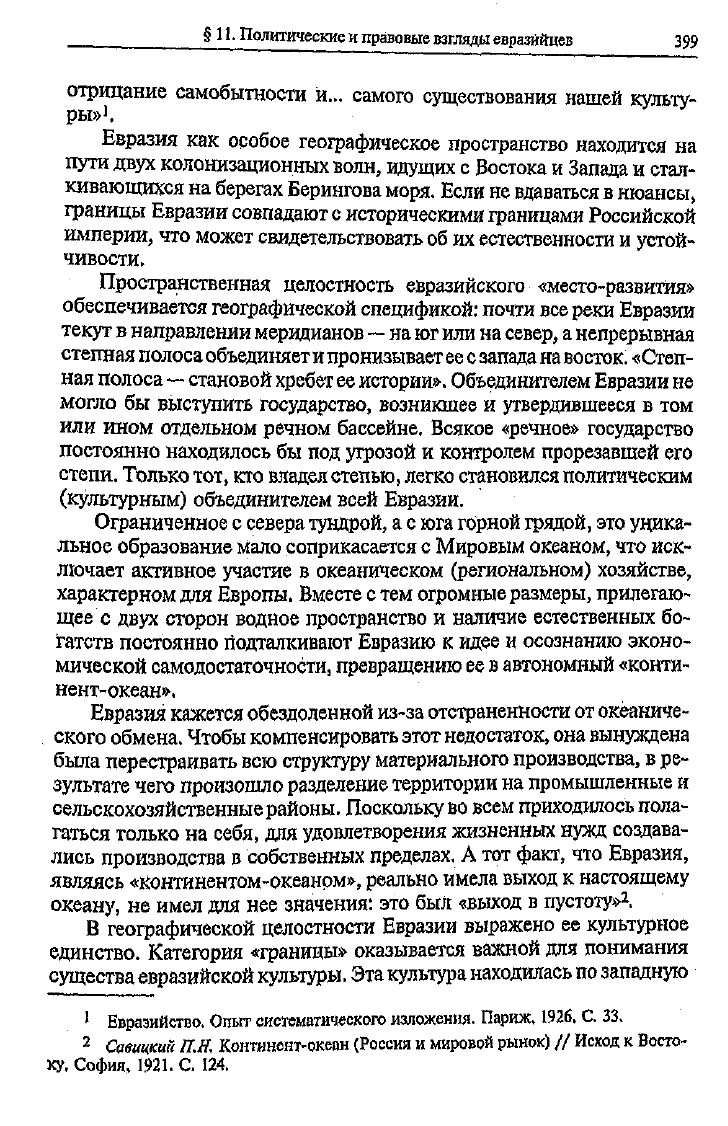
§11.
Политические и правовые взгляды евразийцев 399
отрицание самобытности и... самого существования нашей
культу-
ры»).
Евразия как особое географическое пространство находится на
пути
двух
колонизационных
волн,
идущих
с Востока и Запада и стал-
кивающихся на
берегах
Берингова
моря.
Если не вдаваться
в
нюансы,
границы Евразии совпадают
с
историческими границами Российской
империи,
что может свидетельствовать об их естественности и устой-
чивости.
Пространственная целостность евразийского
«место-развития»
обеспечивается географической
спецификой:
почти все реки Евразии
текут
в направлении меридианов
—
на юг
или
на север,
а
непрерывная
степная полоса объединяет
и
пронизывает ее
с
запада
на
восток. «Степ-
ная
полоса—становой
хребет
ее
истории». Объединителем Евразии не
могло бы выступить
государство,
возникшее и утвердившееся в том
или ином отдельном речном бассейне. Всякое
«речное»
государство
постоянно
находилось бы под угрозой и контролем прорезавшей его
степи. Только тот, кто
владел
степью,
легко становился политическим
(культурным) объединителем всей Евразии.
Ограниченное с севера тундрой, а с юга горной грядой, это уника-
льное образование мало соприкасается с Мировым
океаном,
что иск-
лючает
активное
участие
в океаническом (региональном) хозяйстве,
характерном для Европы.
Вместе
с тем огромные размеры, прилегаю-
щее с
двух
сторон водное пространство и наличие естественных бо-
гатств
постоянно подталкивают Евразию к идее и осознанию
эконо-
мической самодостаточности, превращению ее в автономный «конти-
нент-океан».
Евразия кажется обездоленной из-за отстраненности от океаниче-
ского обмена. Чтобы компенсировать этот недостаток, она вынуждена
была перестраивать всю
структуру
материального производства, в ре-
зультате
чего
произошло разделение территории на промышленные и
сельскохозяйственные
районы.
Поскольку
во
всем приходилось пола-
гаться только на себя, для удовлетворения жизненных
нужд
создава-
лись производства в собственных
пределах.
А тот факт, что Евразия,
являясь «континентом-океаном», реально имела
выход
к настоящему
океану, не имел для нее значения: это был
«выход
в
пустоту»
2
.
В географической целостности Евразии выражено ее
культурное
единство. Категория
«границы»
оказывается важной для понимания
существа
евразийской
культуры.
Эта
культура
находилась
по
западную
1
Евразийство. Опыт систематического изложения. Париж, 1926. С. 33.
2
Савицкий
П.Н.
Континент-океан (Россия и мировой рынок) // Исход к Восто-
ку, София, 1921. С. 124.
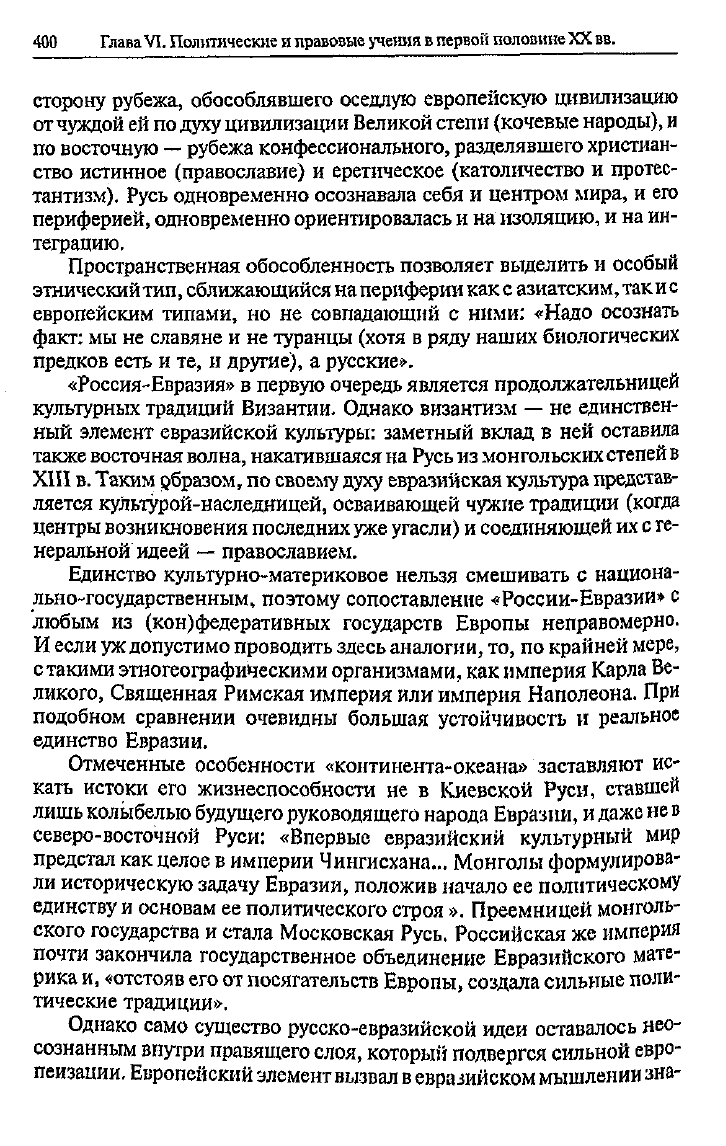
400 Глава VI.
Политические
и правовые учения в первой
половине
XX
вв.
сторону
рубежа,
обособлявшего
оседлую
европейскую цивилизацию
от
чуждой
ей
по
духу
цивилизации
Великой степи (кочевые
народы),
и
по
восточную —
рубежа
конфессионального,
разделявшего христиан-
ство истинное (православие)
и
еретическое (католичество
и
протес-
тантизм).
Русь одновременно осознавала себя
и
центром мира,
и его
периферией,
одновременно ориентировалась и на
изоляцию,
и
на
ин-
теграцию.
Пространственная
обособленность позволяет выделить
и
особый
этнический
тип,
сближающийся на
периферии
как
с
азиатским,
так
и
с
европейским
типами,
но не
совпадающий
с
ними: «Надо осознать
факт:
мы
не
славяне
и
не туранцы (хотя
в
ряду
наших биологических
предков есть
и те, и
другие),
а
русские».
«Россия-Евразия»
в
первую
очередь является продолжательницей
культурных
традиций Византии. Однако византизм
— не
единствен-
ный
элемент евразийской
культуры:
заметный вклад
в ней
оставила
также восточная
волна,
накатившаяся на Русь из монгольских степей
в
XIII
в.
Таким образом, по своему
духу
евразийская
культура
представ-
ляется культурой-наследницей, осваивающей
чужие
традиции (когда
центры
возникновения
последних уже
угасли)
и соединяющей их с ге-
неральной
идеей
—
православием.
Единство культурно-материковое нельзя смешивать
с
национа-
льно-государственным, поэтому сопоставление «России-Евразии»
с
любым
из
(кон)федеративных
государств
Европы неправомерно.
И
если уж допустимо проводить здесь
аналогии,
то,
по
крайней мере,
стакими
этногеографическими
организмами,
как империя Карла Ве-
ликого,
Священная Римская империя или империя Наполеона. При
подобном сравнении очевидны большая устойчивость
и
реальное
единство Евразии.
Отмеченные особенности «континента-океана» заставляют
ис-
кать истоки
его
жизнеспособности
не в
Киевской Руси, ставшей
лишь
колыбелью
будущего
руководящего народа Евразии,
и
даже
не
в
северо-восточной Руси:
«Впервые
евразийский культурный
мир
предстал как целое
в
империи Чингисхана... Монголы формулирова-
ли
историческую
задачу
Евразии, положив начало
ее
политическому
единству
и
основам
ее
политического строя
».
Преемницей монголь-
ского
государства
и
стала Московская Русь. Российская
же
империя
почти закончила государственное объединение Евразийского мате-
рика
и,
«отстояв
его
от
посягательств Европы, создала сильные поли-
тические традиции».
Однако само
существо
русско-евразийской идеи оставалось нео-
сознанным
внутри правящего
слоя,
который подвергся сильной евро-
пеизации.
Европейский
элемент вызвал
в
евразийском
мышлении
зна-
