Козлянинова И.П., Промптова И.Ю. Сценическая речь
Подождите немного. Документ загружается.

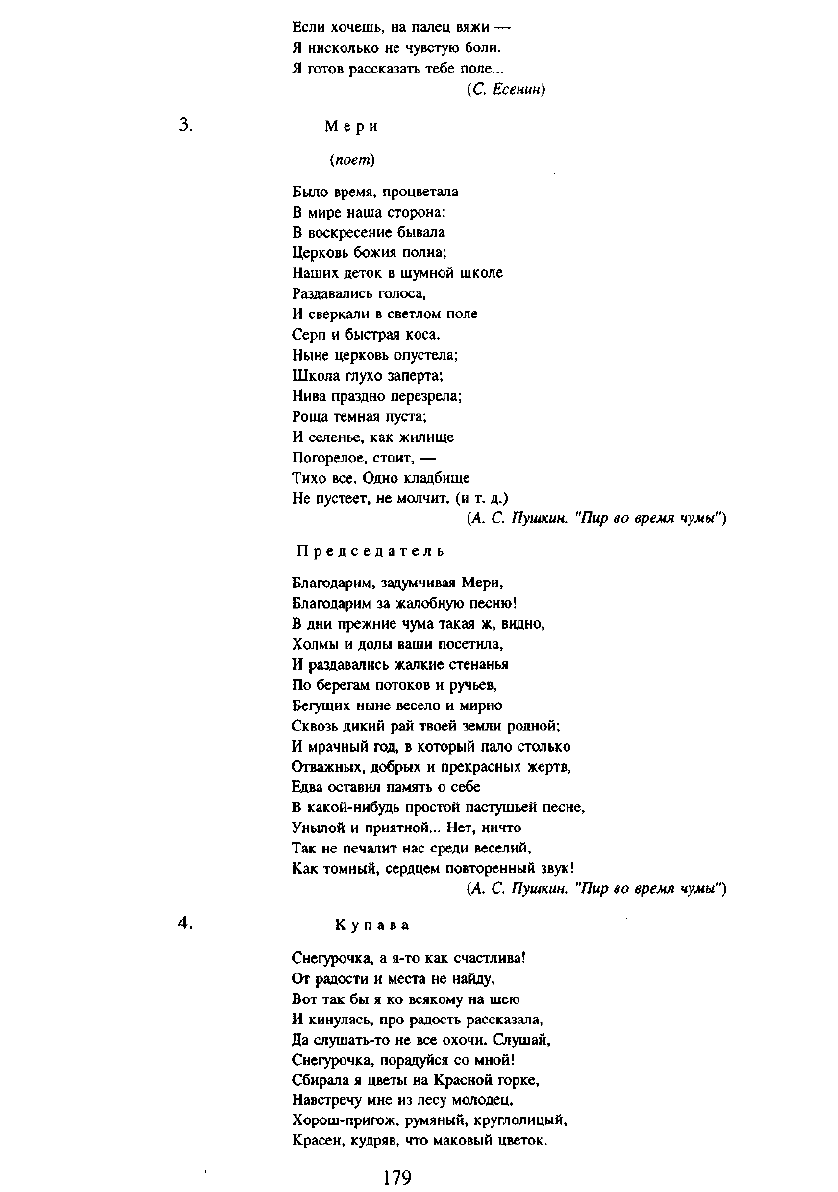
Если хочешь,
на
палец вяжи
—
Я
нисколько
не
чувстую боли.
Я
готов рассказать
тебе
поле...
( С .
Есенин)
3.
Мери
(поет)
Было время, процветала
В
мире наша сторона:
В
воскресение бывала
Церковь
божия
полна;
Наших
деток
в
шумной школе
Раздавались
голоса,
И
сверкали
в
светлом поле
Серп
и
быстрая коса.
Ныне
церковь опустела;
Школа
глухо заперта;
Нива
праздно перезрела;
Р ощ а темная пуста;
И
селенье,
как
жилище
Пог ор ел ое , стоит,
—
Тихо все. Одно кладбище
Не
пустеет,
не
молчит,
(и т. д.)
(Л.
С.
Пушкин. "Пир
во
время
чумы")
Председатель
Благодарим, задумчивая Мери,
Благодарим
за
жалобную
песню!
В дни
прежние чума такая
ж,
видно,
Холмы
и
долы ваши посетила,
И
раздавались жалкие стенанья
По
берегам потоков
и
ручьев,
Бегущих ныне весело
и
мирно
Сквозь
дикий
рай
твоей земли родной;
И
мрачный г о д ,
в
который пало столько
Отважных, добрых
и
прекрасных жертв,
Е дв а оставил память
о
с е б е
В
какой-нибудь простой пастушьей песне,
Унылой
и
приятной... Н е т , ничто
Так не
печалит
нас
среди веселий,
Как
томный, сердцем повторенный звук!
(А.
С.
Пушкин. "Пир
во
время
чумы")
4,
Купава
Снегурочка,
а
я-то
как
счастлива!
От
радости
и
м е с т а
н е
найду,
Вот так бы я ко
всякому
на шею
И
кинулась,
про
радость рассказала,
Да
слушать-то
не все
охочи. Слушай,
Снегурочка, порадуйся
со
мной!
Сбирала
я
цветы
на
Красной горке,
Навстречу
мне из
лесу м о ло д ец ,
Хорош-пригож, румяный, круглолицый,
Красен, кудряв,
что
маковый цветок.
1 7 9
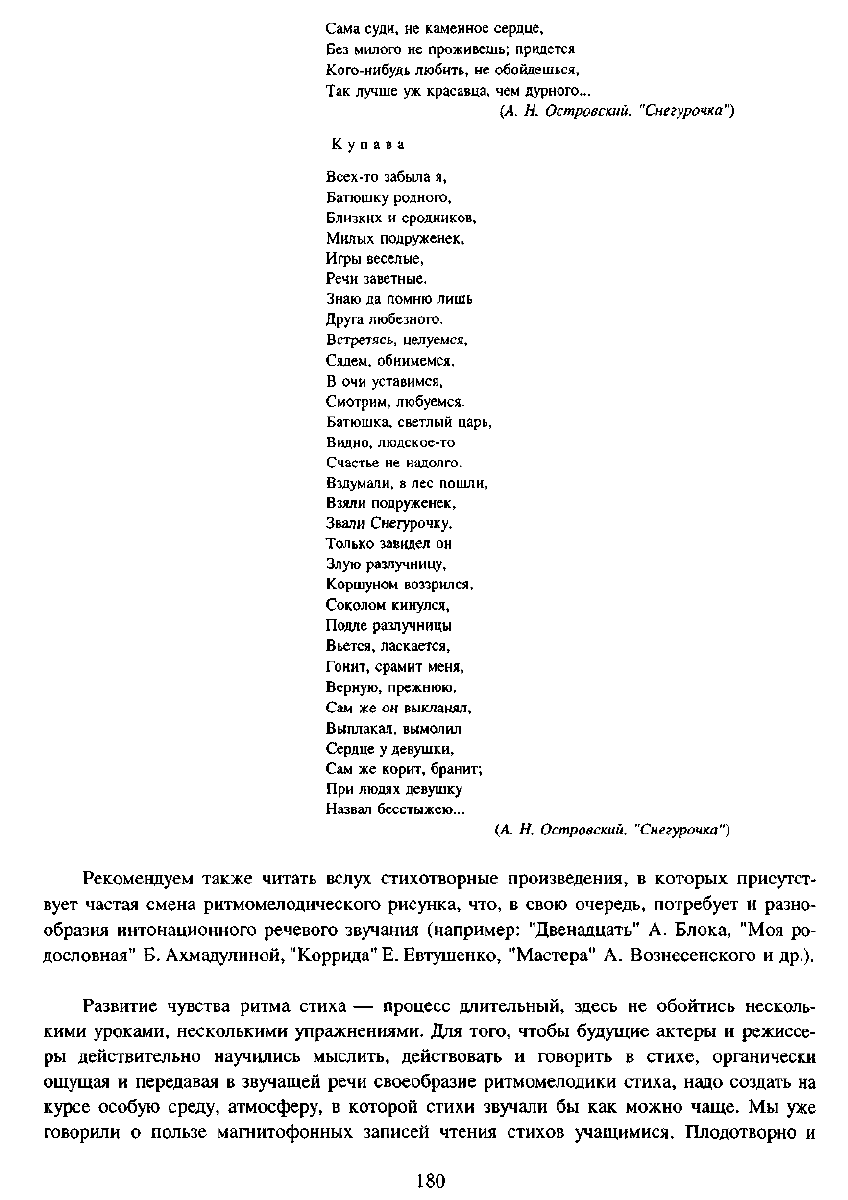
Сама суди,
не
каменное сердце,
Без
милого
не
проживешь; придется
Кого-нибудь л юб и ть ,
не
о б ой д еш ь ся ,
Так
лучше
уж
красавца,
чем
дурного...
(А.
Н.
Островский.
"Снегурочка"}
Купава
Всех-то забыла
я,
Батюшку
родного,
Близких
и
сродников,
Милых
подруженек,
Игры
веселые,
Речи
заветные.
Знаю
да
помню лишь
Друга
любезного.
В с т р е т яс ь ,
целуемся,
Сядем,
обнимемся,
В очи
уставимся,
Смотрим,
любуемся.
Батюшка,
светлый царь,
Видно,
людское-то
Счастье
не
надолго.
Вздумали,
в лес
пошли,
Взяли
подруженек,
Зва ли Снегурочку.
Только
завидел
он
З л у ю разлучницу,
Коршуном
воззрился,
Соколом
кинулся,
Под ле разлучницы
Вьется, ласкается,
Гонит, срамит меня,
Верную, прежнюю.
Сам же он
выкланял,
Выплакал, вымолил
С е р д це
у
девушки,
Сам же
корит, бранит;
При
людях девушку
Назвал
бесстыжею...
(А.
Н.
Островский.
"Снегурочка")
Рекомендуем также читать вслух стихотворные произведения,
в
которых присутст-
вует частая смена ритмомелодического рисунка, что,
в
свою очередь, потребует
и
разно-
образия интонационного речевого звучания (например: "Двенадцать"
А.
Блока, "Моя
ро-
дословная"
Б.
Ахмадулиной,
"Коррида"
Е.
Евтушенко, "Мастера"
А.
Вознесенского
и
др.).
Развитие чувства ритма стиха
—
процесс длительный, з д е с ь
не
обойтись несколь-
кими уроками, н е с ко л ь к им и упражнениями.
Д л я
т о г о ,
ч т о б ы
б у д у щ и е
а к т е р ы
и
р е ж и с с е -
ры
действительно научились мыслить, действовать
и
говорить
в
стихе,
органически
ощущая
и
передавая
в
звучащей речи своеобразие ритмомелодики стиха, надо создать
на
курсе ос обую среду, атмосферу,
в
которой стихи звучали
бы как
можно чаще.
Мы уже
говорили
о
пользе магнитофонных записей чтения стихов учащимися. Плодотворно
и
1 8 0
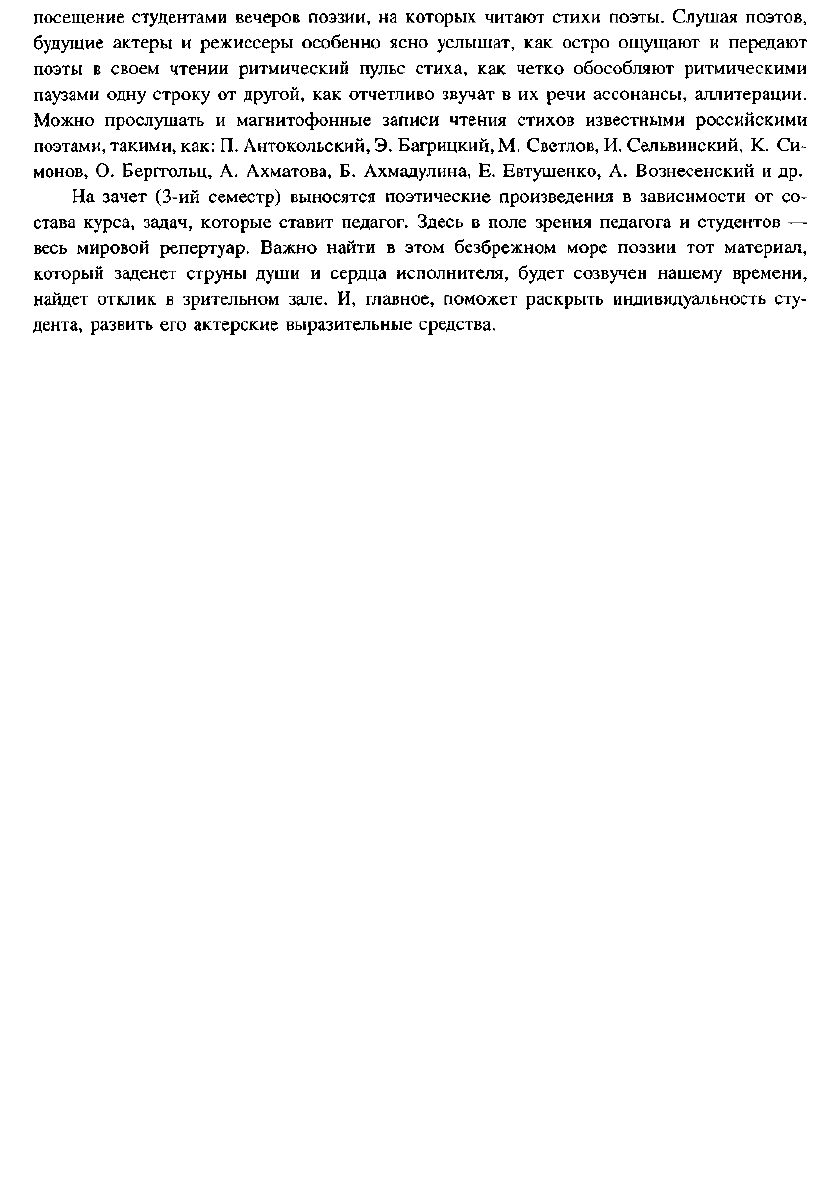
посещение
студентами вечеров поэзии,
на
которых читают стихи поэты. Слушая поэтов,
будущие актеры
и
режиссеры особенно ясно услышат,
как
остро ощущают
и
передают
поэты
в
своем чтении ритмический пульс стиха,
как
четко обособляют ритмическими
паузами
одну строку
от
другой,
как
отчетливо звучат
в их
речи ассонансы, аллитерации.
Можно
прослушать
и
магнитофонные записи чтения стихов известными российскими
поэтами,
такими, как:
П.
Антокольский,
Э.
Багрицкий,
М.
Светлов,
И.
Сельвинский,
К. Си-
монов,
О.
Берггольц,
А.
Ахматова,
Б.
Ахмадулина,
Е.
Евтушенко,
А.
Вознесенский
и др.
На
зачет (3-ий
семестр)
выносятся поэтические произведения
в
зависимости
от со-
става
курса, задач, которые ставит педагог. Здесь
в
поле зрения педагога
и
студентов
—
весь
мировой
репертуар.
Важно найти
в
этом безбрежном море поэзии
тот
материал,
который
заденет струны души
и
сердца исполнителя, будет созвучен нашему времени,
найдет
отклик
в
зрительном зале.
И,
главное, поможет раскрыть индивидуальность сту-
дента, развить
его
актерские выразительные
средства.
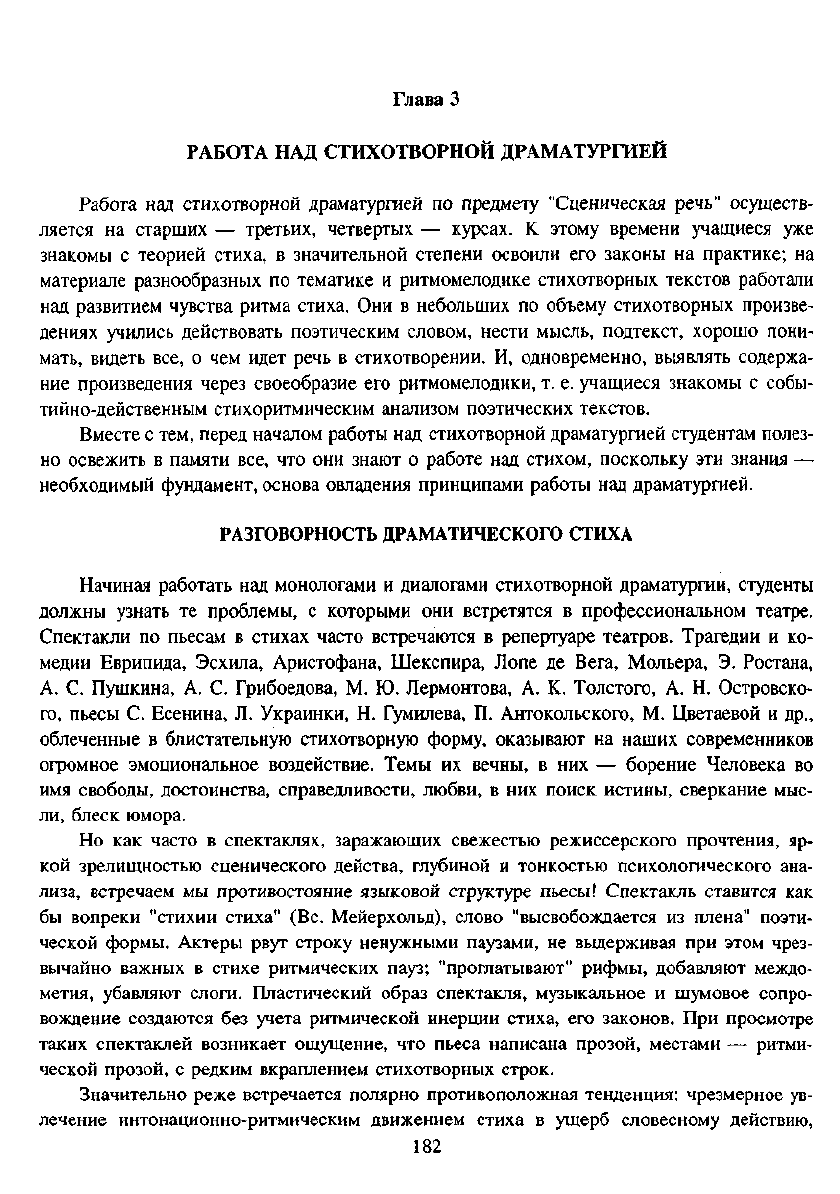
Глава
3
РАБОТА
НАД
СТ И Х О Т В О Р Н О Й
ДРАМАТУРГИЕЙ
Р а б о т а
н а д
стихотворной др ам ат ур ги ей
п о
п р е д м е т у " С ц е н и ческая
речь"
о с у щ е с т в -
ляется
на
старших
—
третьих, четвертых
—
курсах.
К
этому времени учащиеся
уже
знакомы
с
теорией стиха,
в
значительной степени освоили
его
законы
на
практике;
на
материале
разнообразных
по
тематике
и
ритмомелодике стихотворных текстов работали
над
развитием чувства ритма стиха.
Они в
небольших
по
объему стихотворных
произве-
дениях
учились действовать поэтическим словом, нести мысль, подтекст, хорошо
пони-
мать,
видеть все,
о чем
идет речь
в
стихотворении.
И,
одновременно, выявлять содержа-
ние
произведения через своеобразие
его
ритмомелодики,
т. е.
учащиеся знакомы
с
собы-
тийно-действенным
стихоритмическим анализом поэтических текстов.
Вместе
с
тем, перед началом работы
над
стихотворной драматургией студентам полез-
но
освежить
в
памяти в с е ,
что они
знают
о
работе
над
стихом, поскольку
эти
знания
—
необходимый
фундамент, основа овладения принципами работы
над
драматургией.
Р А ЗГ О ВО Р НО С Т Ь
Д РА М А Т ИЧ Е СК О Г О
СТИХА
Начиная
работать
над
монологами
и
диалогами стихотворной драматургии, студенты
должны узнать
т е
п р о б л е м ы ,
с
к о т о р ы м и
о н и
встрет я т с я
в
п р о ф е с с и о н а л ь н о м
т е а т р е .
Спектакли
по
пьесам
в
стихах часто встречаются
в
репертуаре
театров.
Трагедии
и ко-
медии
Еврипида,
Эсхила, Аристофана,
Шекспира,
Лопе
де
В е г а ,
М ол ье ра ,
Э.
Р о ст а н а ,
А. С.
Пушкина,
А. С.
Грибоедова,
М. Ю.
Лермонтова,
А. К.
Толстого,
А. Н.
Остров ск о-
го,
пьесы
С.
Есенина,
Л.
Украинки,
Н.
Гумилева,
П.
Антокольского,
М.
Цветаевой
и
др.,
облеченные
в
блистательную стихотворную форм у, оказывают
на
наших современников
огромное эмоциональное воздействие. Темы
их
вечны,
в них —
борение Человека
во
имя
свободы, достоинства, справедливости, любви,
в них
поиск истины, сверкание мыс-
ли,
б л е с к
юмора.
Но
как
часто
в
спектаклях, заражающих свежестью режиссерского прочтения,
яр-
кой
зрелищностью сценического действа, глубиной
и
тонкостью психологического а н а -
лиза ,
в с т р е ч а ем
м ы
п р о т и в о с т о я н и е языковой
с т ру к т ур е
п ь е с ы!
С п е к т а кл ь с т а в и т с я
ка к
бы
вопреки "стихии стиха" (В с. Мейерхольд), с л о в о "высвобождается
из
плена"
поэти-
ческой фор мы. Актеры рвут строку ненужными паузами,
не
выдерживая
при
этом
чрез-
вычайно
важных
в
стихе ритмических пауз; "проглатывают" рифмы, добавляют
междо-
метия, убавляют слоги. Пластический образ спектакля, музыкальное
и
шумовое сопро-
вождение создаются
без
учета
ритмической инерции стиха,
его
законов.
При
просмотре
таких спектаклей возникает ощущение,
что
пьеса написана прозой, местами
—
ритми-
ческой прозой,
с
редким вкраплением стихотворных строк.
Значительно реже встречается полярно противоположная тенденция: чрезмерное
ув-
лечение интонационно-ритмическим движением стиха
в
ущерб словесному действию,
1 8 2
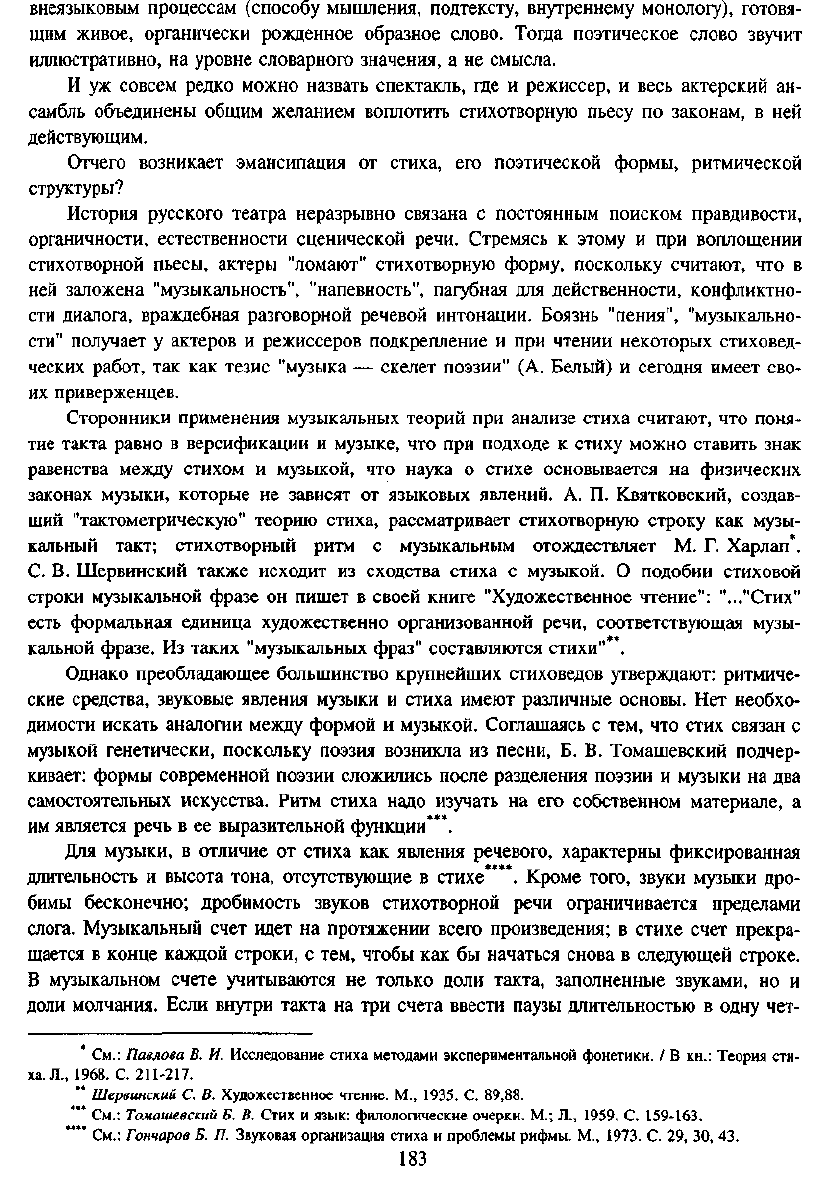
внеязыковым
процессам (способу мышления, подтексту, внутреннему монологу), готовя-
щим
живое, органически рожденное образное слово. Тогда поэтическое слово звучит
иллюстративно,
на
уровне словарного значения,
а не
смысла.
И
уж
с о в се м редко можно назвать спектакль,
где и
режиссер,
и
весь актерский
ан-
самбль
объединены общим желанием воплотить стихотворную пьесу
по
законам,
в ней
действующим.
От че го
возникает эмансипация
от
стиха,
его
поэтической формы, ритмической
структуры?
История
русского театра неразрывно связана
с
постоянным поиском правдивости,
органичности,
естественности сценической речи. Стремясь
к
этому
и при
воплощении
стихотворной
пьесы, актеры "ломают" стихотворную форму, поскольку считают,
что в
ней
заложена "музыкальность", "напевность", пагубная
для
действенности, конфликтно-
сти
диалога, враждебная разговорной речевой интонации. Боязнь "пения", "музыкально-
сти"
получает
у
актеров
и
режиссеров подкрепление
и при
чтении некоторых стиховед-
ческих
ра бо т,
так как
тезис "музыка
—
скелет поэзии"
(А.
Белый)
и
с его д н я и м е е т
сво-
их
приверженцев.
Сторонники
применения музыкальных теорий
при
анализе стиха считают,
что
поня-
тие
такта равно
в
версификации
и
музыке,
что при
подходе
к
стиху можно ставить
знак
равенства
между стихом
и
м уз ык о й,
что
наука
о
стихе
о сновы вае тся
на
физических
законах
музыки, которые
не
зависят
от
языковых явлений.
А. П.
Квятковский,
создав-
ший
"тактометрическую"
теорию стиха, рассматривает стихотворную строку
как
музы-
кальный
такт; стихотворный ритм
с
музыкальным о т ож д е ст в ля е т
М. Г.
Харлап*.
С.
В.
Шервинский
также исходит
из
сходства стиха
с
музыкой.
О
подобии стиховой
строки
музыкальной ф ра з е
он
пишет
в
с во е й книге "Художественное чтение":
"..."Стих"
е с т ь формальная единица художественно организованной речи, соответствующая
музы-
кальной
фр аз е .
Из
таких "музыкальных фраз" составляются стихи"
.
Однако преобладающее большинство крупнейших стиховедов утверждают: ритмиче-
ские
средства, звуковые явления музыки
и
стиха имеют различные основы.
Нет
необхо-
димости
искать аналогии между формой
и
музыкой. Соглашаясь
с
т е м,
что
стих связан
с
музыкой
генетически, поскольку поэзия возникла
из
песни,
Б. В.
Томашевский подчер-
кивает:
формы современной поэзии сложились после разделения поэзии
и
музыки
на два
са м ос т оят е ль н ых
и с к у с с т в а .
Р и т м
с т и х а
н а до изучать
н а е г о
с о б с т в е н н о м
м а т е р и а л е ,
а
им
является речь
в ее
выразительной функции*
.
Для
музыки,
в
отличие
от
стиха
как
явления
р е ч е в о г о ,
характерны фиксированная
длительность
и
высота тона, о тсу тствую щие
в
стихе
.
Кроме т ого, звуки музыки
дро-
б и м ы
бесконечно; дробимость звуков стихотворной речи ограничивается п р е д е л а м и
с л о г а . Музыкальный
с ч е т
и д е т
на
протяжении в се го произведения;
в
стихе
с ч е т
прекра-
щается
в
конце каждой строки,
с
т ем ,
чт о б ы
как бы
начаться снова
в
следую щ е й
с тр ок е.
В
музыкальном
с ч е т е
учитываются
не
только доли такта, заполненные звуками,
но и
доли
молчания. Е сли внутри такта
на три
с ч е т а
в в е с т и паузы длительностью
в
о д н у
че т-
*
См.:
Павлова
В. И.
Исследование стиха методами экспериментальной фонетики.
/ В
кн.:
Теория
сти-
х а.
Л.,
1 9 6 8 .
С .
211-217.
"
Шервинский
С . В .
Художественное чтение.
М . ,
1 9 3 5 .
С .
8 9 , 8 8 .
* "
С м . :
Томашевский
Б . В .
С т и х
и
язык:
ф и л о л о г и ч е с к и е
о ч е р к и .
М . ;
Л . ,
1 9 5 9 .
С .
1 5 9 - 1 6 3 .
* * "
С м. :
Гончаров
Б . П.
Звуковая организация стиха
и
проблемы рифмы.
М . ,
1 9 7 3 .
С. 29, 30, 4 3.
1 8 3
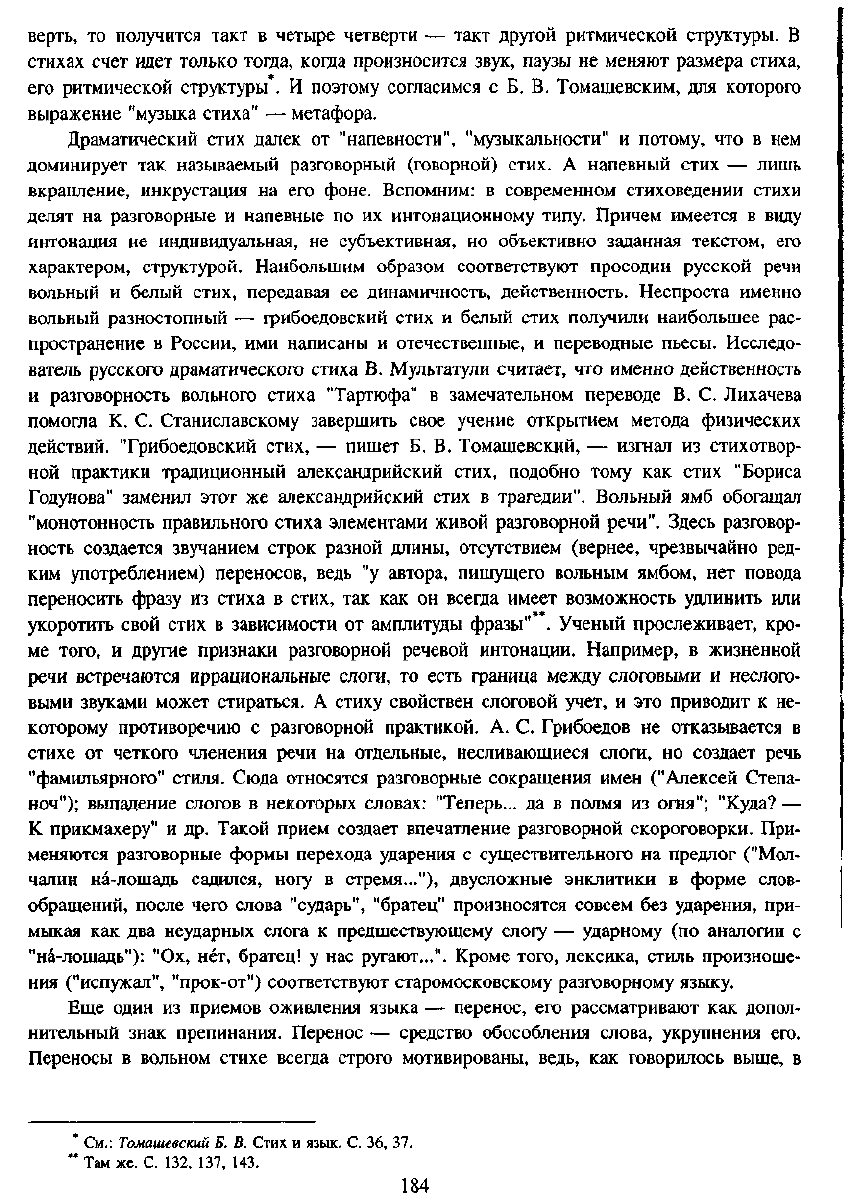
верть,
то
получится такт
в
четыре четверти
—
такт другой ритмической структуры.
В
стихах
с ч е т
и д е т
только
т о г д а , к ог да п р о и з н о с и т с я зв ук , паузы
н е
м е н я ю т
р аз м ер а
с т и х а ,
его
ритмической структуры*.
И
поэтому согласимся
с Б. В.
Томашевским,
для
которого
выражение
"музыка стиха"
• —
метафора.
Драматический стих далек
от
"напевности", "музыкальности"
и
потому,
что в нем
доминирует
так
называемый разговорный
(говорной)
стих.
А
напевный стих
—
лишь
в к р а п л е н и е ,
и н к р ус т ац и я
н а е г о
ф о н е . В с п о м н и м :
в
с о в р е м е н н о м
с т и х о в е д е н и и
стихи
делят
на
разговорные
и
напевные
по их
интонационному типу. Причем имеется
в
виду
ин тон аци я
н е
индивидуальная,
н е
субъективная,
но
о б ъ е к т и в н о
за д ан н ая
т е к с т о м ,
ег о
характером, структурой. Наибольшим образом соответствуют просодии русской
речи
вольный
и
белый стих, передавая
ее
динамичность, действенность. Неспроста
именно
вольный
разностопный
—
грибоедовский
стих
и
белый стих получили наибольшее рас-
пространение
в
России,
ими
написаны
и
отечественные,
и
переводные пьесы. И с с л е д о -
в а т е л ь
р у с с к о г о
д р а м а т и ч е с к о г о
стиха
В .
Мультатули
с ч и т а е т ,
ч т о
и м е н н о
д е й с т в е н н о с т ь
и
разговорность вольного стиха "Тартюфа"
в
замечательном п е р е во де
В. С.
Лихачева
помогла
К. С.
Станиславскому завершить свое учение открытием метода физических
действий.
"Грибоедовский стих,
—
пишет
Б. В.
Томашевский,
—
изгнал
из
стихотвор-
ной
практики традиционный александрийский стих, подобно тому
как
стих
"Бориса
Г о д у н о в а " з а м е н и л
э т о т
ж е
а л е к с а н д р и й с к и й ст их
в
трагедии". Во л ьн ы й
ям б
о б о г а щ а л
"монотонность правильного стиха элементами живой разговорной речи".
З д е с ь
разговор-
ность создается звучанием строк разной
длины,
отсутствием
( в е р н е е ,
чрезвычайно р е д -
ким
употреблением) переносов, ве д ь
"у
автора, пишущего вольным ямбом,
нет
повода
переносить фразу
из
стиха
в
стих,
так как он
всегда и м е е т возможность удлинить
или
укоротить свой стих
в
зависимости
от
амплитуды фразы"
.
Ученый прослеживает, кро-
ме
т о г о ,
и
другие признаки разговорной речевой интонации. Например,
в
жизненной
р е ч и
в с т р е ч а ю т с я
и р р а ц и о н а л ь н ы е с л о г и ,
т о
е с т ь
г р а н и ц а между
с л о г о в ы м и
и
н е с л о г о -
выми
звуками может стираться.
А
стиху свойствен слоговой учет,
и это
приводит
к не-
которому противоречию
с
разговорной практикой.
А. С.
Г р иб оед ов
не
отказывается
в
стихе
от
четкого членения речи
на
отдельные, несливающиеся с л ог и ,
но
с о з д а е т
речь
"фамильярного" стиля. Сюда относятся разговорные сокращения и м ен ("Алексей Степа-
ноч " );
в ы п а д е н и е
с л о г о в
в
н е к о т о р ы х
с л о в а х :
" Т е п е р ь . . .
д а в
п о л м я
и з
огня"; "Куда?
—
К
прикмахеру"
и др.
Такой прием с о з да ет впечатление разговорной скороговорки. П р и -
меняются разговорные формы перехода ударения
с
существительного
на
предлог
( " М о л -
чалин
на-лошадь садился, ногу
в
с тр е мя . . . " ) ,
двусложные энклитики
в
форме с л о в -
обращений, п о с л е
чего
слова "сударь", "братец" произносятся с о в с е м
без
ударения, при-
мыкая
как два
неударных слога
к
пр е дш е ст в ую щ е м у слогу
—
ударному
(по
аналогии
с
"на-лошадь"):
"Ох, н е т , братец!
у нас
ругают...".
Кроме т о го, лексика, с т и л ь произноше-
н и я
("испужал",
" п р о к - о т " )
с о о т в е т с т в у ю т
с т а р о м о с к о в с к о м у
р а з г о в о р н о м у
языку.
Еще
о д и н
из
приемов оживления языка
—
перенос,
его
рассматривают
как
допол-
нительный
знак препинания. П еренос
—
средство обос облени я слова, укрупнения е г о .
Переносы
в
вольном стихе всегда строго мотивированы, ведь,
как
говорилось в ы ше ,
в
См.: Томашевский
Б. В.
Стих
и
язык.
С. 36, 37.
"
Т а м
ж е .
С .
1 3 2 ,
1 3 7 ,
1 4 3 .
1 8 4
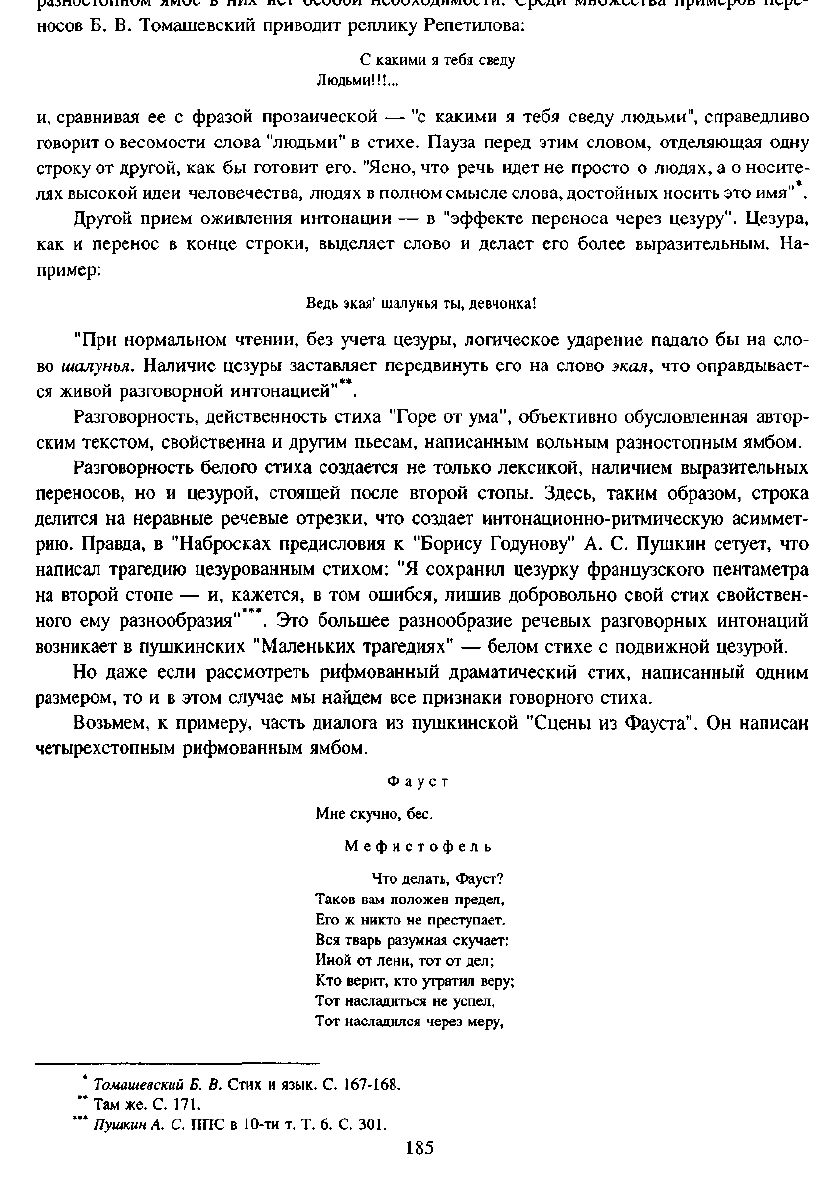
и а^ Г И- ^
1
\Л
1 П1 Л У 1
Л1У1\^^
о
П *" 1 Л
П^
1
^ ^ ^Д Л Ли
П\*ММ
ЛМДУЧУ1^\*
1
П
.
^уЪь'Ц.П
ШПиЛ-^^Юа
11р ШУИ^ р\-? О
11^ри~
носов
Б. В.
Томашевский приводит реплику
Репетилова:
С
какими
я
тебя
сведу
Людьми!!!...
и,
сравнивая
ее с
фразой прозаической
— "с
какими
я
тебя сведу людьми", справедливо
говорит
о
весомости слова "людьми"
в
стихе. Пауза перед этим словом, отделяющая одну
строку
от
другой,
как бы
готовит е г о . "Ясно,
что
речь идет
не
просто
о
людях,
а о
носите-
лях
высокой идеи человечества, людях
в
полном смысле слова, достойных носить
это
имя"
.
Другой прием оживления интонации
— в
"эффекте переноса через цезуру". Цезура,
как
и
перенос
в
конце строки, выделяет слово
и
делает
его
более
выразительным.
На-
пример:
Ведь
экая'
шалунья
ты,
девчонка!
"При
нормальном чтении,
без
учета цезуры, логическое ударение падало
бы на
сло-
во
шалунья.
Наличие цезуры заставляет передвинуть
его на
слово экая,
что
оправдывает-
ся
живой
разговорной интонацией" .
Разговорность, действенность стиха
"Горе
от
ума", объективно обусловленная автор-
ским
текстом, свойственна
и
другим пьесам, написанным вольным разностопным ямбом.
Разговорность
б е л о г о
стиха создается
не
только лексикой, наличием выразительных
переносов,
но и
цезурой, стоящей после второй стопы. Здесь, таким образом, строка
делится
на
неравные речевые отрезки,
что
создает
интонационно-ритмическую асиммет-
рию.
Правда,
в
"Набросках предисловия
к
"Борису Годунову"
А. С.
Пушкин
сетует,
что
написал
трагедию цезурованным стихом:
"Я
сохранил цезурку французского пентаметра
на
второй стопе
— и,
кажется,
в том
ошибся, лишив добровольно свой стих свойствен-
н ог о
ему
разнообразия"
. Это
большее разнообразие речевых разговорных интонаций
возникает
в
пушкинских "Маленьких трагедиях"
—
белом стихе
с
подвижной цезурой.
Но
даже е с л и рассмотреть рифмованный драматический стих, написанный одним
размером,
то и в
этом случае
мы
найдем
все
признаки
говорного
стиха.
В о з ь м е м ,
к
примеру,
час т ь
диалога
и з
пушкинской "Сцены
из
Фауста".
О н
н а п и с а н
четырехстопным рифмованным ямбом.
Фауст
Мне
скучно,
б е с .
Мефистофель
Что
делать, Фауст?
Таков
вам
положен
предел,
Его ж
никто
не
преступает.
Вся
тварь
разумная
скучает:
Иной
от
лени,
тот от
дел;
Кто
верит,
кто
утратил веру;
Тот
насладиться
не
успел,
Тот
насладился через меру,
Томашевский
Б. В.
Стих
и
язык.
С.
1 67 - 1 6 8.
"Там
же. С.
171.
* "
Пушкин
А . С .
П П С
в
1 0 - т и
т . Т . 6 . С .
301.
1 8 5
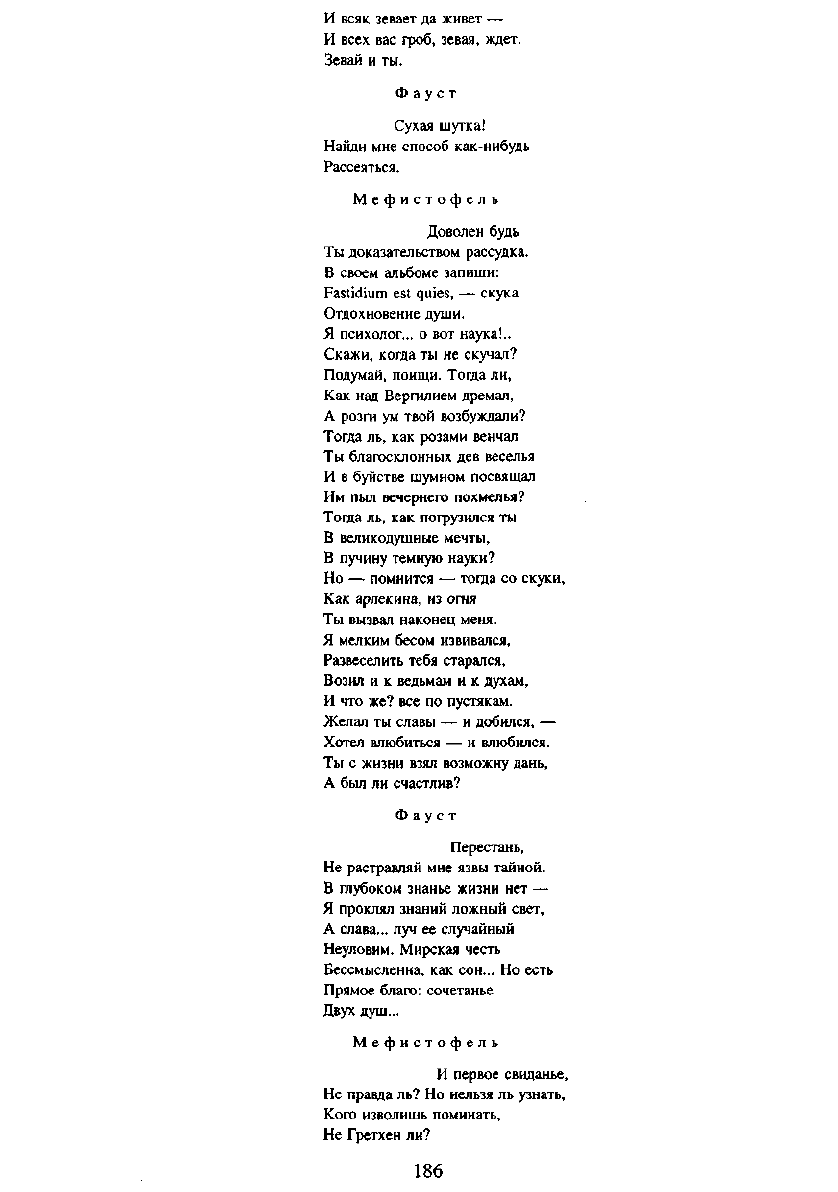
И
всяк зевает
да
живет
—
И
всех
вас
гроб, зевая, ждет.
Зевай
и ты.
Фауст
Сухая шутка!
Найди
мне
способ как-нибудь
Рассеяться.
Мефистофель
Доволен будь
Ты
доказательством рассудка.
В
своем альбоме запиши:
РазПйшт
6 8 1
дшез,
—
скука
Отдохновение души.
Я
психолог...
о вот
наука!..
Скажи, когда
ты не
скучал?
Подумай, поищи. Тогда
ли,
Как
над
Вергилием дремал,
А
розги
ум
твой возбуждали?
Тогда
ль, как
розами венчал
Ты
благосклонных
дев
веселья
И в
буйстве шумном посвящал
Им
пыл
вечернего
похмелья?
Тогда
ль, как
погрузился
ты
В
великодушные мечты,
В
пучину темную науки?
Но
—
помнится
—
тогда
со
скуки,
К а к
а р л е к и н а ,
и з
о г н я
Ты
вызвал наконец меня.
Я
мелким
бе с ом
извивался,
Развеселить
т ебя
старался,
Возил
и к
ведьмам
и к
духам,
И
что же? все по
пустякам.
Желал
ты
славы
— и
добился,
—
Хотел
влюбиться
— и
влюбился.
Ты
с
жизни взял возможну дань,
А был ли
счастлив?
Фауст
Перестань,
Не
растравляй
мне
язвы
тайной.
В
глубоком знанье жизни
нет —
Я
проклял знаний ложный
свет,
А
слава...
луч ее
случайный
Неуловим. Мирская честь
Бессмысленна,
как
сон...
Но
есть
Прямое
благо:
сочетанье
Двух душ...
Мефистофель
И
первое свиданье,
Не
правда
ль? Но
нельзя
ль
узнать,
Кого изволишь поминать,
Не
Гретхен
ли?
1 8 6

Фауст
О сон
чудесный!
О
пламя чистое любви!
Там,
там — где
тень,
где шум
древесный,
Где
сладко-звонкие
струи
—
Там,
на
груди
ее
прелестной
Покоя
томную
главу,
Я
счастлив был...
Мефистофель
Творец
небесный!
Ты
бредишь, Фауст,
наяву!
Приведенного отрывка вполне достаточно, чтобы охарактеризовать говорной стих,
насыщенный
действенными интонациями. Речь
и
Фауста,
и
Мефистофеля, несмотря
на
ее
ритмическую организованность, присутствие рифм, носит непринужденный
оттенок,
свойственный
разговорной речи. Синтаксический строй
не
упорядочен, длинные фразы
("Вся
тварь разумная...
и
всех
вас
гроб, зевая, ждет"
—
фраза, расположенная
на
семи
строках)
сменяются короткими ("Сухая
шутка!",
"Мне скучно, бес",
а в
конце диало-
га
—
" В с е
утопить",
"С е йч ас " ).
Способ рифмовки меняется, свободно чередуются охватная, смежная, кольцевая
рифмы,
что
также
сп особст вуе т
созданию непринужденной разговорной интонации.
Перекрестная
— дел
веру
успел
меру
Кольцевая
—
шутка
как-нибудь
будь
рассудка
Смежная
— ты
мечты
науки
со
скуки
Присутствуют
и
наиболее
характерные
для
разговорного
стиха
женские
и
мужские
клаузулы,
при
этом чередование
их не
упорядочено.
Па узы
встречаются
в
любом
месте
строки
— в
начале, середине, деля
стих
на не-
равные
части, разрушая
его
симметричность. Часто присутствуют переносы,
что
выража-
е т с я
в
несовпадении интонационного
и
метрического членения:
. ..спос о б как-нибудь
Рассеяться.
. . .
Тогда
Плодами
своего труда...
и т. д.
187
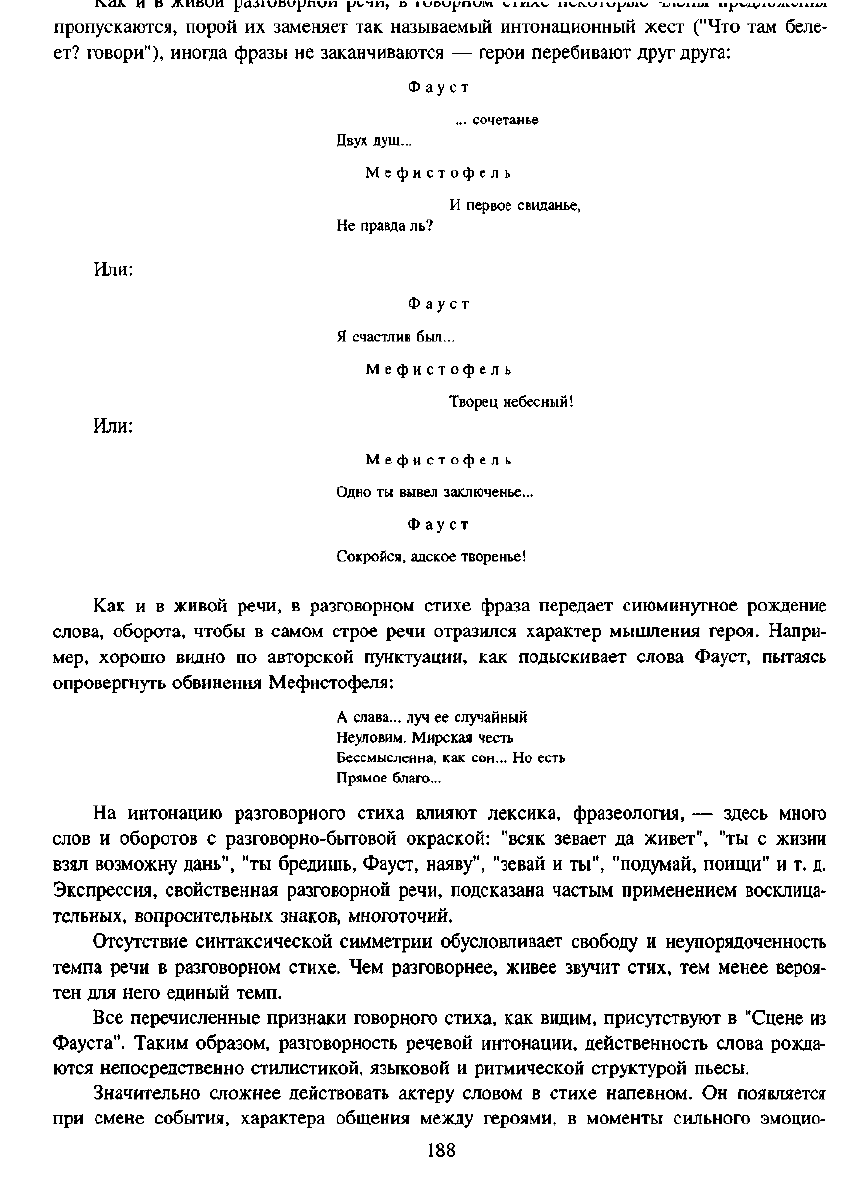
пропускаются,
порой
их
заменяет
так
называемый интонационный жест ("Что
там
б е л е -
ет?
говори"), иногда фразы
не
заканчиваются
—
герои перебивают друг друга:
Фауст
. ..
сочетанье
Двух
душ...
Мефистофель
И
п е р в о е с в и д а н ь е ,
Н е
п р а в д а
л ь ?
Или:
Фауст
Я
счастлив
бы л. ..
Мефистофель
Т в о р е ц
небесный!
Или:
Мефистофель
Одно
ты
вывел
заключенье...
Фауст
Сокройся,
адское
творенье!
Как и в
живой речи,
в
разговорном
стихе
фраза передает сиюминутное рождение
сл ова , оборота, чтобы
в
самом строе речи отразился характер мышления героя.
Напри-
м е р ,
х о р о ш о
в и д н о
п о
а в т о р с к о й
п у н к т у а ц и и ,
к а к
п о д ы с к и в а е т
с л о в а
Ф а у с т ,
п ы т а я сь
опровергнуть обвинения Мефистофеля:
А
слава...
луч ее
случайный
Н е у л о в и м .
М и р ск а я
ч е с т ь
Бессмысленна,
как
сон...
Но
есть
Прямое
б л а г о . . .
На
интонацию разговорного стиха влияют лексика, фразеология,
—
з д е с ь
много
слов
и
оборотов
с
разговорно-бытовой окраской: "всяк з е в ает
да
живет",
"ты с
жизни
взял
возможну дань",
"ты
бр еди шь, Фауст, наяву", "зевай
и
ты", "подумай, поищи"
и т. д.
Экспрессия, свойственная разговорной речи, подсказана частым применением восклица-
тельных,
в о п р о с и т е л ь н ы х
з на ко в, м н о г о т о ч и й .
Отсутствие синтаксической симметрии обусловливает сво б од у
и
неупорядоченность
темпа речи
в
разговорном
стихе.
Чем
разговорнее, живее звучит стих,
тем
м е н е е
в е р о я -
тен для
н ег о единый темп.
Все
перечисленные признаки говорного стиха,
как
видим, присутствуют
в
"Сцене
из
Фауста". Таким образом, разговорность речевой интонации, действенность слова
рожда-
ются
непосредственно стилистикой, языковой
и
ритмической структурой пьесы.
З н ач и те л ьн о
с л о ж н е е
д е й ст в ов а т ь
а к т е р у
с л о в о м
в
стихе
н а п е в н о м .
О н
п о явл я ет с я
при
смене события, характера общения между героями,
в
моменты сильного
эмоцио-
1 8 8
