Розеншток-Хюсси О. Язык рода человеческого
Подождите немного. Документ загружается.

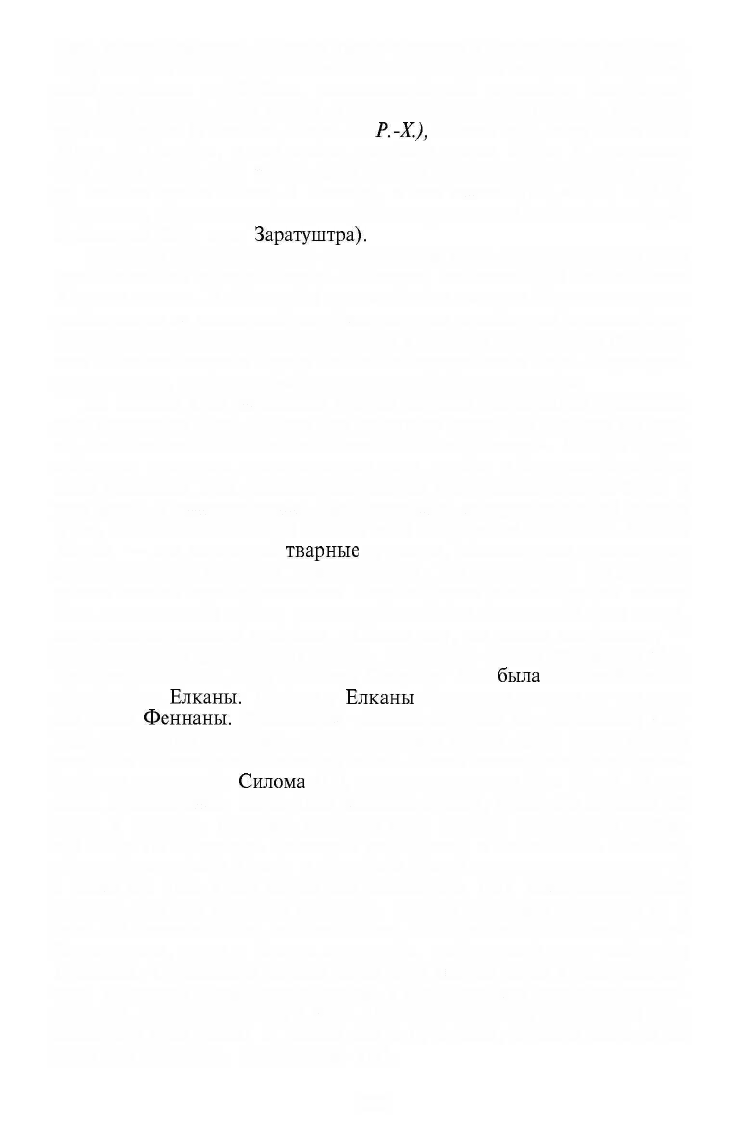
бою, и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сло-
маю; и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства,
дабы ты познал что Я Яхве, называющий тебя по имени, Бог Израи-
лев. Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал
тебя по имени (а именно, Кира. —
Р.-Х.),
почтил тебя, хотя ты не знал
Меня. Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал
тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запа-
да, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного» (Ис. 44:28; 45:1-6).
(Вероятно, под этим молящимся на северо-востоке человеком подра-
зумевается Кир, а не
Заратуштра).
Еврейский пророк знает о пробуждении Кира, в силу которого Кир
призывает имя живого Творца. Он верит, что истинный Бог называет
Кира по имени. В обоих этих предложениях история Израиля впервые
расширяется до всемирной истории, которая в наши дни привела к но-
вому учреждению государства Израиль и которая непрерывно обновля-
ется на основе встречи народа Библии и народов всего мира. Соревнуясь
друг с другом, они призывают и оказываются призванными.
Не Библия и не еврейский пророк научили Ахеменидов призывать
имя истинного Бога. Но как они дошли до этого? Из Библии мы зна-
ем, что Бог стал слышимым из «веяния тихого ветра». Победы царей
являются слишком громкими для того, чтобы в их грохоте можно
было услышать Бога. Именно поэтому он отсутствовал в шуме бури, в
реве моря, в раскатах грома. Бог может быть воспринят слабой тварью
в нас, а не сильными мира сего во всем могуществе их власти. Анна и
Мария — это скромные
тварные
существа, оказавшиеся причастны-
ми Его голосу в Ветхом и Новом Заветах. Таким образом, мы должны
искать истоки принадлежности Кира и Дария к внимающим голосу
Бога на окольных путях, рассматривая слова Анны и Марии тогда,
когда они слушали и отвечали. «Скажи ему, но скажи смиренно», —
так говорят эти два женских голоса, как позже скажет Марианна (14).
Как говорила Анна, будущая мать Самуила? Она
была
любимой женой
ефрафянина
Елканы.
Однако у
Елканы
были дети только от его дру-
гой жены
Феннаны.
Феннана же «сильно огорчала ее», поскольку Гос-
подь «заключил чрево ее». Анна плакала и не ела, даже когда Елкана
уверял ее в своем расположении к ней. Семья ежегодно ходила покло-
няться в святилище
Силома
(15), где священником был Илий. И вот
снова пришел день, когда Анна воззвала к Богу, прося его даровать ей
сына, и плакала, плакала. Она дала обет, говоря: «Бог воинств Сава-
оф! Если Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне,
и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то
я отдам его Тебе в дар на все дни жизни его» (16). Священник Илий
смотрел, как она страстно молилась, счел ее пьяной и упрекнул ее в
этом. «И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой, я — жена, скор-
бящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред
Господом. От великой печали моей и от скорби моей я говорила до-
селе. И отвечал Илий: иди с миром, и Бог Израилев исполнит проше-
ние твое, чего ты просила у Него. Она же сказала: да найдет раба твоя
милость в очах твоих! И пошла она в путь свой, и ела и лицо ее не
было уже печально, как прежде» (17).
283
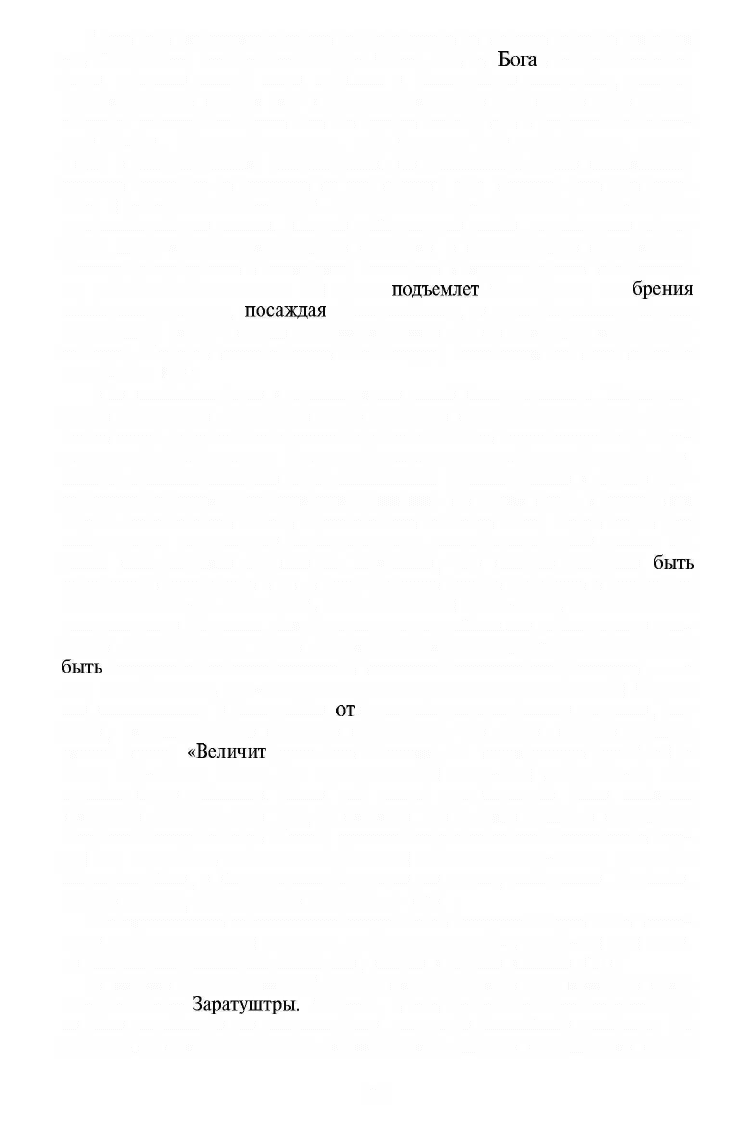
Анна и в действительности забеременела и родила сына и назвала
его Самуилом, «испрошенным от Бога», ибо «у
Бога
я испросила его».
Анна привела своего сына к Илии и пала ниц и молилась, говоря:
«Возрадовалось сердце мое в Господе; вознесся рог мой в Боге моем;
широко разверзлись уста мои на врагов моих; ибо я радуюсь о спасе-
нии Твоем. Нет столь святого, как Господь; ибо нет другого, кроме
Тебя; и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных;
дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог веде-
ния, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные
препоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отды-
хают; даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемогает.
Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и обогаща-
ет, унижает и возвышает. Из праха
подъемлет
Он бедного, из
брения
возвышает нищего,
посаждая
с вельможами, и престол славы дает им
в наследие; ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на них все-
ленную. Столпы святых своих Он блюдет, отпавшие от Бога во тьме
исчезают» (18).
Так молилась Анна в красноречии своей благодарности. Из ее мо-
литвы мы узнаем, что новый голос начинает громко звучать тогда, когда
некая тварь, доселе казавшаяся исключенной из строя творения, обре-
тает смысл своей жизни. Здесь этой тварью оказывается младшая жена,
поздно ставшая матерью и не обладавшая правом голоса в строго рег-
ламентированном богослужении Израиля. Но в той мере, в какой она
обрела возможность и силу превозносить величие Бога, отдав ему в дар
своего сына, которого не чаяла получить, она обрела и право голоса. «И
узнал весь Израиль от Дана до Вирсавии, что Самуил удостоен
быть
пророком Господним» (19). Голос Самуила нельзя мыслить в отрыве от
голоса его матери. Женщина, не являвшаяся активным участником бо-
гослужения в Израиле, свидетельствует о небывалом прежде акте тво-
рения, совершенном Богом. Если история шести дней творения может
быть
неправильно истолкована в качестве естественной истории, — а
это, к сожалению, происходит постоянно, — то в случае Анны и Марии
это невозможно. В евангелии
от
Луки говорить начинает девушка, ко-
торая, находясь в еще большей опасности, чем Анна, должна убедить
своего мужа:
«Величит
душа моя Господа. И возрадовался дух Мой о
Боге, Спасителе Моем, что призрел он на смирение рабы Своей; ибо
отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие
Сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся
Его; явил силу мышцы Своей, рассеял надменных помышлениями сер-
дца их; низложил сильных с престолов и вознес смиренных; алчущих
исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем; воспринял Израиля,
отрока Своего, воспомянув милость...» (20) .
По прошествии тысячелетия после Анны история Марии была возве-
щена голосом ангела и пастухов, и бык и осел присутствовали при этом.
«А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем» (21).
В Библии именно голоса Анны и Марии кажутся мне наиболее близ-
кими к голосу
Заратуштры.
И здесь, и там продолжающее творить сло-
во Бога вырывается из неприметного, почти не способного говорить. На
решающих поворотах нашего развития речь идет не о создателях миров
284
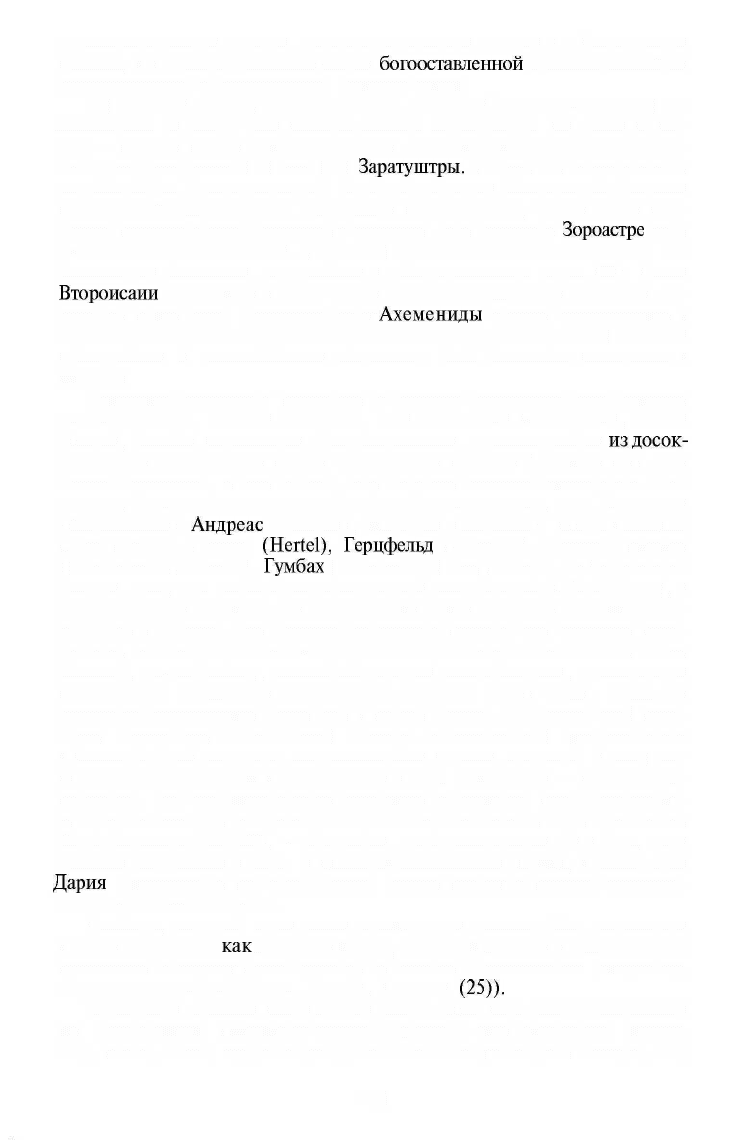
и помазанниках на царство, не о статистических данных и о большинстве
голосов, а о тоске и стенаниях якобы
богооставленной
и исключенной из
существующего общественного порядка твари.
Ни великий визирь фараона Иосиф, ни царь Соломон во всем их ве-
ликолепии не могут нам помочь понять Заратуштру. Но Анна и Ма-
рия — родные сестры той бедной твари, которая обрела голос в древней-
шей, двадцать девятой «Гаге» (22)
Заратуштры.
Теперь мы сосредоточим
внимание на проникновении Заратуштры в это благочестие недавно
призванной бедной твари. Моя задача состоит в том, чтобы снова про-
будить интерес к этим вопросам у читателя, чьи знания о
Зороастре
либо
расплывчаты, либо ложны. Ради этой цели я в течение многих лет, на-
сколько это возможно, вчитывался в тексты великого перса (23). Слова
Второисаии
призывают к тому, чтобы услышать подлинное звучание, ис-
тинный голос того, благодаря кому
Ахемениды
смогли соперничать в
вере с правоверными царями Израиля и благодаря кому они в качестве
праведников и помазанников истинного Бога оказались включены в
Библию.
Благодаря усердному изучению в течение последних восьмидесяти
лет Заратуштра, на след которого, еще ничего не подозревая, напал
Ницше, больше не является простым именем, происходящим
издосок-
ратовского мира или из оперы «Волшебная флейта» Моцарта (24). Мы
можем прочитать, о чем он пел, еще не умея записать своих слов. Бла-
годаря умозаключениям таких удивительных ученых, как Бартоломе
(Bartholomae),
Андреас
(Andreas), Моултон (Moulton), МэриУилкинс
Смит (Smith), Гертель
(Hertel),
Герцфельд
(Herzfeld), Дюшен-Гийемен
(Duchesne-Guillemin),
Гумбах
(Humbach), Гинц (Hinz) я, не будучи ира-
нистом, получил возможность слушать и воспринимать Заратуштру, а
также осознать близость его славословий и его литургии к славослови-
ям Анны и Марии. Эта близость возникает потому, что «опасное поло-
жение», «незащищенность» продолжающего творить истинного слова
Божьего, по-видимому, заново ощущается человечеством, привыкшим
использовать обыденную разговорную лексику, лишь тогда, когда эта
хрупкость проявляется более чем в одном случае. Ибо лишь этой хруп-
кости Заратуштра обязан своей навечно запечатленной причастностью
к божественной истории, свершающейся с нами, людьми. В силу это-
го он имеет отношение и к Библии, и к нам. Заратуштра — можно пред-
положить, что его деятельность относится к периоду, продолжавшему-
ся приблизительно до прихода поколения, жившего в годы правления
Кира Великого (558-528), — в строфах, передаваемых из уст в уста, ради
общины верующих в него, к какой принадлежали Дарий, а также отец
Дария
Вишташпа и его сын Ксеркс, воспел размах и процесс осуществ-
ления его нового начала.
Слабость, которой здесь снова приходит на помощь Бог, воплощена
в таком творении,
как
домашний скот, который доныне в виде гекатомб
приносили в жертву богам иранцы и жители Месопотамии (например,
жертвоприношения Митре, Варуне, Анахите
(25)).
Заратуштра отводит скоту другое место. Для него скот представляет
все Божьи твари. Поскольку крупный рогатый скот дает людям молоко,
сыр, масло, мясо, среди людей должна возникнуть служба пастуха, под
285
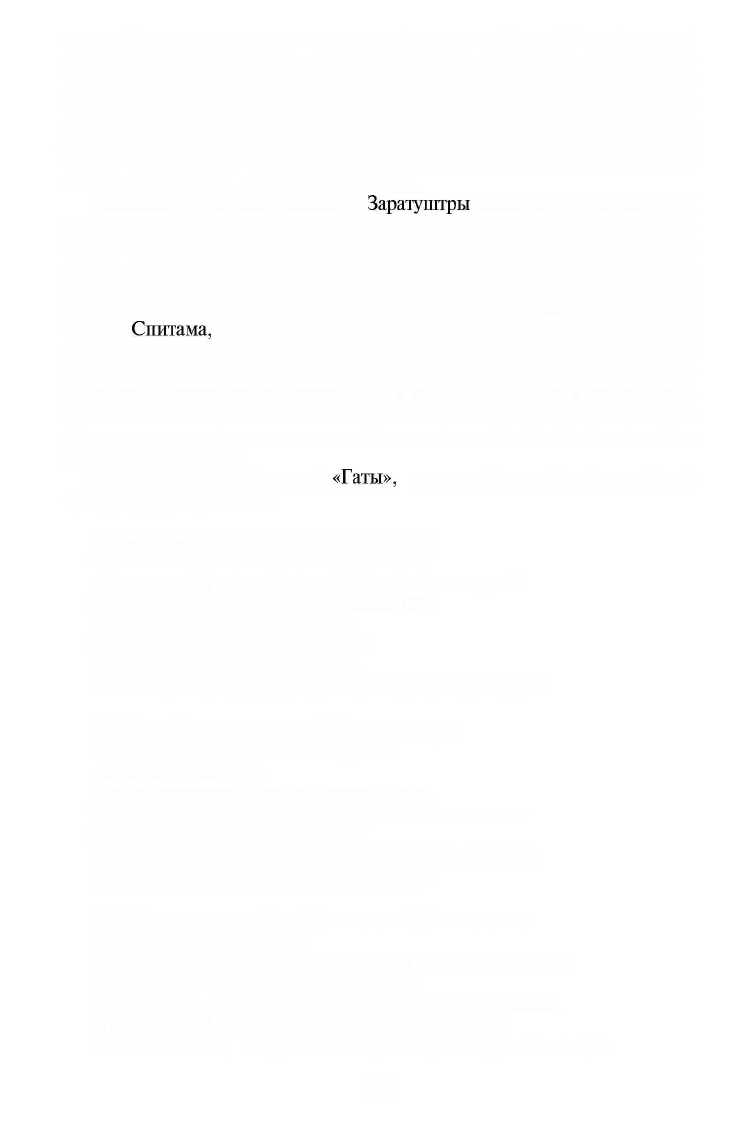
защитой которого скот вдет на водопой и на пастбище. В этом простом
чередовании ролей пастуха, оберегающего скот на водопое, и коров, да-
ющих молоко человеку и тем самым питающих его, пастух и стадо дос-
тигают нерасторжимого единства перед своим Творцом и Повелителем.
Ибо Творец и Повелитель действует точно так же. Ахурамазда один раз
действует, проявляясь в истинной, типологически правильной внешней
связи, а другой раз — в пронизывающем наши душевные глубины бла-
гоговении (26) или самоотверженности.
Великим открытием Библии и
Заратуштры
является то, что Бог и его
тварь никогда не прекращают своего диалога (27). Беспомощный круп-
ный рогатый скот голосит, и поскольку он голосит, а его рев восприни-
мается, поскольку он впадает в отчаяние и просит, для него открывает-
ся новый путь жизни. Каким образом? Что же, слабый человек, непри-
лично слабый по сравнению с самими быками и коровами, Заратуппра
из рода
Спитама,
установит истинную упорядоченную связь между Твор-
цом, стадом и пастухом? Корова не может в это поверить: «Как, этот бес-
помощный одиночка, не имеющий власти Заратуппра должен превзой-
ти жрецов, приносящих жертвы?» И в самом деле, быки и коровы вос-
принимают все это именно так. Ибо к слабости Заратуштры должна при-
соединиться лишь приятность речей, и тогда он сможет защищать так же
надежно, как и царь!
Литургия двадцать девятой
«Гаты»,
вероятно, первой из песен Зара-
туштры (28), звучит так:
I. Вам, Властители, Тебе, Владыка (29),
Жаловалась душа стада быков и коров:
«Для кого Вы меня создали? Кто меня сотворил?
Я одержима злым духом Асмодеем (30),
Слугой смерти, насильником,
Жестоким, заносчивым, грубым.
Кроме Тебя у меня нет пастуха.
Покажи мне того, кто хорошо несет службу пастуха.
П. Тогда Творец вселенной быков и коров
Спросил Правильный Распорядок:
«Есть ли у Тебя тот,
Кто предназначен для вселенной стада,
Чтобы Твоя власть над пастбищами обеспечивала
Действенный порядок выпаса?
Кто у Тебя главный, способный прогнать Асмодея
И его приспешников, служащих лжи?»
III. И ответствовал Ему Правильный Распорядок:
«Нет у меня помощника,
Который защитил бы быков и коров от всякого вреда».
(Душа стада вздыхает): «Вы не знаете,
Как жестоко обращаются с нами обладающие силой!»
(Правильный Распорядок): «Сила всех существ
Наполняет того, кому Я по его призыву спешу на помощь».
286
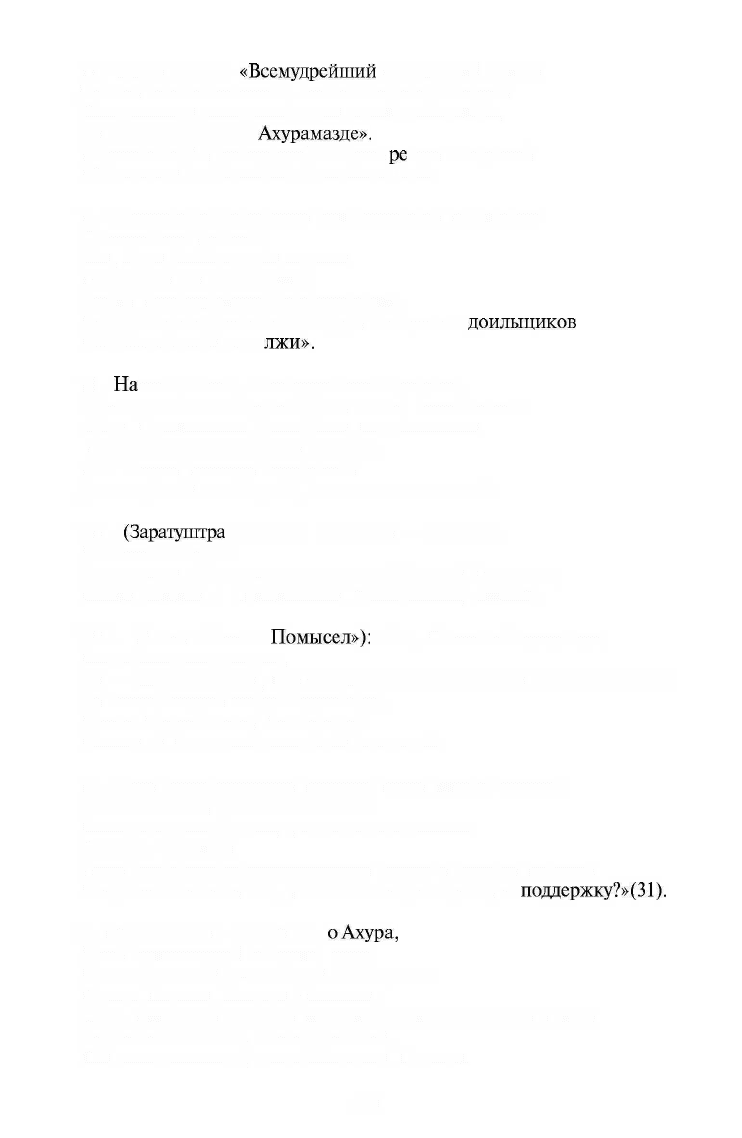
IV. (Душа стада):
«Всемудрейший
как лучший знаток
Должен все же заметить, что за неправедные дела
Совершили и совершают духи и смертные люди,
Не подчиняющиеся
Ахурамазде».
(Правильный Распорядок): «Пусть
ре
шит Владыка!»
(Душа стада): «Да исполнится воля Его!»
V. «Поэтому мы смиренно приближаемся к Владыке
С воздетыми руками,
Мы, душа быка и душа коровы,
Поскольку мы настаиваем,
Чтобы Всемудрейший выслушал нас.
Ведь для праведно живущих, для пастухов и
доилыциков
Нет места среди слуг
лжи».
VI.
На
что Он сам, Всемудрейший Владыка,
Хорошо зная о смятении души скота, ответствовал:
«Но в Правильном Распорядке нет господина,
Поставленного над тобой от века.
Ибо Творец некогда создал тебя
Для сторожей и пастухов, вышедших из людей».
VII.
(Заратуштра
говорит): «Водопой — скотине,
Молоко — людям!
Так устроил своим распоряжением Мудрый Господин,
Всегда единый с Правильным Распорядком, святой».
VIII. (Ангел «Благой
Помысел»):
«Он, Спитама Заратуштра,
Был измышлен для нас,
Он — единственный, кто прислушивается к нашим распоряжениям.
Он хочет воздать хвалу Ахурамазде,
Нам и Правильному Распорядку.
Посему да будет сладкозвучной его речь!»
IX. Тогда душа крупного рогатого скота начала стенать:
«И мы должны удовольствоваться
Бессильно послушным, услужливым голосом
Слабого человека,
Тогда как я жду господствующего силою и уповаю на него?
Когда же появится тот, у кого он найдет прочную
поддержку?»(31).
X. (Заратуштра): «Даруй ей,
оАхура,
Моей правоверной общине, силу,
Исходящую из Правильного Распорядка
И того Царства Благого Помысла,
Силу, благодаря которой возникают благосостояние и мир.
Ведь я познал Тебя, Всемудрейший,
Как изначального учредителя этого Царства.
287
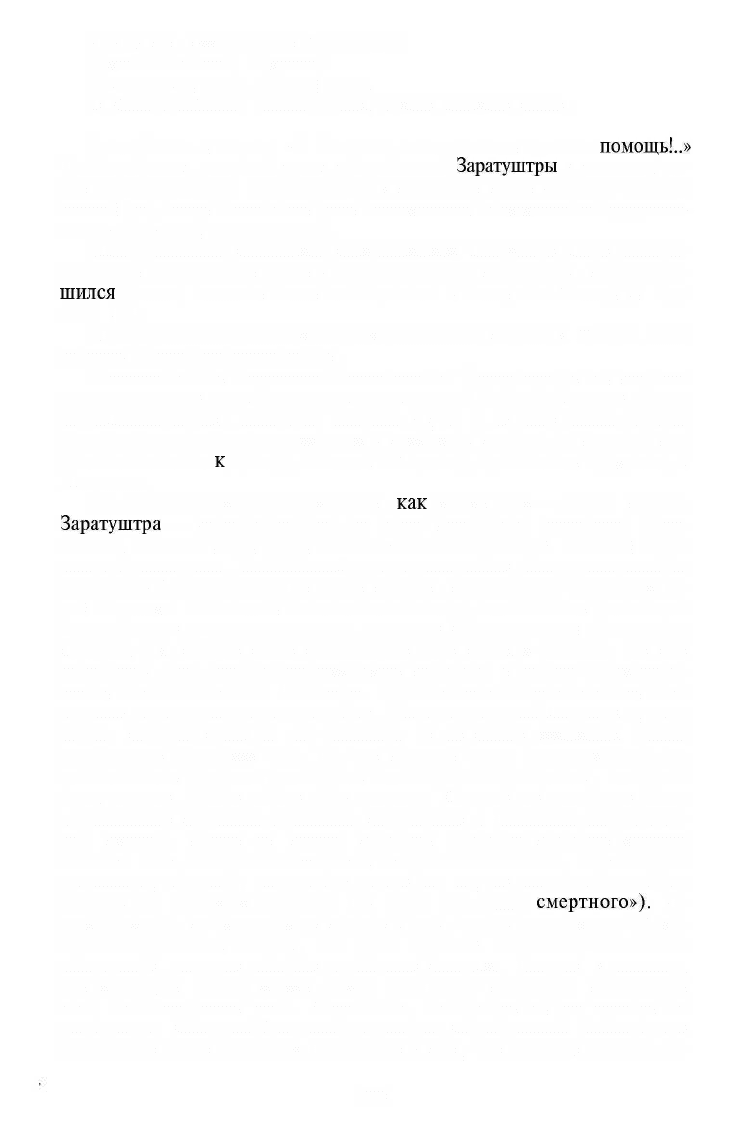
X. Где Вы, Правильный Распорядок,
Благой Помысел, Царство?
Милостиво указуя, возьми меня,
О Всемудрейший, Бессмертный, в Ваш великий союз».
Душа быков и коров: «О Владыка, теперь к нам пришла
помощь!..»
Таким образом, для этой души причисление
Заратуштры
к великому со-
юзу подтверждается. Пребывающая в отчаянии тварь получает помощь
всякий раз, когда бессильное дитя человеческое в качестве ее представи-
теля оказывается услышанным.
Непостижимым следствием благословения Самуила и Анны были за-
кат семьи священника Илии и закат культового святилища. Израиль ли-
шился
блеска, «отошла слава от Израиля» и наступил Ихавод (1 Цар.
4:22) (32).
Непостижимым следствием благословения Марии и Иисуса стало
падение Иерусалимского храма.
Непостижимым следствием благословения Заратуштры и его стад ста-
ло прекращение кровавых жертвоприношений и многобожия в культе
персидских царей. Вплоть до Ксеркса I (445 г. до н.э.) новое царство
было свободно от идолопоклонства и храмовых культов, и Единый Бог,
приблизившийся
к
Давиду, Моисею и Аврааму, призывался иДарием, и
Ксерксом.
Но если мы теперь спросим себя,
как
же все трое — Анна, Мария,
Заратуштра
— призывали Его, то наше изумление возрастет. Испу-
ганная, жалкая тварь здесь оказывается обладающей высшим царс-
ким достоинством. Библейский критицизм снова обнаружил именно
в молитве Анны дословный текст псалма, служившего молитвой ца-
рей Израиля. «Слишком мало сказано о том, что Анна не могла про-
изнести слова этого песнопения, и они не были вложены ей в уста их
автором, т.е. они не были созданы для того места в Библии, где они
написаны. Это, скорее, псалом среди псалмов, и он мог бы распола-
гаться в каноническом Псалтире. Большинство оборотов в нем име-
ют свои многочисленные подобия. Если попытаться выявить ту лич-
ность, которая стоит за «Я» псалмов, то ей может оказаться только
царь народа Израиля» (33). То, что в пятом стихе славится Яхве, то,
что он может даровать детей даже бесплодным женщинам, побудило
Анну к тому, чтобы запеть этот псалом. Каждый из нас легче всего
преодолевает огромное душевное потрясение с помощью литургичес-
кой цитаты. Иисус на кресте молился словами двадцать второго
псалма. Гёте, получив известие о смерти своего сына, обратился к
греческому мудрецу, который в таком же случае воскликнул: «Non
ignoravi me mortalem genuisse» («Я знал, что родил
смертного»).
Та-
ким образом, не может быть и речи о том, чтобы нести вздор об ин-
терполяциях лишь потому, что здесь царский псалом произносится
женщиной, которая обычно в общине молчала. Скорее, у каждого,
кто исследует власть языка, здесь возникает некоторое понимание
того, как передается речь. Изречение, исходящее из уст оратора по
должности, благоговейно выслушивается слушателями бесконечное
количество раз и так часто проникает в них, что в конце концов на-
288
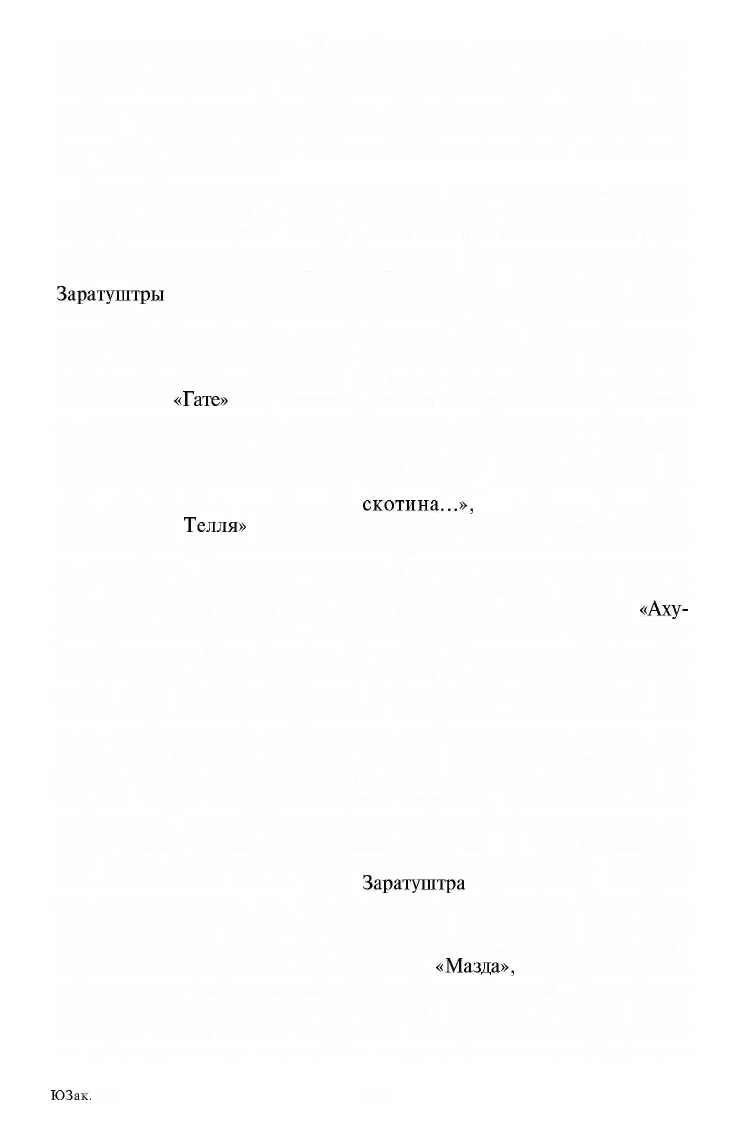
чинает исходить из их уст. Молодой человек, ранее являвшийся про-
тестантом и перешедший в католицизм, усвоил в католической цер-
кви, что священник и община так обращаются друг к другу: когда
священник молится: «С вами Бог», община отвечает ему: «И с духом
твоим». Однажды он встретил своего священника на улице и радос-
тно сказал: «С Вами Бог!» Священник быстро нашелся, что ответить
ему: «И с духом твоим».
Это превращение слова священников, исполняющих налагаемые
их саном обязанности, в слово всех верующих, служащих Богу, гос-
подствует во всемирной истории. Ибо скованный язык таким обра-
зом снова превращается в свободную речь. За охваченностью Анны
царским красноречием следует «Magnificat» (34) Марии. Но молитва
Заратуштры
также слишком мало поразила интерпретаторов. Гинц,
пожалуй, все же увидел величественность персидской молитвы в
смирении обращающейся с мольбой твари. Правда, и Мэри Уилкинс
Смит ощутила драматизм этого стенания безропотной скотины и
прониклась сочувствием к ней. Но самое значительное и самое воз-
вышенное в
«Гате»
мы, читатели, можем обнаружить в том, что вез-
де, где прежде государь, городской сеньор, царь страны, города, на-
рода были ораторами и возносили к небу молитвы либо с помощью
своих священников призывали богов Варуну. Митру, Анахиту, те-
перь были разрушены границы круга людей, совершающих литур-
гию. «Ты не умна, неразумная
скотина...»,
— вместе с Верни из
«Вильгельма
Телля»
возмущенно восклицали жрецы бога Митры.
Поскольку старые боги могли быть призваны только священниками
по должности, Заратуштре пришла в голову мысль присвоить тому
уху, которое должно было выслушивать его жалобы, новое имя, и
сделать это как в устной речи, так и на письме. Смысл имени
«Аху-
рамазда» нельзя объяснить, исходя из представления о могуществен-
ном говорящем боге, будь это бог войны, бог договора (35) или бог
изобилия (36). Это можно сделать только на основе представления о
живом Боге, способном слышать «немую тварь» так же хорошо, как
и склонных к обману священников. В «Прометее» Гёте высмеивают-
ся те, кто благочестив по должности, на том основании, что там, на-
верху, предполагается некое ухо для того, чтобы выслушивать наши
жалобы. Что же, поэтому Прометей, одинокий гений, и умолкает. Но
тот, кто входит в продолжающееся творение, пронизанное силой
именования, каждый день упорно ждущее новой власти языка, не
пережевывает старые молитвенные формулы, но и не упрямится.
Нет, так же, как Анна своей молитвой достигает уха Бога, который
отвечает не только словам царя,
Заратуштра
верит в Бога, который
дает аудиенцию тем, кто еще ни разу не был услышан. Я хочу ска-
зать, что наш Бог получил свое новое имя «Ахурамазда» из-за своей
превосходящей все мудрости, основанной на умении слушать, при-
слушиваться и услышать. Ведь мудрость,
«Мазда»,
отнюдь не припи-
сывается кому-нибудь на основе его собственных речей. Но посколь-
ку идеализм перепрыгивает все ступени, ведущие от мысли к дей-
ствию, он ничего не знает о мудрости! Воспаряя высоко над звучани-
ем многих голосов в мироздании, мудрость оказывается мудростью
ЮЗак.
3524 289
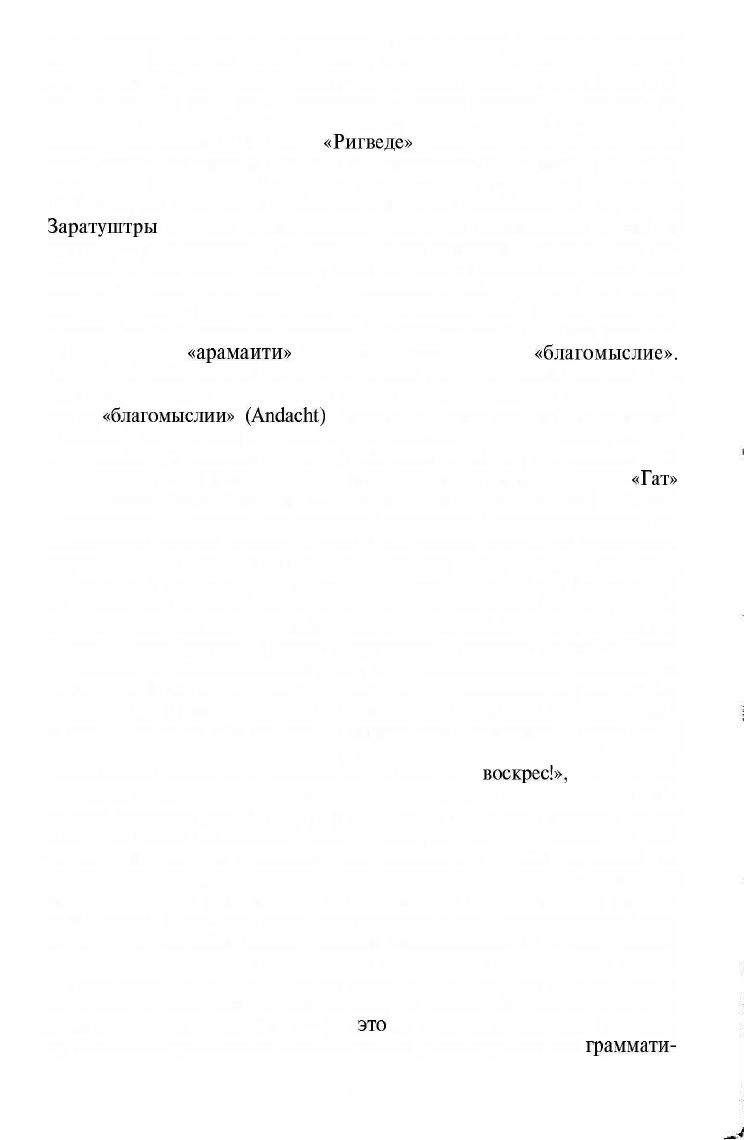
лишь потому, что ею объединяются, управляются, упорядочиваются
слушание, молчание, речь и мысль, и лишь это означает, что она ов-
ладевает ими! Многие религии, т.е. преломления единой религии,
подчиняющей себе все человечество, можно хорошо распознать на
основании того, как они преломляются в слове, ответе, послушании,
мысли, молчании (37). Уже в
«Ригведе»
различаются четыре ступени
слова вплоть до чистой мысли и до «четвертого Брахмана» (38), дей-
ственного молчания. Латиняне поклонялись молчащей Ангероне
(39), в случае опасности побеждавшей только силой мысли. В учении
Заратуштры
мудрый Вседержитель считается обладающим и тем, и
другим — и молчанием, и словом. Но это является областью, еще по-
настоящему не исследованной, хотя и сулящей многие открытия, по-
скольку израильтяне никогда не позволяли себе подпасть под влия-
ние греческого превознесения чистого мышления. Представляется,
однако, что в Персии положение было более ясным. Я уже отказал-
ся переводить
«арамаити»
как «благоговение» или
«благомыслие».
Ведь наша собственная леность во время речи настолько велика, что
едва ли хоть один читатель без моего предупреждения заметил бы,
что в
«благомыслии»
(Andacht)
можно услышать только «мышление»
(Denken), почемуя и перевел «арамаити» как «преданность», «само-
отречение». В письме Дюшен-Гийемена к Жоржу Дюмезилю (40)
указывается, что к «арамаити», «преданности», в одном месте
«Гат»
добавляется другой термин — «молчаливое благоговение»! И здесь
предполагается искушение придать Ахурамазде большую ценность на
основе того, что он правит миром в молчании, а не из-за присущего
ему обладания словом. Поэтому читателю «Гат» следует обратить
внимание и на слово, и на молчание Всевышнего. Ведь Ахура узна-
ет, насколько хорошо части творения приспособлены к тому, чтобы
примириться друг с другом. Он говорит, скорее, для того, чтобы по-
будить к речи других. В песне Заратуштры, которую он сам с благо-
дарностью называет блеском речи, предоставленным ему в качестве
дара, живой Бог спрашивает о прежде отсутствовавшем служении За-
ратуштры и в ответ слышит имя, звучащее из единых уст верующих
в него. Они дают ему его имя. Рационалист, усвоивший принципы
филологии последнего столетия, не в состоянии постичь ни истину
пасхального восклицания христиан «Воистину
воскрес!»,
ни продол-
жающую существовать у всех прочих верующих причастность к тво-
рению, которую уже в 1936 г. в «Antiquite Classique» осознал венгр
К.Марот (Marot). Таким образом, действующий здесь живой дух, ко-
торый день ото дня призвано далее воплощать в себе творение, не
может быть специально охарактеризован ни с помощью активного
залога школьной грамматики, ни с помощью выделяемых ею пассив-
ной формы. Напротив, этому духу надлежит пропустить каждый акт,
характеризующийся повелительным наклонением и вторым грамма-
тическим лицом, через желательное наклонение первого лица и фор-
мы изъявительного наклонения третьего лица вплоть до того, что в
виде неопределенной формы глагола, не имеющей грамматического
лица, выявится чистый акт — но
это
до поры, до времени. Посколь-
ку школьная грамматика насильственно рассматривает все
граммати-
290
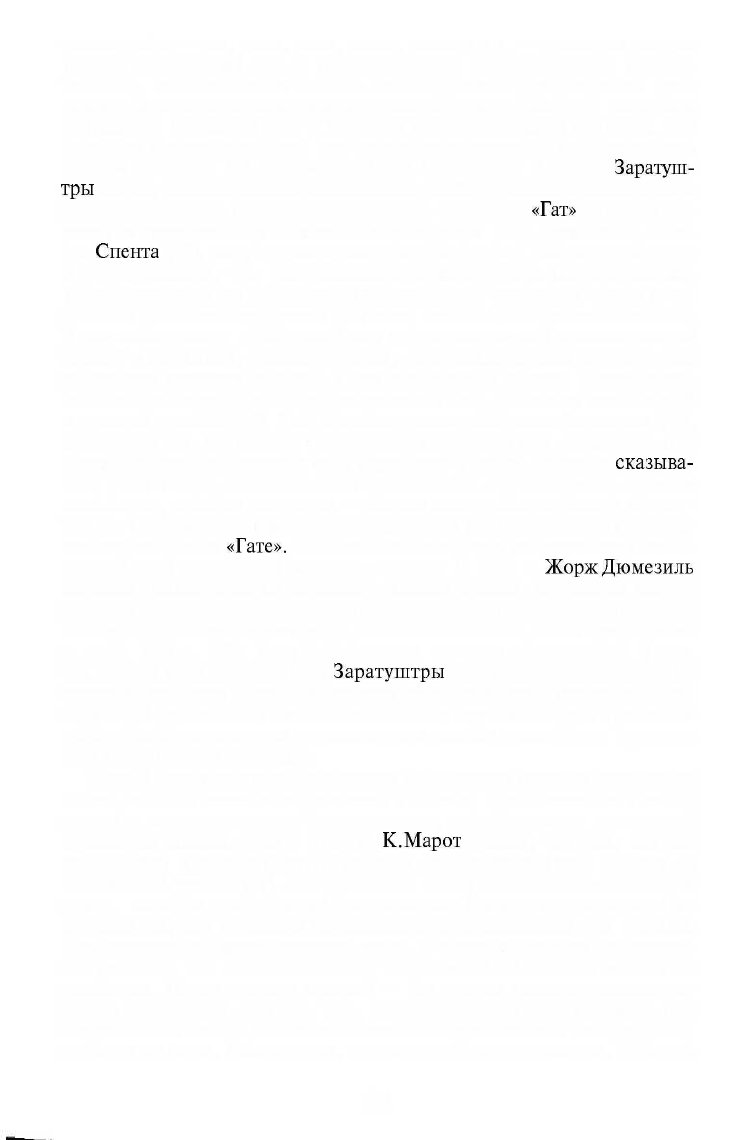
ческие лица — «я», «ты», «он», «оно», «мы» и т.д. — в каждом из трех
первых наклонений, т.е. в повелительном, сослагательном, изъяви-
тельном, она не смогла понять необходимость прохождения этой
последовательности всех грамматических форм: «Делай; о, если бы я
это сделал; он сделал это» в качестве основной задачи религии. Это
способен сделать лишь тот, кто признает важность и незаменимость
каждой из форм. Но, как заметил уже Герцфельд, в стихах
Заратуш-
тры
падеж, повелительное наклонение, выбор грамматического лица
должны выражать глубочайшую истину. «Для всех
«Гат»
типичен пе-
реход от третьего лица к звательному падежу» (41). Архангелы, Аме-
ша
Спента
(42), могут отважиться предстать перед Всевышним лишь
в творительном, т.е. так называемом инструментальном падеже.
Применительно ко Всевышнему Ахурамазде отдельное слово и от-
дельные два слова чередуются для того, чтобы не закрепиться за ним,
и кто может знать, присуще ли ему единственное или множественное
число? «Истинное, таким образом, есть вакхический восторг, все
участники которого упоены; и так как каждый из них, обособляясь,
столь же непосредственно растворяется в нем, он также есть чистый
и простой покой» (43). Так Микеланджело изобразил Элохимов (44),
воинства Яхве, на потолке Сикстинской капеллы (45). Мудрость, Дух
Божий должны включать в себя слушание и лепет, пение и
сказыва-
ние, речь и слух, именование и призывание. Простая речь, простое
мышление, простое молчание — все это лишь разновидности его зву-
чания. Об этом напоминает распределение речи и молчания в пред-
ставленной нами
«Гате».
Только влюбленные в понятия люди забы-
вают об этой полифонии и полигармонии. С 1945 г.
ЖоржДюмезиль
пытался диалектически объяснить Амеша Спента, кружащих вокруг
трона Ахурамазды, в качестве видоизменений индоиранских богов, и
последняя попытка такого рода, насколько я знаю, была предприня-
та им в 1958 г. (46). Хотя я и признаю правоту его суждений в том,
что старые боги получили от
Заратуштры
ответ и были им изгнаны,
читатель тем паче должен поставить впереди всякой просто рефлек-
тирующей диалектики накал нового опыта веры и — здесь тривиаль-
ный способ выражения на самом деле весьма уместен — принять
этот опыт близко к сердцу.
Новый мир архангелов и воинств Всевышнего сначала познают на
опыте, и лишь затем он выражается в словах, призывается как венец
целого и, в конце концов, мыслится или, лучше сказать, становится
предметом мысли. Уже в 1924 г.
К.Марот
указал, что там, где мы
имеем дело с полноценным языком, рефлексия лишь следует за
спонтанной речью (47). Мы добились бы лучшего понимания сути
языка, если бы эта позиция пользовалась большим вниманием со
стороны тех, кто предается рефлексии профессионально, т.е. ученых.
Они никогда не могут создавать язык, а способны только подвергать
его ревизии. Но именно поэтому мир все же не состоит только из
ревизоров. Перед судом и в книге — вот где мы должны демонстри-
ровать рефлексию. Но тот, кто, будучи влюблен или находясь под
воздействием любви, не осмеливается говорить и петь необдуманно,
является жалким, бессильным, неполноценным человеком, и Бог не
291
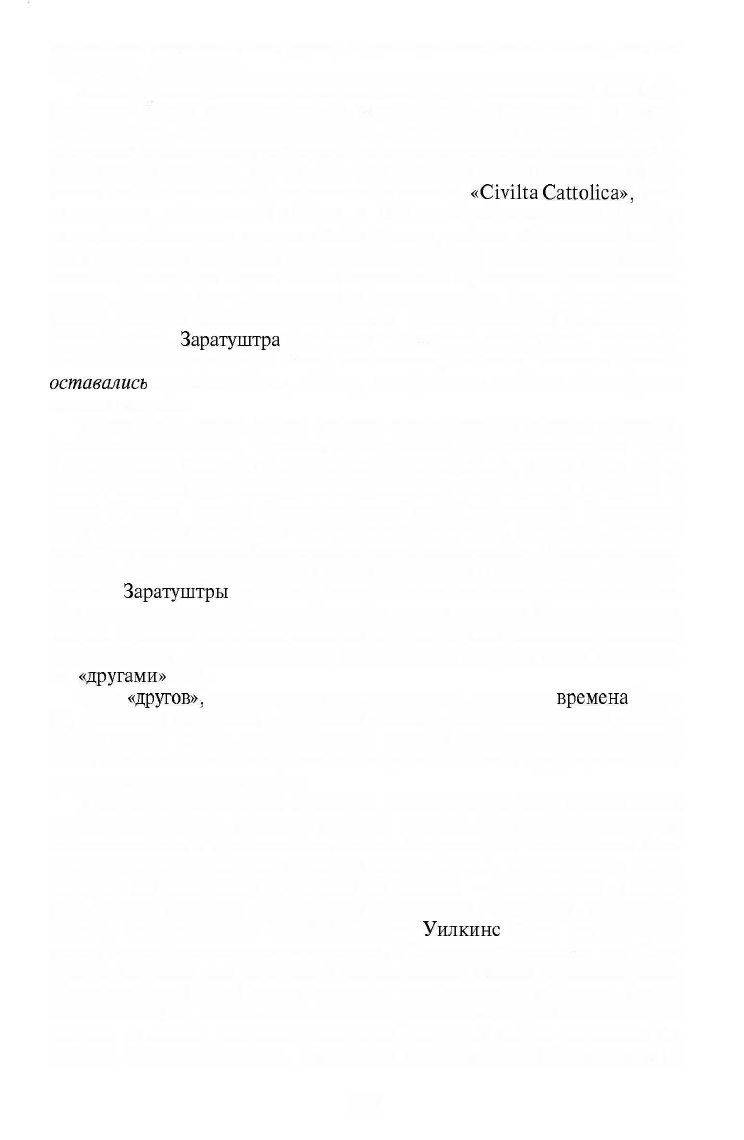
проявляет милости к его душе. Чудо случается лишь с тем, кто не
предается рефлексии.
Все верующие должны почитать голос и ухо внемлющего Бога, го-
ворящего Бога и его молчание, а потому у нас, смущенных, не умею-
щих слышать, косноязычных людей, бессмысленно повторяющих чу-
жие слова и молитвы, уши и уста должны подвергаться избавлению от
порчи снова и снова. Все то, что еще услышит истинный Бог, не из-
вестно его священникам, погрязшим в рутине.
«Civilta
Cattolica»,
газе-
та иезуитов, выходившая в Риме, в 1898 г. потребовала в деле Дрейфу-
са гитлеровских мер против убийц Христа, евреев. Эти самые иезуи-
ты в наши дни испытали бы радость, если бы, несмотря ни на что,
хотя бы несколько евреев могли верить в их приверженность христи-
анству. Живой Бог всегда чаще и внимательнее нас, образованных
людей, занятых созданием абстракций, прислушивается ко вздохам и
стонам твари.
Заратуштра
осмелился совершить шаг от бога, призыва-
емого только царями, к Богу, внимающему вздохам, которые прежде
оставались
неуслышанными, к Богу, которого мы именно поэтому на-
зываем живым.
Всякий раз, когда вздох, прежде остававшийся неуслышанным,
становится слышным, прежнее официальное священство терпит крах.
Анна зачинает Самуила, но сыновья Илии погибают, адом Илии перед
лицом Самуила утрачивает свое достоинство. Мария несет во чреве, и
завеса в святая святых Иерусалимского храма раздирается. Заратуштра
получает власть наставлять и взращивать творения, и жрецы, взываю-
щие к другим именам бога, становятся обманщиками. Таким образом,
именно здесь следует искать ключ к пониманию присущего мировоз-
зрению
Заратуштры
дуализма, который часто толковался неправильно.
Его дуализм отражает противостояние между старыми богами и живым
Богом. Прежние боги были лишены мудрости. Они оказались обманом,
заблуждением. Бог более велик. Отныне прежние боги стали называть-
ся
«другами»
(48).
Этих
«другов»,
эти ложные умозаключения, как и во
времена
Люте-
ра, настигает их судьба: «Их может свалить одно-единственное слово».
Какое слово? Слово, произнесенное с верой, отважившееся выразить
наши слабости. Беспомощность молящегося является предварительным
условием нового откровения.
У Заратуштры достало мужества оказать честь быть призванным
только Ахурамазде, мудрому Владыке владык, Богу одновременно во
множественном и единственном числе. Напротив, он лишил чести быть
призванными и даже чести стоять в именительном падеже все те силы,
которые мы замечаем при первом же взгляде — Благочестие, Святой
Дух, Благой Помысел, Правильный Распорядок, Спасение, Смирение,
Власть, Вечную Жизнь. В 1929 г. Мэри
Уилкинс
Смит, эта слишком
рано умершая гениальная иранистка, убедительно доказала, что Зара-
туштра поставил эти качества в творительном падеже преднамеренно.
Благодаря этой моей книге читатель уже научился обращать особое
внимание на то, что именительный падеж на самом деле является пос-
ледним падежом, падежом господства, который скорее следовало бы
назвать «противительным». Заратуштра показывает, что он заботится об
292
