Розеншток-Хюсси О. Язык рода человеческого
Подождите немного. Документ загружается.

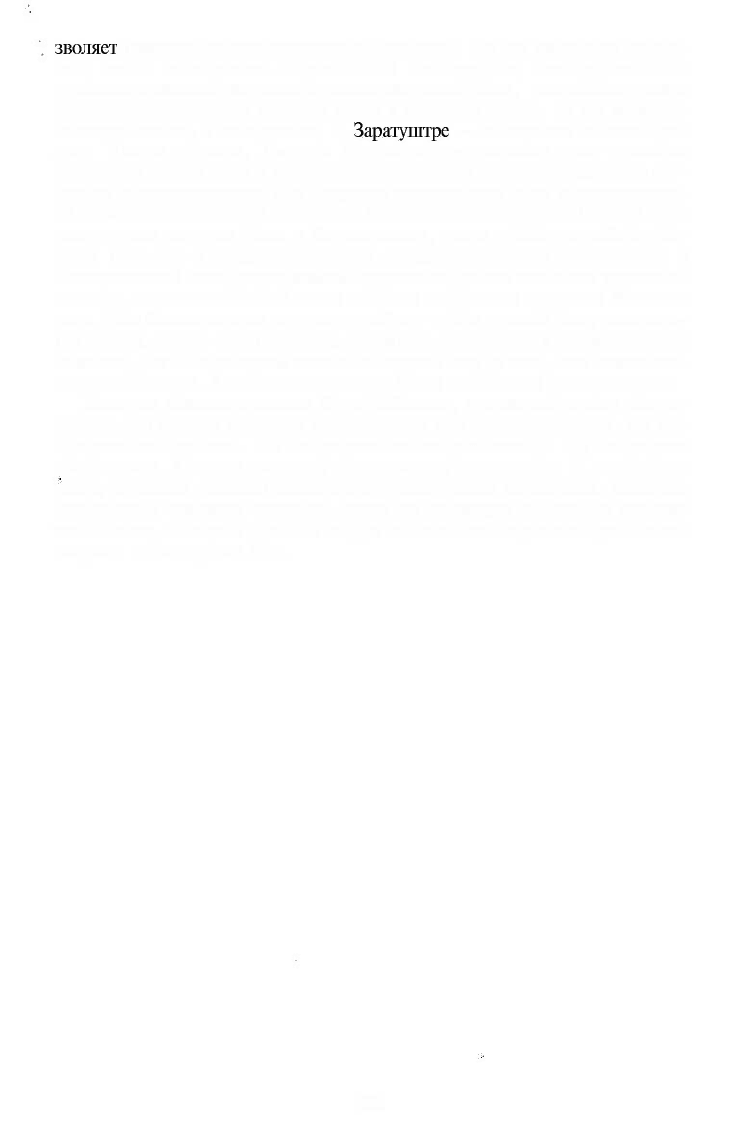
зволяет
говорить противоположным сторонам. Он не настолько надме-
нен, чтобы не спросить «Правильный Распорядок», как следовало бы
применить законы творения к домашним животным, как обстоят дела с
положением крупного рогатого скота в мировом целом. И он позволя-
ет твари стенать и жаловаться, а
Заратуштре
— выступить со своей ро-
лью. Таким образом, Господь Мудрости по-прежнему стоит превыше
активного потока речи и пассивного восприятия, заключающегося в слу-
шании и повиновении; Его мудрость распределяет роли и предоставля-
ет слово. Из этого опыта познания Бога в качестве мудрого Господа про-
исходит как история Иова в Ветхом завете, так и пролог на небе в «Фа-
усте» Гёте. Но и соединение слова, предначертания и послушания в
электрической сети, управляемой мудростью, равно как и все учение об
ангелах, возникают из этой связи всех сил творения в мудрости Всевыш-
него. Ибо божественная мудрость требует, чтобы громко зазвучали мно-
гие голоса, чтобы они говорили, оказались услышаны и сами стали бы
внимать. Бог был великим капельмейстером еще до того, как появились
капельмейстеры. А небесные воинства были и остаются его оркестром.
Если мы скажем о нашем Отце Небесном, что он побуждает нас го-
ворить, это отнюдь не станет недостойным Его величия именем. Он по-
буждает нас молчать. Он побуждает нас вслушиваться. Он побуждает
нас взывать. Он дает нам силу отрекаться от самих себя. И именно из
этого, вероятно, должно исходить будущее учение об ангелах. Если это
ошеломит и озадачит читателя, пусть он последует за мной в царство
тех ангелов, которых даже он за две тысячи лет научился принимать
всерьез, — в царство Муз.
303
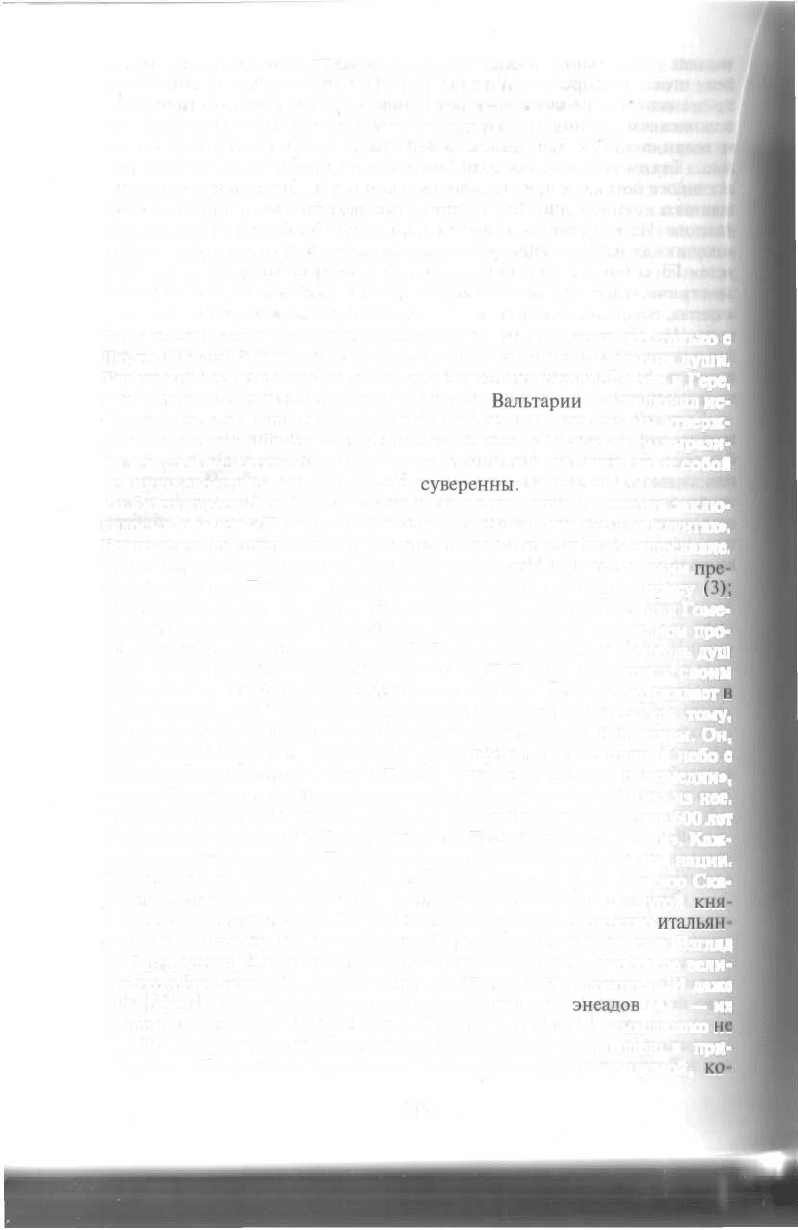
Распевы Муз
1. Гомер и Данте
Гомера в качестве формообразующей силы можно сравнить только с
Данте. Ибо до Гомера не было эпоса души, а до Данте — романа души.
Тот, кто на это возразит, что в Элладе все же были песни о Ясоне и Гере,
а на Западе — песни о Зигфриде, Гудрун или
Вальтарии
(1), не понял ис-
тинного смысла нашего первого предложения. А именно, мы утверж-
даем, что только Данте и Гомер, освободившись от всех табу, вырази-
ли в языке весь космос души их времени. Лишь они охватывают собой
все силы своего времени. Лишь они
суверенны.
Считавшееся бесспорным мнение девятнадцатого столетия заклю-
чалось в том, что «Илиаду» следует сравнивать с «Песнью о Нибелунгах».
В значительной степени в этом было повинно национальное тщеславие.
Но не только оно. В недавно опубликованной книге (2) мы находим
пре-
красную оценку Гомера, принадлежащую германисту Яну де Врису
(3);
Данте при этом не упомянут. В этом сужении горизонта видения Гоме-
ра виновато разделение мира и Церкви, лишь в нашу эру в трудном про-
тивоборстве доведенное до конца. У Гомера мир людей и Церковь душ
еще образуют единый мусический космос. И Гомер относится к своим
богам так же, как Данте относится к своим папам. Данте обнаруживает
и
себе смелость освободиться от церковного абсолютизма благодаря тому,
что он ступает вслед за последним преемником Гомера, Вергилием. Он,
Данте, обретя зрелость и право говорить, проходит чистилище и небо с
такой же легкостью, как и ад. Данте, автор «Божественной комедии»,
создал Флоренцию только всецело благодаря своему изгнанию из нее.
Ибо хотя Флоренция некогда и изгнала его, но вот уже в течение 600 лет
воздает почести самой себе публичными «Дантовскими чтениями». Каж-
дый итальянец знает, что Данте был крестным отцом итальянской нации.
Пускай он должен был петь при таких княжеских дворах, как двор Ска-
лигеров в Вероне или в Равенне, — при всем этом он не был слугой
кня-
зей, так же, как не был им Фемистокл. Необозримое множество
итальян-
ских свободных государств черпало у Данте гордость и мужество. Взгляд
на Данте уточняет наше понимание Гомера. Он приобретает такое вели-
чие, которое далеко отстоит от величия «Песни о Нибелунгах». И даже
если певец, возможно, вынужден был петь при дворе
энеадов
(4), — их
изящное восхваление содержится в «Илиаде», — он тем самым далеко
не
утратил своей свободной мужественности и не был превращен в при-
дворного. Потрясения, вызванные войной и возвращением домой,
ко-
304
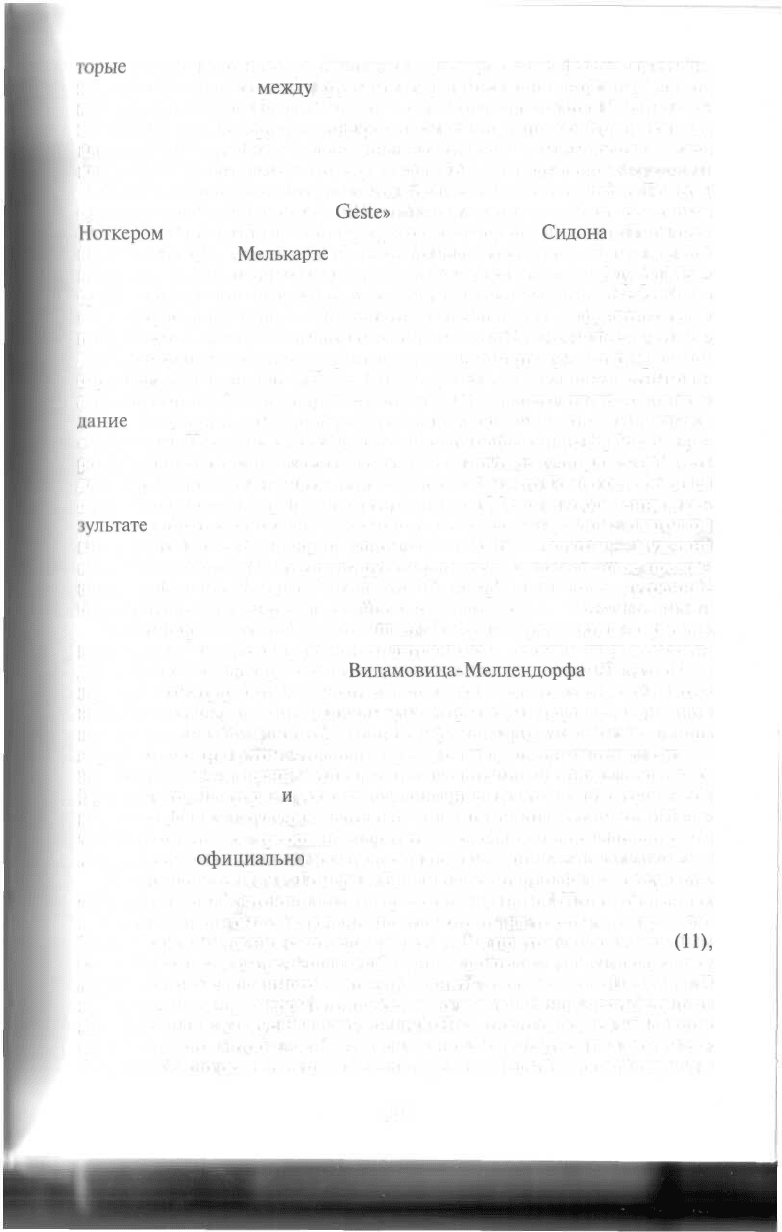
торые
у этого певца впервые нашли воплощение в слове, перенесли гуман-
ность в отношениях
между
друзьями и врагами, женщиной и мужчиной
но всему архипелагу Средиземного моря, и сделали это, став именно сло-
вом. Благодаря Гомеру греки не остались кем-то наподобие финикийцев
или пунийцев, и его песнопения не являются сказками мореплавателей
или сагами скальдов. Все это служит для Гомера лишь фоном.
Мы можем догадаться о том, что предшествовало творчеству Гомера,
сравнивая его с «Chansons de
Geste»
(5), или мы можем вместе со старым
Ноткером
Заикой (6) вложить в уста корабельщиков
Сидона
и Тира пес-
ни об их Геракле,
Мелькарте
(7). Все это нельзя оспорить. Но мы все еще
ничего не знаем об этом. И как недовольно воскликнул уже Эдуард Мей-
ер (8), оригинал не перестает быть оригиналом, если пускаться от него
в бегство, двигаясь вспять. Моисей отнюдь не станет более понятным бла-
годаря ссылке на его якобы столь влиятельного тестя. 24-я песнь «Илиа-
ды» никогда не исполнялась раньше, и именно потому чистый филолог
отрицает ее подлинность. Не чем-то смелым, а всего лишь честным яв-
ляется восстановление достоинства певца, создавшего эту песню, и воз-
дание
почестей неслыханному достижению обоих эпосов, «Илиады» и
«Одиссеи». Ни один из них не имеет ничего общего ни с сербскими на-
родными песнями, ни с «Ригведой». И те, и другие заучивались наизусть
для закрепления их в памяти. Ниже мы докажем, что Гомер освободился
от необходимости напрягать память благодаря Музам и что именно в ре-
зультате
этого освобождения он смог стать Гомером, певцом, благодаря
которому в ходе его пения в одном случае враги, в другом — мужчина
и его жена смогли понять друг друга, претерпевая определенное превра-
щение под действием слова. Только Гомер выразил в слове внутренние
битвы, бушевавшие среди троянцев, среди греков.
Таким образом, то, что возвышает Гомера до уровня отца-кормиль-
ца и отца-воспитателя греков, находится по ту сторону «сказок мореп-
лавателей» господ Кирхгофа и
Виламовица-Меллендорфа
(9). Чтобы не
перегружать эту работу, в качестве части доказательства я укажу на точ-
ный анализ 24-й песни «Илиады», который был осуществлен мной
шесть лет назад в книге «Полнота времен» (10). Здесь же я лишь
вкратце напомню о том, что долгое время считался верным тезис, соглас-
но которому 24-я песнь «Илиады» не является подлинной, поскольку
Приам, отец Гектора,
и
Ахиллес с удивлением учатся смотреть на себя
как на «людей» и, будучи смертельными врагами, плачут вместе. Изна-
чально комическое требование считать заключение эпоса подложным
долгое время
официально
излагалось в преподавании.
Именно после 1789 г. Гомера и Библию постигает одна и та же участь.
Филологи верили, что они должны работать над ними. И, к сожалению,
в словечке «над» был заключен запрет смотреть на тексты с уважением.
Таким образом, на них смотрели сверху вниз и притом nolens volens
(11),
т.е. так, как если бы речь шла о священном долге. С 1789 г. люди исхо-
дили из этого священного долга упразднить дворянство и Церковь. И
красноречивым примером этой бесспорно великолепной честности был
критик Библии Юлиус Велльхаузен (12). Но тот, кто работает над текста-
ми вместо того, чтобы, основываясь на них, возвыситься над самим со-
бой, неизбежно оставляет свой текст впереди на целый мировой период и
305
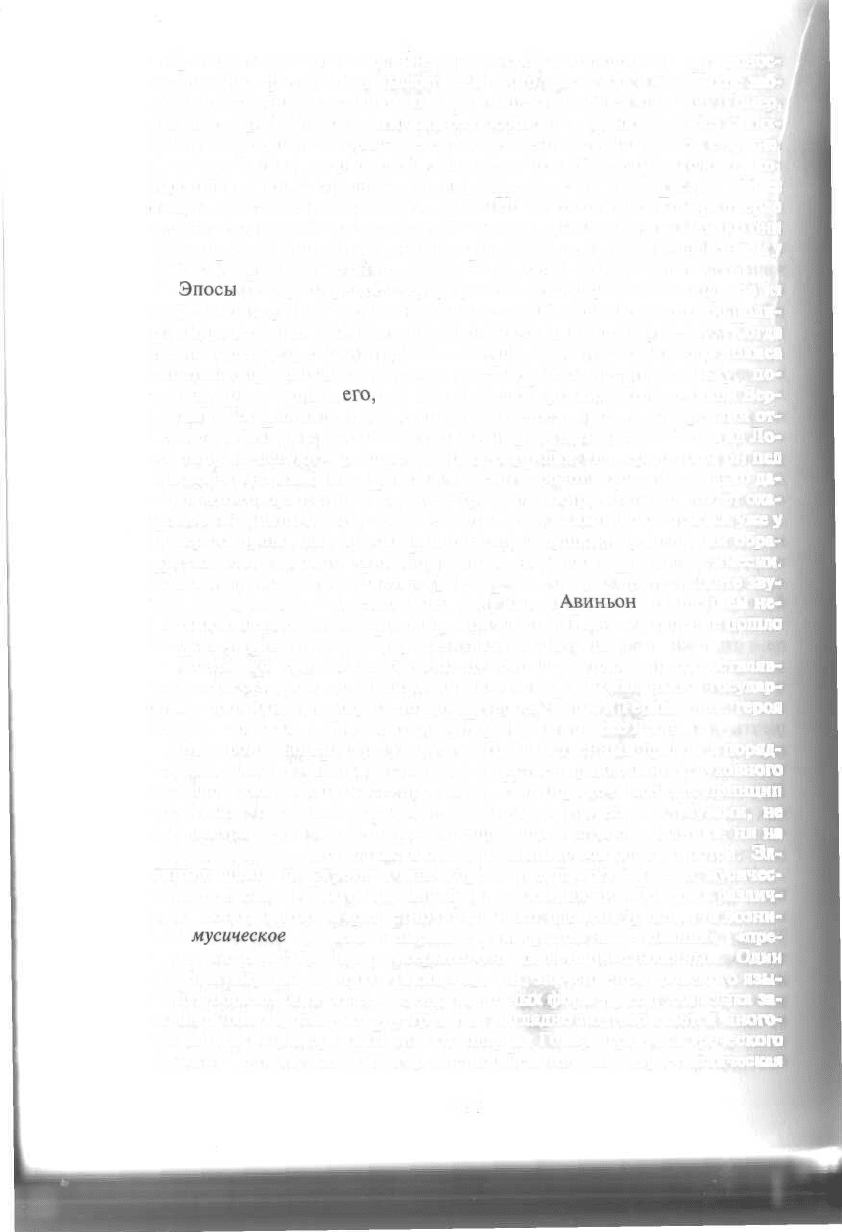
отбрасывает свой дух назад. Он, считая себя находящимся вне опаснос-
ти, наивно верит, что он мыслит после этого текста или о нем. Какое заб-
луждение! Зачинатель еще никогда не существовавшей поэзии, Гомер,
душевно огрубевшими критиками без особых церемоний, т.е. без каких-
либо доказательств, отбрасывается назад именно к той глубокой старине.
из которой к нам прорывается, доносится его спасительное слово, ко-
торое способно вывести нас из этой древности, если мы будем вслушиваться
в него так, словно внимаем ему впервые. Но истолкователи Гомера твердо
верили в то, что они живут после него и, тем самым, над ним. Однако они
были намного примитивнее, чем исследуемый ими текст. Лучше узнаем у
самого Гомера, как же он преодолел Гитлеров своего времени.
Эпосы
Гомера переносят будущую политическую жизнь полисов из
сакральной сферы ее локального святилища в общий для всех 250 поли-
сов мир песнопений Муз, подчиненных олимпийскому Зевсу. Когда
Данте отделял граждан итальянского «полиса» от сакрального полиса
папства и превращал своих слушателей в итальянцев постольку, по-
скольку они слушали
его,
он ссылался на Вергилия. Но кто такой Вер-
гилий? Последний потомок Гомера. Точно так же, как Вергилий от-
верзает уста Данте, чтобы тому стало впервые дозволено нести в ад Ло-
гос, Музы целуют предшественника Вергилия, Гомера, чтобы он пел
суверенно, независимо от богов и людей. Геродот заходит настолько да-
леко, что говорит, будто Гомер дал грекам их богов. Суть дела будет оха-
рактеризована точнее, если мы заметим, что олимпийского Зевса уже у
Гомера сопровождают на Пелопоннес его девушки, Музы. Таким обра-
зом, их пение является способом исполнения олимпийцами их миссии.
Италия происходит от Данте, Греция — от Гомера. Протест Данте зву-
чит одновременно с выездом пап из Рима в
Авиньон
и лишением не-
мецких императоров их императорской власти. Так что его пение пошло
на пользу третьей силе, будущей итальянской нации.
Поэзия Гомера появляется к концу господства царей, отождествляв-
ших себя с Зевсом, и она позволила более чем 250 маленьким государ-
ствам проникнуть в мир светозарных героев, Геры и Геракла, т.е. героя
города, «того, кому приносит славу Гера» (13), а также Ясона.
Это проникновение регулируется государственным правом в поряд-
ке наследования. Церковь создала в качестве параллельного, духовного
наследования апостольское преемство. Но упорядочивающий принцип
временной последовательности, связанный с греческими Музами, не
распространяется ни на физическое правопреемство наследника, ни на
апостольское преемство, касающееся священнических должностей. Эл-
лины пользовались третьим типом преемственности, а именно мусичес-
ким преемством. Благодаря исполнению песнопений Гомера в различ-
ных местах, которые «радостно объединяют племена греков», и возни-
кает
мусическое
преемство. Выражение «порядок наследования», «пре-
емство» следует принимать всерьез. Оно является неслыханным. Один
филолог выразил это так: «Таким образом, значение гомеровского язы-
ка для образования более поздних основных форм прозы, для языка за-
конов и государственного устройства наглядно подтверждается много-
численными примерами. В этом отношении Гомер играет для греческого
языка ту же роль, какую для древнеиндийского языка играет ведическая
306
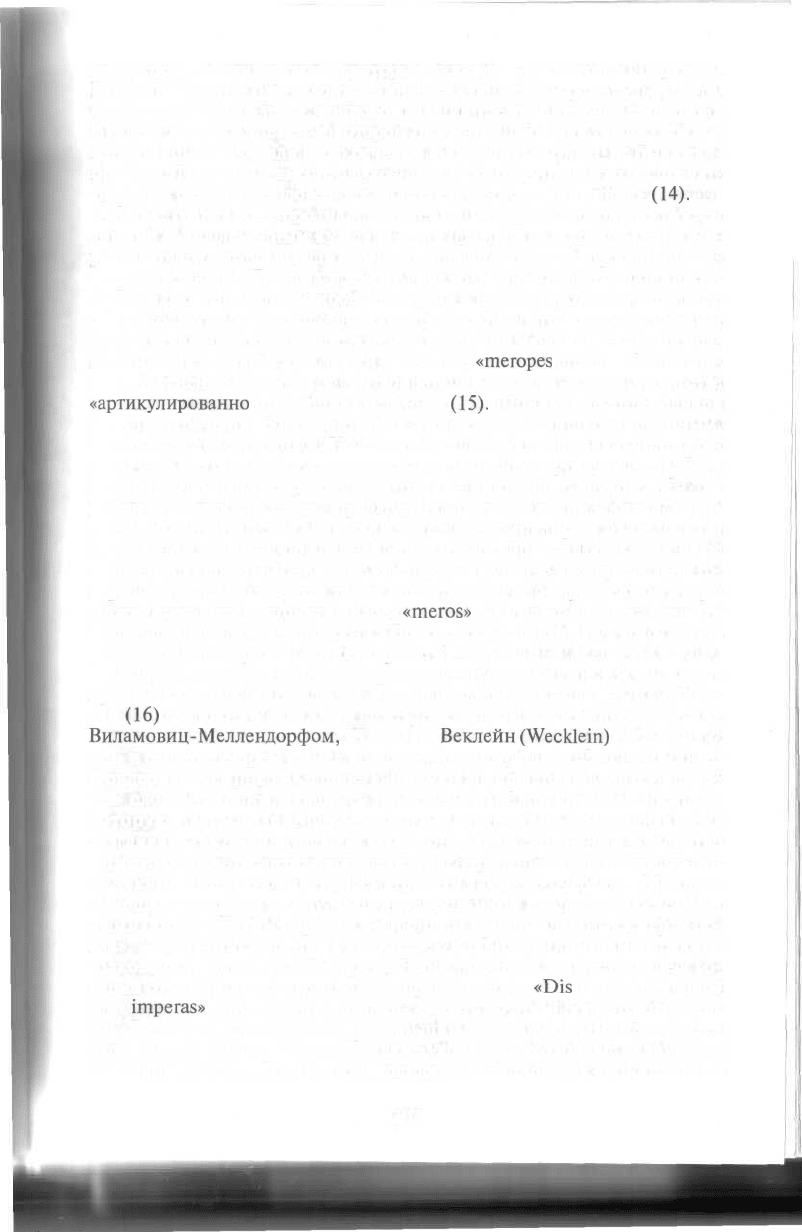
литература, а для языков некоторых культур — различные переводы
Библии. Следует благодарить единственную в своем роде судьбу за то,
что высокочтимый текст, сопровождавший греков в течение столетий в
школе и в жизни, текст, в котором они снова обретали самих себя и с
которого они начинали свою речевую и духовную выучку, не был рели-
гиозным. Тем самым вместе с духовной свободой у них могло беспрепят-
ственнее развиваться доверие к силе собственного мышления»
(14).
Итак, греков облагородил и возвысил до их уровня не ритуал, восхо-
дивший к их племенным культам, — их превратили в греков песни мо-
реплавателей, возвращавшихся на архипелаг, как это подробно показа-
но в моей книге «Полнота времен», так что я не хочу здесь повторять-
ся. Но в работе об артикулированной речи я не могу пройти мимо одного
обстоятельства, мимо спорного вопроса о том, что же греки имели в
виду, когда они ставили между немой природой и блаженными, непод-
властными смерти богами людей в качестве
«meropes
brotoi». Самое ста-
рое объяснение сводится к интерпретации указанных слов в качестве
«артикулирование
говорящих смертных»
(15).
Понимание этой великой
истины утрачено. Эпохе безверия это казалось слишком истинным,
слишком величественным. Но если такое понимание правильно, то гре-
ки точнее всего выявили взаимосвязь нас, людей, с «артикуляцией»! Боги
говорят с помощью образов, животные — с помощью звуков. Мы же
расчленяем звуки на слова, предложения, даже на песни и книги, на за-
коны, молитвы и т.д. Таким образом, в слове «meropes» оказалось бы
правильно выражено, по крайней мере, то, что Логос являет собой наше
активное действие. Понимание «meropes» в качестве членораздельно го-
ворящих людей согласуется также с тем фактом, что через всю античную
эпоху проходит восприятие слова
«meros»
не только в качестве части
вещи, но и в качестве части речи. Глагол «merizein» означал «расчленять
речь» и, таким образом, артикулировать!
Современная филология отгородилась от этих фактов. Зачем давать
простые объяснения, если все можно сделать очень сложным? Нико-
лаи
(16)
двадцатого века, уже шестьдесят лет назад отвергнутый даже
Виламовиц-Меллендорфом,
Николай
Веклейн
(Wecklein)
(17), «вычи-
тал» в слове «meropes» смысл «озабоченно смотрящий». Это напоминает
Фридерику Кемпнер (Kempner). Лойман (Leumann) объявляет «mero-
pes» словом, не поддающимся объяснению. Слог «ops» содержит не-
которую двусмысленность, т.к. он может быть выведен как из
«взгляда», так и из «голоса». Однако в случае сомнений тождество
«ops=vox» можно считать впоследствии утраченным и именно поэто-
му таким, которое следует рассматривать в первую очередь. «Meropes»
помещает человека между неартикулированной природой и бессмерт-
ными богами. Таким образом, «ambrotoi», «неподвластных смерти бо-
гов», — вот что смиренно увидит грек в обновленном нами древнем
толковании, идущем от Гомера до Вергилия. Это благочестие еще у Го-
рация отчеканило восхитительное предложение:
«Dis
te minorem quod
geris
imperas»
(18). Мы не могли бы сказать об этом более благочести-
во: «Лишь тот, кто считает себя меньшим, нежели боги, может повеле-
вать, может властвовать». Никакие уловки не позволяют уклониться
от восприятия «необъяснимых» «meropes» и «brotoi» как одного и того
307
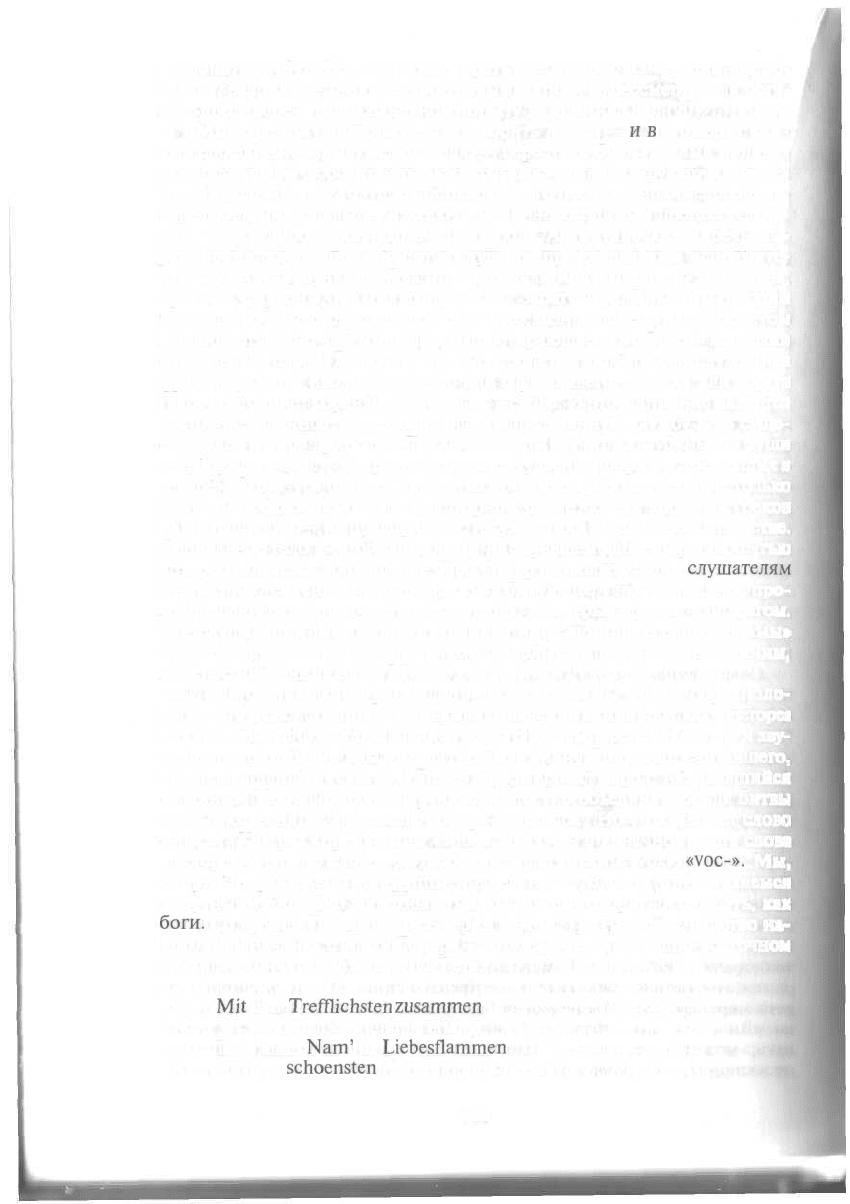
же понятия (19). Даже попытка убрать нас, людей, из «срединной об-
ласти», расположенной между мертвым миром и бессмертными бога-
ми, противоречит повседневному опыту каждого из нас (20).
«Мы», те, кому должны петь и говорить Музы, —
ив
это верит каж-
дый способный внимать слушатель, — перестаем быть глухими индиви-
дами или полем с сосчитанными колосьями, символизирующим челове-
ческий род. Ибо мы, слушатели певца, в его песне становимся людьми,
передающими ее дальше, и включаемся в необходимый процесс члене-
ния, артикулирования человеческого рода. Артикулирующая речь вы-
ражает тех, кто ее произносит и слушает, превращая их в исполните-
лей служебных функций. Так это понимали индусы, евреи, христиане,
ирокезы, фараоны, так это воспринимал Заратуштра. Когда мы говорим
и слушаем, мы воплощаем собой нечто, возносящееся над возрастом
жизни и отдельно взятым полом и простирающееся в область иерархии
служителей слова. Всякая смиренно пропетая и с верой выслушанная
фраза переводит нас, говорящего или слушающего, солиста или хор, в
такое состояние, коренящееся только в слове. И это состояние является
состоянием личности, исполняющей определенную службу и не суще-
ствующей в мире природы. «Так песня певца звучит из глубины его души
и пробуждает власть сумрачных звуков, чудесным образом дремавших в
сердце». Структура предложений отводит каждому из нас место не только
в строении фразы, но и в придворном штате, среди кораблей греков
или в наши дни — на предприятии, на улице или в домашнем хозяйстве.
Социальное тело — это основанный на звучащем слове порядок, сутью
которого является воплощение. Ибо Гомер позволяет своим
слушателям
еще раз и в усиленном виде пережить бытующее у нас поименное про-
возглашение хозяином и слугой, матерью и дочерью, другом или врагом.
Он, слушающий Муз и повинующийся им, с помощью словечка «мы»
вдохновляет нас и превращает нас в людей, слушающих вместе с ним,
вместе с ним внимающих Музам.
С учетом такого потрясающего достижения мы можем предполо-
жить, что в свойственном эллинам обозначении самих себя как «meropes
brotoi» заключено высшее знание греков о нашем месте в поющем и зву-
чащем мироздании. Мы уже цитировали Ману Лоймана, считавшего,
что не священные тексты, а Гомер сформировал народ, называвшийся
«эллины». Ибо у него они научились радостно объединяться для битвы
боевых колесниц и для песен. Гомер — это эпос. Но что означает слово
«эпос»? Как раз корень слова «эпос» заключен в конечном слоге слова
«meropes». Это то слово, которое стало латинским «vox»,
«voc-».
Мы,
смертные, разделены на группы, наделенные голосом. Мы являемся
смертными, подобно животным, но мы можем говорить и слушать, как
боги.
Со времен Гомера мы все верим в это (21). Небесное царство на-
ших имен начиная с эпохи Гомера — это то, в чем в «Западно-восточном
диване» окончательно сознался Гёте:
Mil
den
Trefflichsten
zusammen
wirkt' ich, bis ich mir erlangt,
Dass mein
Nam'
in
Liebesflammen
von den
schoensten
Herzen prangt (22).
308
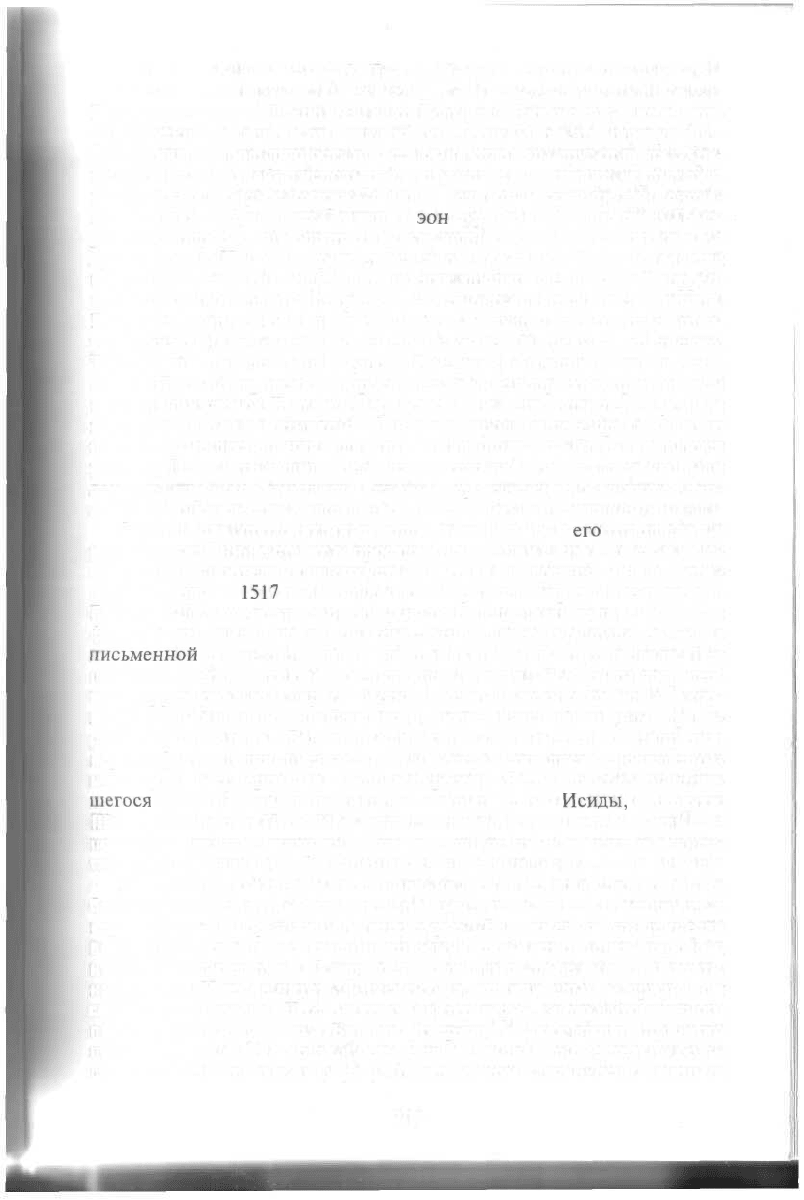
2. Письмо Муз
Целую вечность, с 1795 по 1930 г., от Вольфа до Виламовиц-Меллендор-
фа, гомеровский вопрос означал вопрос о поэте. Ибо в эту мировую эпо-
ху индивид и народ, личность и масса были отделены друг от друга. Хру-
щев далеко не случайно использовал лозунговое выражение «культ лич-
ности» в своей борьбе против Сталина; ведь это — бранное наименова-
ние, которое отбрасывает Сталина в
зон
буржуазных личностей. Гоме-
ровский вопрос и вопрошает о «культе личности». Однако мы живем в
другое время. Ибо нам угрожает исчезновение языка. Письмо является
настолько массовым — в рекламе, газетах, пропаганде, почтовой коррес-
понденции и школьных тетрадях, — что оно является почти нормой.
Напротив, мир устной речи уменьшается. Большинство ораторов гово-
рят просто на письменном немецком языке. Их речь — это письмо.
Так что мы хотим пойти на выучку к Гомеру, чтобы понять, какова суть
эпоса. Пусть гомеровский вопрос будет для нас вопросом о физическом
воплощении поэмы. Был ли гомеровский эпос в его воплощении устным
или письменным памятником? Фанатики народных песен разделили его
на отдельные песнопения для того, чтобы показать, будто он являлся
устным. Те же, кто защищал единство этого памятника, должны были
доказать, что такое чудовищно длинное произведение, возникшее око-
ло 750 г. до Рождества Христова, уже могло быть записано (23).
Оба подхода проходят мимо вопроса о «письме» и
его
отношении к
устной речи. Они не ставят вопроса о возрождении слова «эпос» в каче-
стве понятия, объединяющего уста и свиток с начертанным на нем тек-
стом. В период с
1517
по 1945 г. теологи боролись за признание того, что
Библия была изначально записана, но по отношению к эллинам ни один
филолог не увидел загадки в том, что их литература существовала в
письменной
форме, но надписи на храмах их богов отсутствовали. Тем
не менее, в этом заключена величайшая загадка. Все храмы догречес-
ких «территориальных царств» были исписаны, и истина храмов в ее тор-
жественном и незыблемом бессмертии возвещалась в настенных драпи-
ровках. Устная речь в Вавилоне или Египте была смертной. Напротив,
иероглифы или клинописные знаки навсегда оставались неподвластны-
ми смерти, бессмертными. Лишь воскресение Распятого, т.е. воплотив-
шегося
Слова Божия, позволило нам закрыть храмы
Исиды,
Мардука,
Шивы, китайского Неба. Ибо лишь с этого момента мы знаем, как тес-
но смерть связана с жизнью, и что именно поэтому каменные вечнос-
ти надписей являются бесплодными вечностями.
Вместе с возрождением своего письма греки пережили воскресение,
благодаря которому им оказалось нужным искать своего спасения не в
иероглифах, а в бренности «литературы». Ведь именно они принесли
в мир представление, согласно которому народ, чтобы стать народом,
нуждается в литературе. О варваре говорили, что он не умеет ни читать,
ни плавать. Умение читать и писать было отличительным признаком
свободного человека. Но смысл этой «литературы», этого вдохновенного
письма, по отношению к Библии утверждается как второй принцип
письма. А наш век, когда и устное слово, и письмо смертельно боль-
ны, выздоровеет, как Амфорт (24), лишь в том случае, если Афины и
309
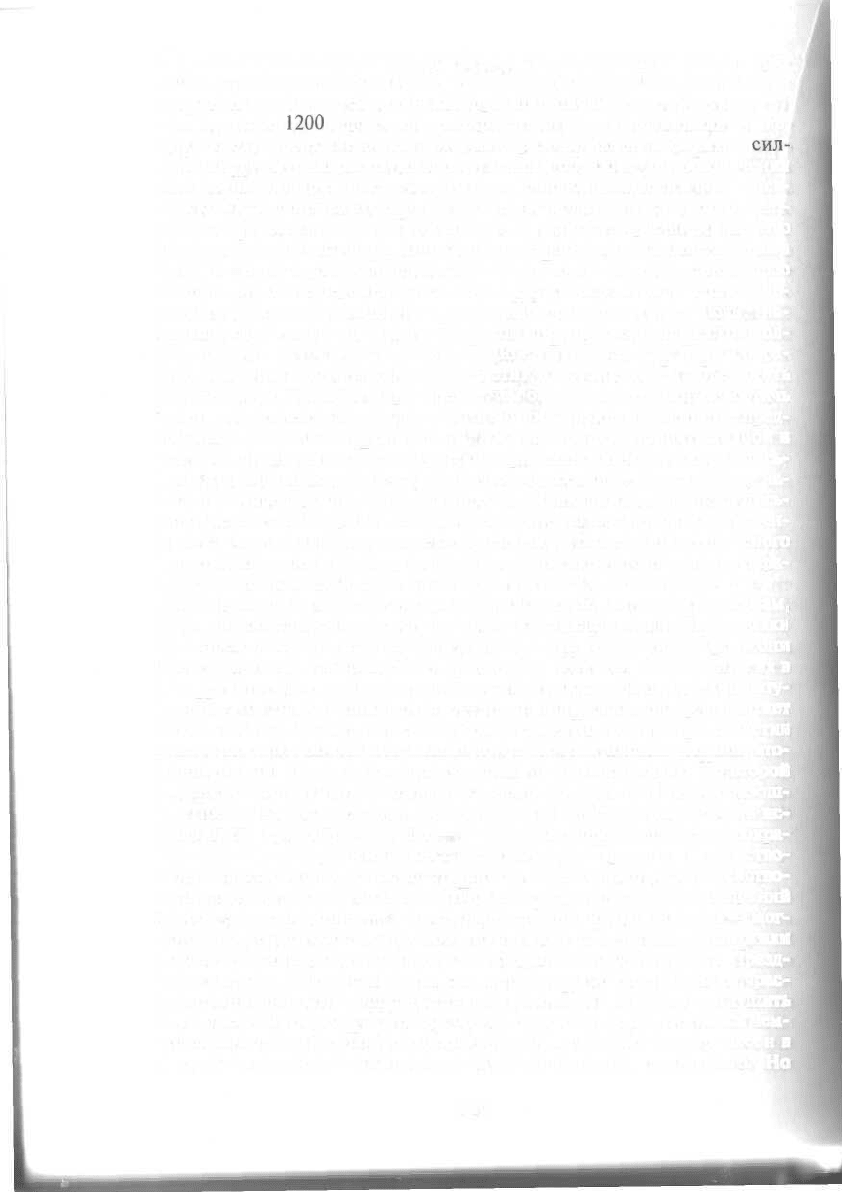
Иерусалим можно будет примирить друг с другом в нашем новом, гря-
дущем принципе письма. Итак, в чем же, благодаря Гомеру или начи-
ная с него, заключается эллинский принцип письма?
Уже около
1200
г. до Рождества Христова греки использовали чужие,
критские графические знаки, которые образовывали не алфавит, а
сил-
лабарий, сумму знаков, служивших, главным образом, для обозначения
слогов. Мы обнаруживаем, что это письмо использовалось в повседнев-
ной хозяйственной деятельности в качестве полезного вспомогательно-
го средства ведения дел. Гениальный Вентрис (25) расшифровал это
письмо. Знаки этого письма не были высеченными на камне вечными
путями, по которым обращаются звезды. Таким образом, с помощью
надписей небо не перемещалось на землю. И все же письмо стало не-
когда неизбежным именно из-за неба. Ибо только на небе люди, на-
ходящиеся на различных географической широте и географической дол-
готе, видят одну и ту же картину: Солнце, Луна и звезды. Таким обра-
зом, люди писали в течение тысячелетий для того, чтобы объединить
времена и пространства мира, прежде чем оказалось возможным достичь
такого объединения на земле; для того, чтобы небо в его единстве пред-
писывало поселенцам юга и севера, востока и запада принятие одной и
той же картины мира. Поэтому иероглифы, наносимые на камень пись-
мена, сообщавшие свыше единство неба рассеянной массе земель, на-
зывались «предписаниями и силами, объединяющими земли». Это пись-
мо обладало силой принуждения, поскольку оно соединяло бесчислен-
ные клочки земли в зеркальное отражение куда более единого небесного
мира. Таким образом, астрология была политикой этого письма. Зара-
туштра, призывавший Единого Бога, не пытался ничего писать.
Эллины на сотнях своих островов и клочков земли, подобно персам,
избежали объединения на основе жреческих предписаний. Но все-таки
они стремились к объединению и добились его. Для войны с Троей они
были или оказались «радостно объединены». Но кто же объединил их в
мире? Читатель уже знает ответ: Гомер и его последователи в литерату-
ре. Но этот простейший ответ — простейший, поскольку его может
дать любой гимназист, — весьма удивителен. Ибо спустя три столетия
после отказа от минойского линейного слогового письма эллины вто-
рично принимают чужую систему письма — финикийскую. Но второй
рецепцией могут быть исправлены недостатки первой. Так и произош-
ло. Представляется, что при первом принятии письма греки начали ис-
пользовать жреческое наследие — увековечивающие надписи — в сокра-
щенном виде для решения повседневных задач. При втором заимство-
вании системы письма, осуществленном Кадмом (26), греки действо-
вали противоположным образом. Правда, в сфере деловых отношений
второе заимствование — заимствование финикийского письма — мог-
ло бы не менять собственно форм написания. Но теперь люди жили
оседло в бесчисленных колониях, на островах и полуостровах. Празд-
ники должны были установить совместную историю, праздники, рас-
пространившиеся на обширные территории. Как же удалось заглушить
песни местных бардов? У Гомера об этом сказано, но это считается чем-
то незначительным. Гомер говорит, что Фамирид (27) был принесен в
жертву песнопениям олимпийских Муз. Они якобы ослепили его. Но
310
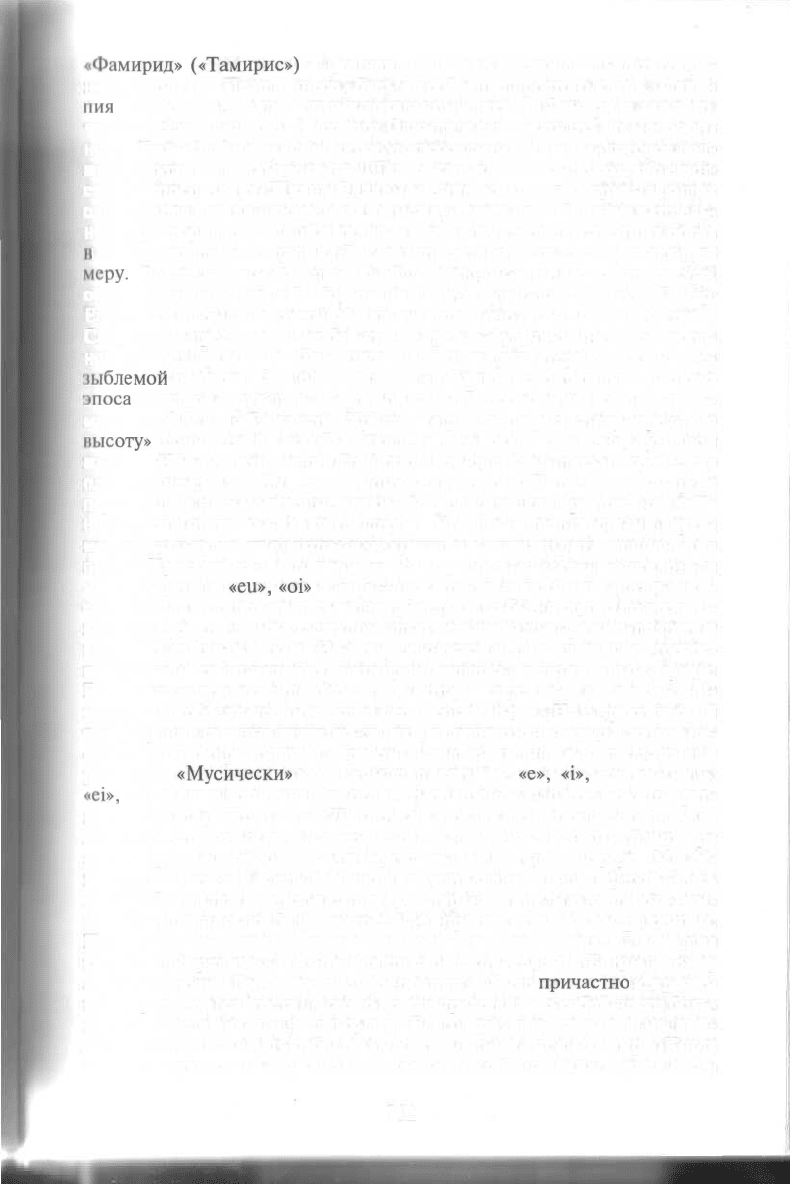
«Фамирид»
(«Тамирис»)
— это наименование чисто локального собра-
ния, будь то на Пелопоннесе, будь то собрание простого клана. Олим-
пия
был основана в пику этому локальному ритуалу Фамирида для того,
чтобы нести единство Высокого Олимпа с севера вплоть до Пелопон-
неса. Имя «Олимпия» становится универсальным именем, которое дол-
жно заглушить локальное пение! Так кем же или чем было создано един-
ство? Эпосом Муз. Жизнь Эллады, пение всех групп, призывающих
олимпийцев, стали посредниками между локальной общиной и отдель-
ной территорией, с одной стороны, и деяниями могущественных богов
н
их святилищах — с другой. Так что эпос становится силой, задающей
меру.
Везде, где мы говорим об общественном мнении, о литературе,
об искусстве и науке, об образовании и культуре, присутствует Гомер.
Его власть не была сакральной или культовой, но она не была и частной.
Скорее, она представляла собой что-то третье, будучи одинаково свобод-
ной как от произвола Фамирида и местных филистеров, так и от не-
чыблемой
религии. Она одухотворяла «публику», собиравшуюся вокруг
эпоса
певцов, верующих в олимпийцев. Второе заимствование пись-
ма после 800 г. до Рождества Христова приняло в расчет эту «среднюю
нысоту»
совместной, всеобъемлющей и все же не жреческой духовной
жизни. Ибо без изменения финикийской системы письма греческие
племена не смогли бы «радостно объединиться». Догреческий мир не
передавал на письме гласные звуки. Астрологические предписания неба
не понесли от этого никакого ущерба. Но эпос живет гласными звука-
ми, поскольку от их долготы или краткости зависит ритм исполнения
песни! Краткое «о» и долгое «о», «омикрон» и «омега», «эпсилон» и
«эта», дифтонги
«eu»,
«oi»
и «аи» — все это финикийцы не могли запи-
сать, но для эллинов их письмо не представляло бы никакого политичес-
кого интереса, если бы с его помощью нельзя было выражать долготу и
краткость гласных звуков. Из-за особенностей исполнения эпоса гречес-
кое письмо стало первым, в котором нашлось место гласным звукам.
Более того, в конце концов эти звуки, которым прежде не уделялось вни-
мания, приобрели преимущество перед согласными. Но с практической
точки зрения гласные звуки из-за их различного значения в стихе не-
обходимо было различным образом выделить именно в связи с пением
рапсодов.
«Мусически»
можно было писать «а»,
«е»,
«i»,
«о», «и», «аи»,
«ei»,
«oi» и даже вскоре начать отличать долгое «е» и долгое «о» от крат-
кого «е» и краткого «о». Для букв, каждая из которых обозначала
лишь единственный звук, впервые были найдены имена, и благодаря
этому присвоению имен люди очутились в некой новой сфере. Мы се-
годня называем эту сферу духовной или интеллектуальной сферой. Здесь
же неизбежно появляется и слово «культура», которым в наши дни нем-
цы обыкновенно подбадривают себя в противостоянии американцам.
При этом речь всякий раз идет о некоей совокупности идей, лежащих
как бы посередине, т.е. находящихся между телом и Богом, между
чемлей и небом. Греческое письмо никогда не было
причастие
к жречес-
ки-сакральной святости, но оно всегда представляло собой нечто боль-
шее, чем светское дело частных лиц. Благодаря искусству письма каж-
дый становился частью более высокого, но не высшего мира. Когда
гласные звуки стали наравне со знаками для обозначения корней слов,
311
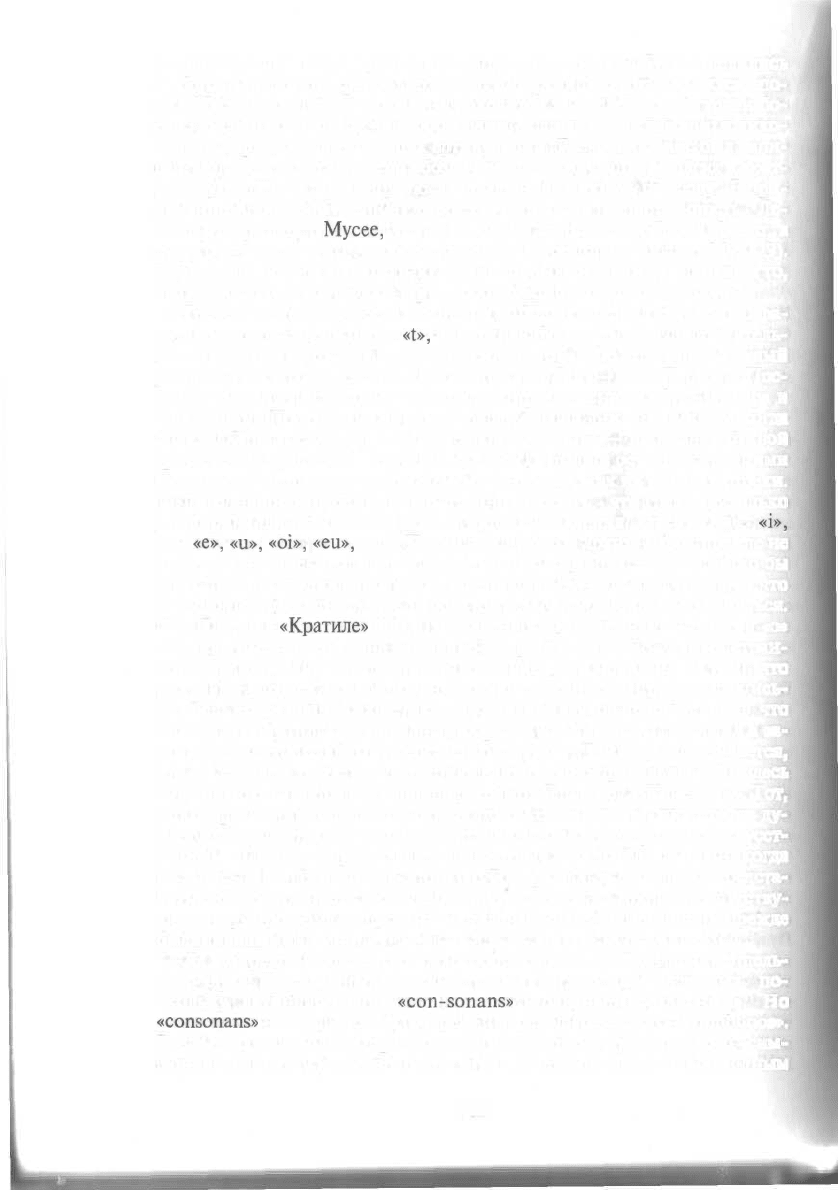
использовавшимися в жреческих надписях на храмах, Музы отделились
от богов, певцы от жрецов, поэзия от литургии, литургия от вкуса эпо-
хи. Мусический эпос, хотя он и находится за пределами литургии бо-
гов, высоко возносится над хороводами, хлопанием в ладоши и лико-
ванием варваров, не знающих артикуляции. Греческий эпос был запи-
сан, мог быть записан с ясно обозначенной артикуляцией долгих и крат-
ких звуков. И так гекзаметр эпоса способен проникнуть повсюду. В при-
думанном образе Мусея (28) уже встречается эта двойственность. Ле-
генда утверждает о
Мусее,
что он, с одной стороны, изобрел алфавит, а
с другой — гекзаметр. А собственное имя Мусея произошло от Муз (29).
Итак, в одном образе, который, очевидно, был выдуман, соединяется то,
что сделало греческую культуру особой формой светской культуры.
Греческая письменность восприняла 22 буквы финикийского алфа-
вита, и эллины ввели после
«t»,
последней буквы семитов, дополнитель-
ные знаки, так что алфавит кончался «омегой». Об этом знает каждый
ребенок, поскольку из слов Исайи о том, что Бог — это Первое и Пос-
леднее, евангелист Иоанн мог создать предложение: «Он — Альфа и
Омега» (30). Но известно ли людям еще и в наши дни, что в эпоху, когда
родился Христос, «альфа» была первой, а «омега» — последней буквой
греческого алфавита? У евреев же «А» и «Т» были и остаются крайними
буквами последовательности элементов, стихий, как их называли греки.
Сегодняшней публике очень трудно доказать, что греки не только
расширили финикийский алфавит путем добавления гласных «a»,
«i»,
«о»,
«е»,
«u»,
«oi»,
«eu»,
«аи». Поскольку никакой другой народ прежде не
передавал на письме гласные звуки, то это само по себе уже могло бы
стать причиной удивления и восхищения или, лучше, предчувствия, что
именно поэтому отношение народа к письму должно было измениться.
Сам Платон в
«Кратиле»
(393 d) озадаченно указывает на то, что «е», «о»
«и» носят местные имена в отличие от других букв. Но, как ни стран-
но, современная филология и языкознание сами повинны в том, что
никто не уделяет должного внимания особенностям греческого пись-
ма. Ведь современная фонетика при анализе звуков действует так, что
этот анализ будто самоочевидным образом начинается с гласных, а за-
тем переходит к плавным и согласным звукам. Тем самым получается,
что мы считаем этот способ действий единственно правильным. Но здесь
ситуация оказывается подобной переходу от Птолемея к Копернику. Тот,
кто сперва занимается гласными, а потом согласными, никогда не ду-
мает о том, что такой метод является поздним и совершенно искусст-
венным. Гласные звуки издают и животные, но до Эллады их никогда
не записывали. Вследствие этого до Гомера нельзя было даже предста-
вить себе возможность низведения других звуков до уровня «сопутству-
ющих звучанию», т.е. простых «согласных». Ведь именно они прежде
были главными!
Да, до греков не существовало особого слова для обозначения отдель-
ного звука! И все же ныне каждый говорит о гласных и согласных, по-
скольку латинское слово
«con-sonans»
и означает «согласный». Но
«consonans»
— это, в свою очередь, перевод греческого «symphonos».
Все выглядит довольно странно: каждый знает иностранное слово «сим-
фония». Но кому известно о том, что «symphonos» является исходным
312
