Розеншток-Хюсси О. Язык рода человеческого
Подождите немного. Документ загружается.

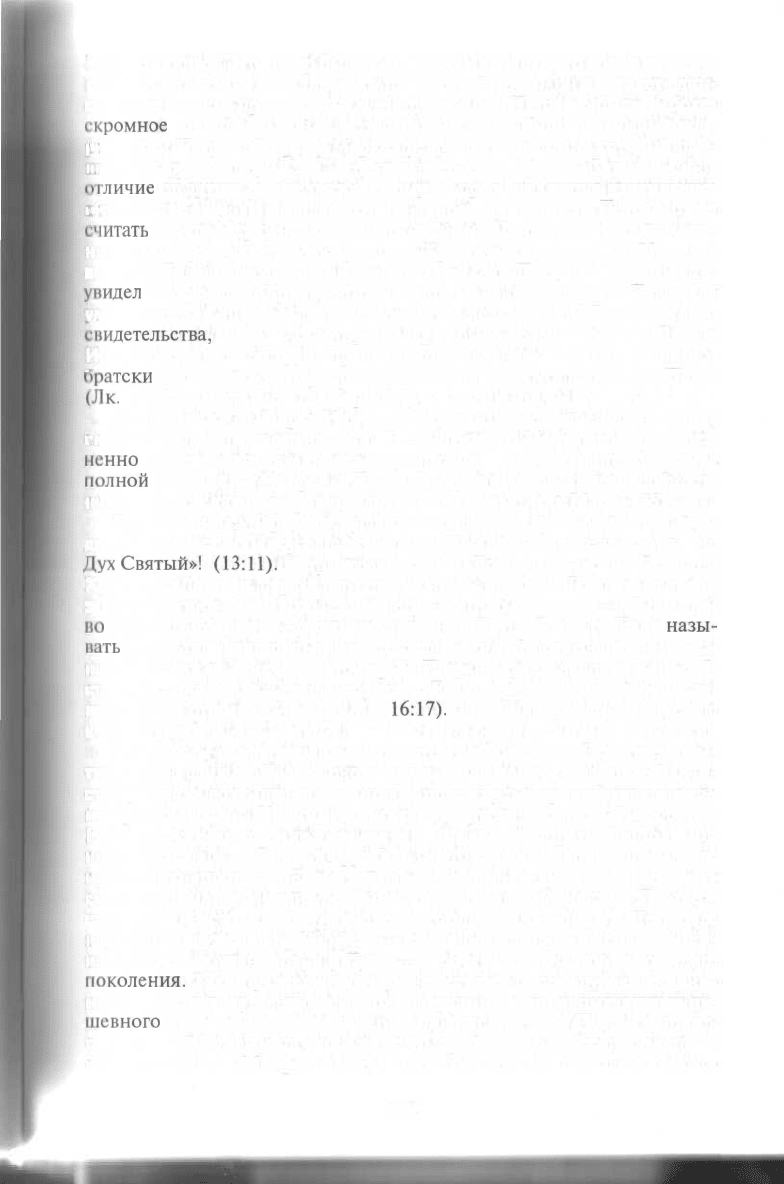
Марк сообщает, что Петр был «в страхе» (Мк. 9:6), в то время как дру-
гие евангелисты не осмеливаются сказать об этом; он изменяет един-
ственное число в приведенных у Матфея словах Петра «я был» в более
гкромное
«они были», он опустил его имя, когда был задан умный воп-
рос. «Дом Петра» Матфея у Марка превращается в дом, в который при-
шли четыре апостола. Сам Петр называет себя у Марка «Сатаной», и, в
отличив
от других евангелистов, этому не предоставляется извиняющее
объяснение (33). И высшей точкой самоотверженности Петра можно
считать
то, что Марку не позволяется дать имя Петра одному из двух уче-
ников, которые увидели воскресшего Христа в Еммаусе (34). И все же
апостол Павел однозначно говорит о том, что Петр был первым, кто
унидел
воскресшего Христа. Иными словами, в глазах самого Павла для
удостоверения апостольского достоинства нельзя найти более важного
свидетельства,
чем то, о котором Марку было велено молчать. Лука и
Иоанн берут на себя труд оправдать это молчание, поскольку они по-
пратски
проявляют заботу о том, чтобы упомянуть о первенстве Петра
(Лк.
24:13 и далее; Ин. 21; 1Кор. 15:5).
«В евангелии от Марка Иисус изолирован и совершенно не понят
с пойми избранными учениками. В евангелии от Марка это имеет жиз-
ненно
важное значение, поскольку спасение вынуждено пребывать в
полной
изоляции. Матфей и Лука обнаруживают свою неспособность
показать это с такой же удивительной жесткостью, как Марк» (35).
Преодоленное Марком искушение хорошо описано в евангелии, ког-
да он сообщает об Иисусе, сказавшем: «Ибо не вы будете говорить, но
Дух
Святый»!
(13:11).
Петр, отрекшийся от Господа во время Страстей
Христовых, теперь переходит к тому, чтобы оградить Господа от такой
зависимости от слабых людей. У него — и только у него -- было пра-
но
удержать Марка от противопоставления Петра Господу. Если
назы-
иать
результат «удивительной жесткостью», это будет означать следую-
щее: критики не замечают, что борьба Петра направлена против его соб-
ственного потенциального авторитета. Евангелие следовало проповедо-
вать только от имени Иисуса (Мк.
16:17).
Петр был суров по отношению
к самому себе.
Тем самым мы переходим к четвертому евангелию. Развитие собы-
тий в евангелии от Иоанна снова иное, но даже это, казалось бы, чи-
сто духовное, возвышенное евангелие повествует о происходящем весь-
ма драматически. Иоанн, как никакой другой апостол, был братом
Господа из естественной симпатии. В качестве брата Господа он
пользовался его любовью и дружбой, и это служило дополнением к его
призванию апостола. Естественная близость по духу и человеческая
симпатия были у Иоанна особыми источниками познания. Соответ-
ствующими источниками углубленного понимания были у Петра его
церковное служение, у Матфея — осознание того, что он спасен и пи-
шет ради всех учеников, а у Луки — забота о вовлечении следующего
поколения.
Такой учитель, как Лука, достигает более глубокого пони-
мания, поскольку он имеет дело с незрелыми и не испытавшими ду-
шевного
потрясения учениками. Такой епископ, как Петр, становит-
ся более заботливым, поскольку этого требует его ответственность за
спасение душ, а Матфей знает и понимает лучше, поскольку он рас-
343
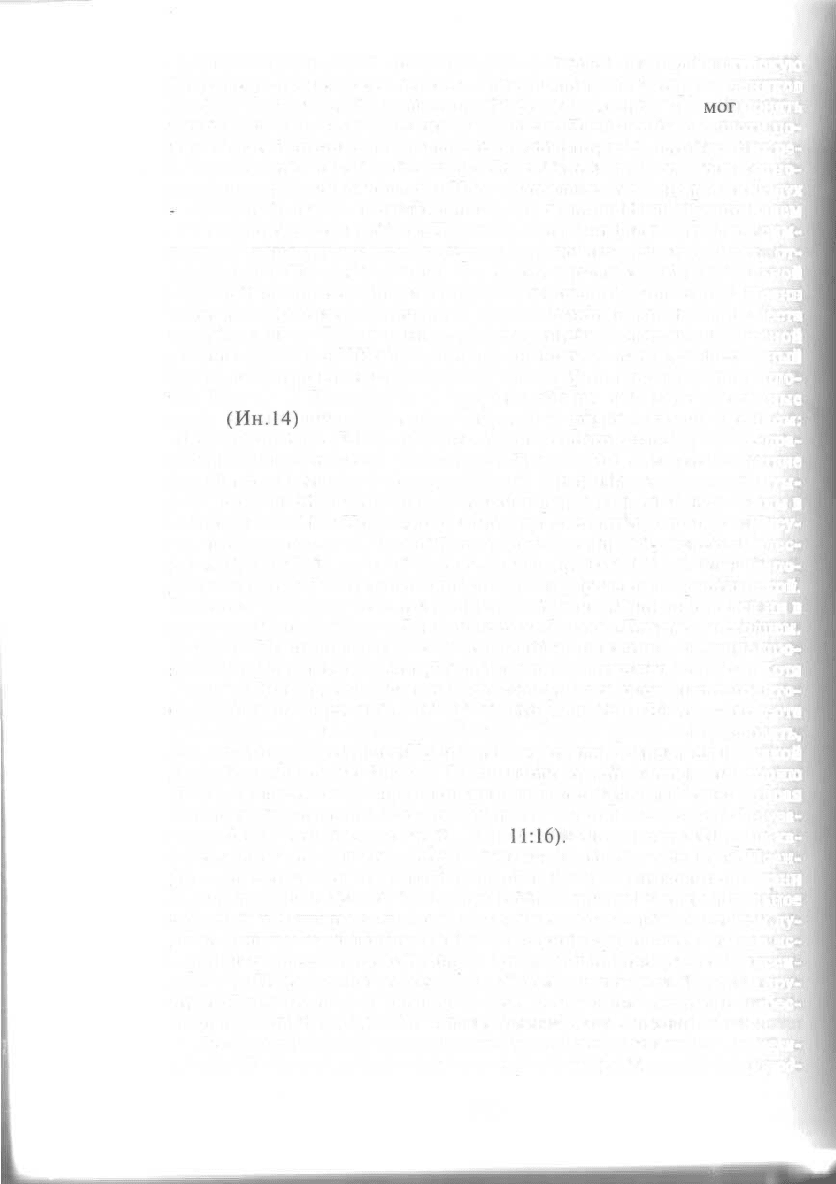
стался со своим довольно постыдным ремеслом и ощущал глубокую
благодарность и радость от того, что его приняли в круг учеников
Иисуса. Иоанн, детская душа, понимает то, чего сперва не
мог
понять
никто другой: становление живой личности. Члены семьи по плоти по-
нимают глубинные причины поведения друг друга, и исток всех их ре-
акций и жестов для них очевиден. То же самое справедливо и в отно-
шении родственников по духу. Ибо дух предшествует инкарнации; дух
- это изначальная мысль Творца, а мы, живые люди, представляем
собою форму ее проявления. Поэтому родственный дух благодаря сим-
патии и «конгениальности» в первоначальном смысле понимает, от-
куда пришел Иисус, из какой роковой глубины, из какой изначальной
матрицы, предшествующей закону, нации и религии, он возник. Иоанн
как родственный дух начинает с действительного, изначального места
человека в Духе Божием. Но путь его евангелия ведет его с небесной
родины на землю. У Иоанна таинственный ход событий, таинственный
процесс заключается в движении от Слова у Бога к обладающему пло-
тью Иисусу. У Иоанна Иисус прерывает свои самые возвышенные
речи
(Ин.14)
будничным и конкретным физическим движением:
«Пойдем отсюда». Только Иоанн — и никто другой — передает это дра-
гоценное свидетельство реальности Иисуса (Ин. 14:31). Вследствие
своей личной душевной близости Иисусу Иоанн никогда не испыты-
вает потребности смотреть на Него со стороны. Он жил вместе с ним в
глубинах его души. Но то, что он смог отождествить своего брата Иису-
са, переживавшего мелкие события повседневной жизни, с космичес-
ким титулом «Христос», было победой Иоанна. Иоанн видел в Госпо-
де свое другое «Я». Душа Иоанна по своей природе была христианской.
По этой причине для своего знания и понимания он не нуждался ни в
каких знамениях или особых процессах. Он знал Его своим сердцем.
Но когда Иоанн писал свое евангелие, он понял, что и внешние про-
явления душевных движений Господа были столь же необходимы. Хотя
Иоанн и был един с ним в вечности, он уничижил себя до того, что-
бы перед лицом истории стать просто его учеником. В этом — красота
последней главы евангелия от Иоанна. Фома, прежде чем уверовать,
должен был увидеть, а для Иоанна такая наглядность не имела никакой
доказательной силы. Однако Иоанн добросовестно передал историю
Фомы в качестве описания такой разновидности ученичества, которая
в наибольшей степени была противоположна его собственной. Он ува-
жал в Фоме готовность к смерти (Ин.
11:16).
И он почитал Петра в ка-
честве того, кто наделен авторитетом, — даже по отношению к Иоан-
ну, — поскольку так сказал Господь. Так Иоанн от глубинной жизни
сердца переходит к таким внешним обстоятельствам, как социальное
служение и социальное положение, и тем самым не позволяет всем ду-
шам, от природы являющимся христианскими, ускользать от мира ис-
тории и осуществления. Иоанн не стал ни папой в Риме, ни мисси-
онером в Индии, однако он сообщил силу и значимость и тому, и дру-
гому. И потому папа и миссионер должны вечно считаться с «бес-
покоящим присутствием Иоанна» (36).
Все четыре евангелия — это процессы, в ходе которых четыре евангели-
ста преодолевают свою человеческую ограниченность, оставляя ее у под-
344
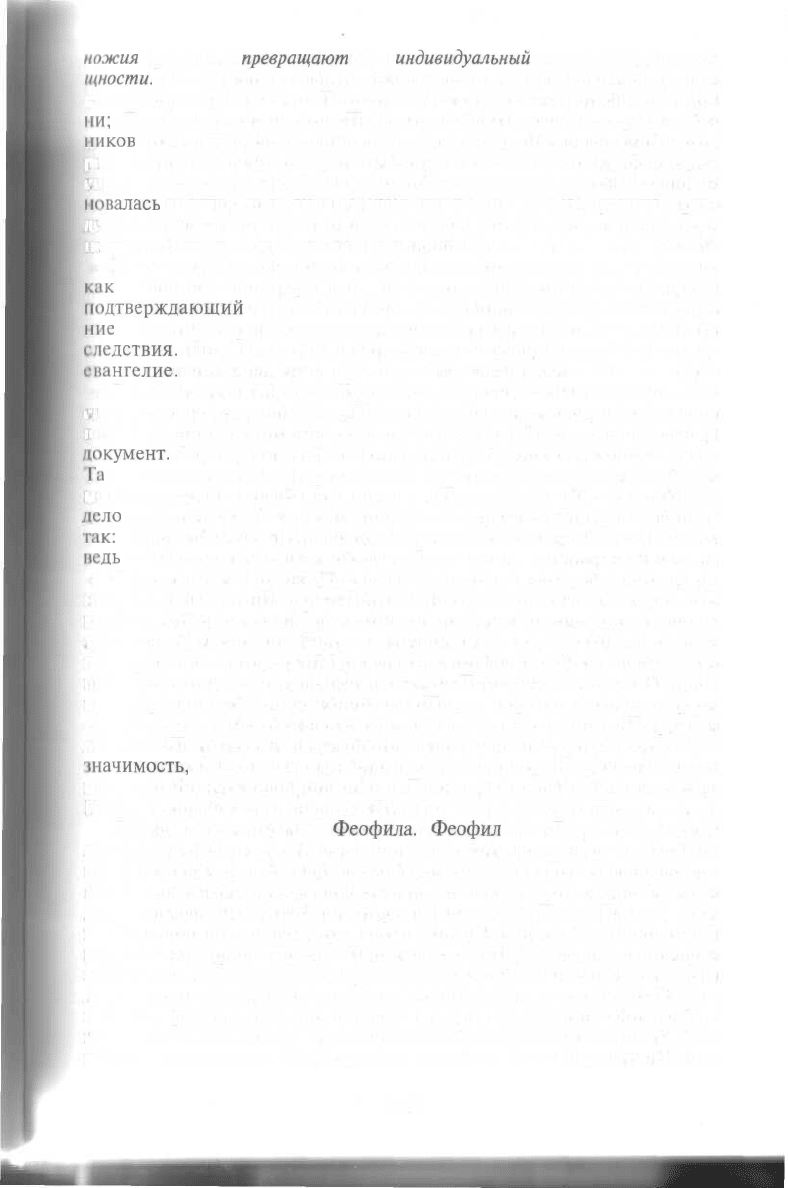
нолсия
Креста, и
превращают
свой
индивидуальный
опыт в достояние об-
щности.
Матфей признал, что он больше не иудей; Марк, ученик апо-
стола Петра, признал, что Петр отказался от своего собственного име-
ни;
Лука, спутник апостола Павла, признал: Павел делает среди языч-
ников
то, что Иисус совершил среди евреев; Иоанн признал, что, хотя
родственный дух и может постичь вечный смысл без какой-либо дискус-
сии, все же остается необходимым, чтобы верующая душа сначала пови-
иопалась
должностным лицам и инстанциям, поскольку в условиях раз-
деления труда в этом видимом мире мы должны смириться с неизбеж-
ностью медленного протекания всех процессов.
Наше выражение «признать» используется здесь в том смысле,
как
его понимали четыре евангелиста, т.е. означает отнюдь не некий
подтверждающий
документ наподобие расписки. Требуется измене-
ние
сознания в процессе написания, чтобы сам пишущий мог выявить
следствия.
Он учится признавать, и в этом учении и заключено его
евангелие.
Возьмем случай Матфея. Критики, ссылающиеся на содержащееся в
сю тексте множество цитат из Писания, вводят нас в искушение видеть
и нем законника, который создает для своего клиента удивительный
документ.
Законник пишет свою первую фразу, памятуя о последней.
Га
кое сообщение планомерно составляется в соответствии с единым за-
мыслом и сочиняется единым духом. (По крайней мере, так обстоит
дело
теоретически, во что я, впрочем, не верю.) Но Матфей начинает
T;IK:
«Иисус был Царь Иудейский», а в конце он сам сознает: «О небо,
недь
я больше не иудей!» и покидает Иерусалим.
Обратимся к Марку. Марк преклоняет колени по время богослуже-
ния, совершаемого Петром. Петр для него — это высший авторитет. В
конце своего евангелия Марк осознает, что он не может строить, исполь-
зуя в качестве основания Петра, — точно так же, как и какого-либо дру-
гого грешного человека. Марк, так часто, должно быть, испытывав-
ший боль, будучи вынужден слушать, что Петр вычеркнул тот или иной
кусок предания, в котором он славил Петра, обрел достаточное муже-
ство, чтобы возвыситься над своей задачей быть подручным Петра. Ус-
лышав от Петра, как князь апостолов преуменьшил свою собственную
значимость,
Марк получил наставление о единстве Церкви. Церковь
могла возникнуть лишь тогда, когда Единственный дал свое имя ее телу.
И Марк пошел в Александрию в Духе Божием, а не в духе Петра.
Лука сделался иным ради
Феофила.
Феофил
знал Луку. И обращение
язычников было, вероятно, единственным, что его интересовало. Но
писания Луки осуществили здесь некое изменение. Изначальное свер-
шение теперь со всей очевидностью предстало в качестве вечной матри-
цы, лишь одним из плодов которой был апостол Павел. И каждое по-
коление должно заново устремляться к этой единственной подлинной
матрице — матрице Креста! После апостола Павла все поколения при-
званы были черпать свою пищу и свой образец из евангелия их Учителя
до тех пор, пока они сами в качестве учеников, но уже со своей собствен-
ной «историей деяний апостолов», не смогут вступить в состязание с
пережитыми апостолами страданиями. Всем следовало бы слушать еван-
гелиста, прежде чем они окажутся в состоянии снова передать еванге-
345
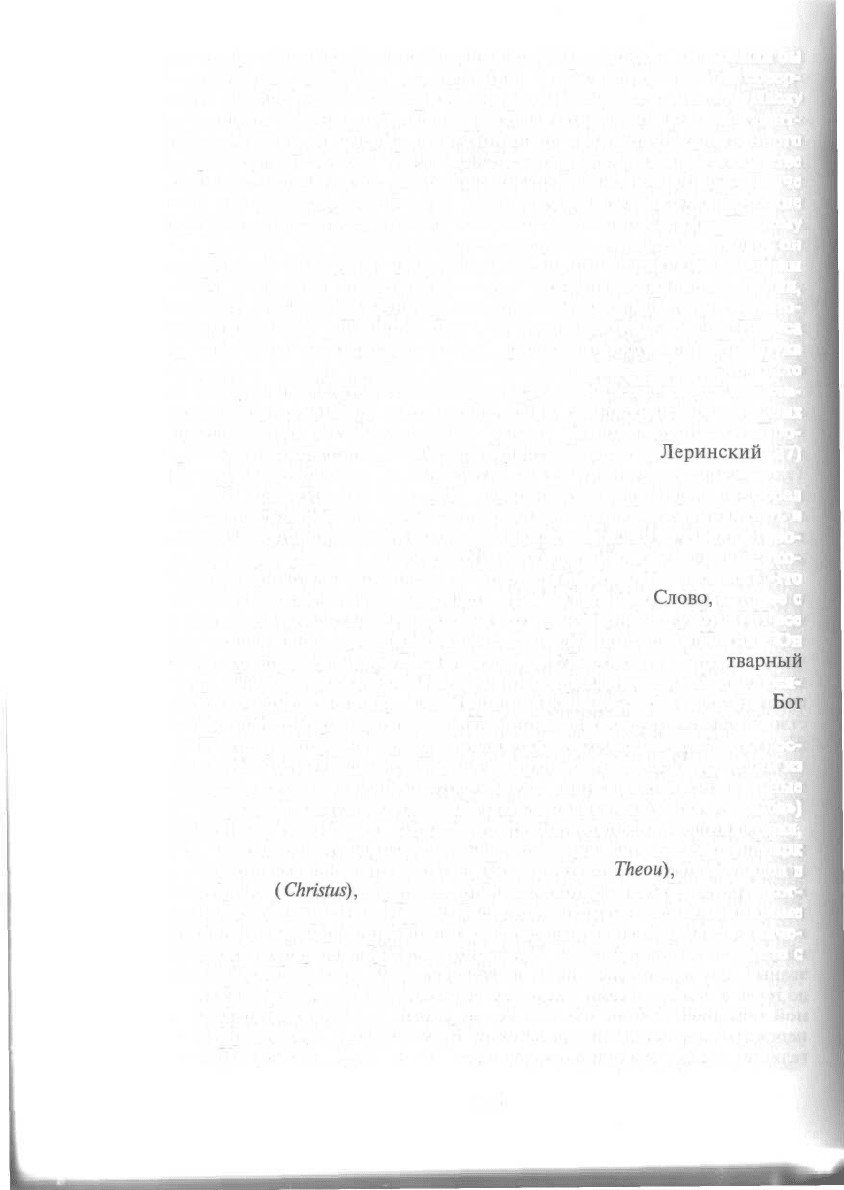
лие на другом языке, как это сделал апостол Павел. Все должны были бы
стать учителями следующих поколений, чтобы ученики смогли совер-
шить еще более великие дела. Достаточно впечатляет то, что на Пасху
небо спустилось на землю (Деян. 1) и была создана новая земля с цент-
ром в Риме вместо Иерусалима. Но Бог призвал лишь Единственного
открыть истинное небо. Он должен был получить признание в качестве
Единственного, в качестве незыблемой постоянной величины. Иначе
одно и то же небо, т.е. Бог, не могло бы входить во все человеческие
сердца и обновлять землю в каждом человеческом поколении. Поэтому
Феофил должен был выйти за пределы простого крещения. Теперь он
мог считать, что ему доверено исполнить по отношению к своим детям
особую задачу, столь же грандиозную, как и переложение евангелия,
осуществленное для язычников апостолами Павлом и Петром, повино-
вавшимися своему Господу. Так в обеих книгах Луки веление Иисуса
крестить народы возрастало в геометрической прогрессии. Ибо Лука
открыл то, чего можно было бы достигнуть и что действительно было
достигнуто впоследствии: если через посредство крещения человек ста-
новился христианином, то он обретал способность перерасти своих
предшественников. Так и только так стал возможен прогресс. «Про-
гресс» возможен только благодаря Христу. Викентий
Леринский
(37)
превосходно написал об этом.
А Иоанн — Иоанн, этот орел, парящий в небесном эфире, — обрел
способность наряду с небом, где он жил со своим Учителем, любить и
землю. По этой причине в последней фразе евангелия от Иоанна гово-
рится о пространстве космоса, не способном вместить все книги, ко-
торые можно было бы написать об Иисусе. Пространство космоса? Что
оно значило для Иоанна, узрившего в своем видении
Слово,
которое с
самого начала, еще до того, как был сотворен мир, было у Отца? И все
же этот самый сотворенный космос стал последним словом Иоанна. Он
был готов покинуть небо Бога и из любви к Богу войти в этот
тварный
«мир». Он обрел способность видеть это материальное мироздание, ося-
зать его, ощущать его вкус, хотя он и мог обходиться без него. Но
Бог
сотворил этот мир и хотел, чтобы Иоанн также любил его.
Поэтому авторы четырех евангелий образуют примечательную пос-
ледовательность. В древней Церкви имя Иисуса считалось состоящим из
четырех частей: Иисус, Христос, Сын Божий, Спаситель. Начальные
буквы соответствующих греческих слов читались как «ichtys» («рыба»)
(38). Четыре евангелия возгласили это имя. Матфей, грешник, знал,
что Господь является его личным Спасителем (Спаситель = Soter), Марк
с самого начала знал его как Сына Божия (Hyios
Theou),
Лука увидел в
нем Христа
(Christus),
обратившего Савла, с которым сам Христос никог-
да не разговаривал; для Павла Иисус не мог быть никем иным, кроме
исключительно Христа. А Иоанн, родственный дух, понимал его в каче-
стве своего старшего брата, и это означает, что он лично жил вместе с
ним как с «Иисусом», «Jesus».
1. Спаситель,
2. Сын Божий,
3. Христос,
4. Иисус
346
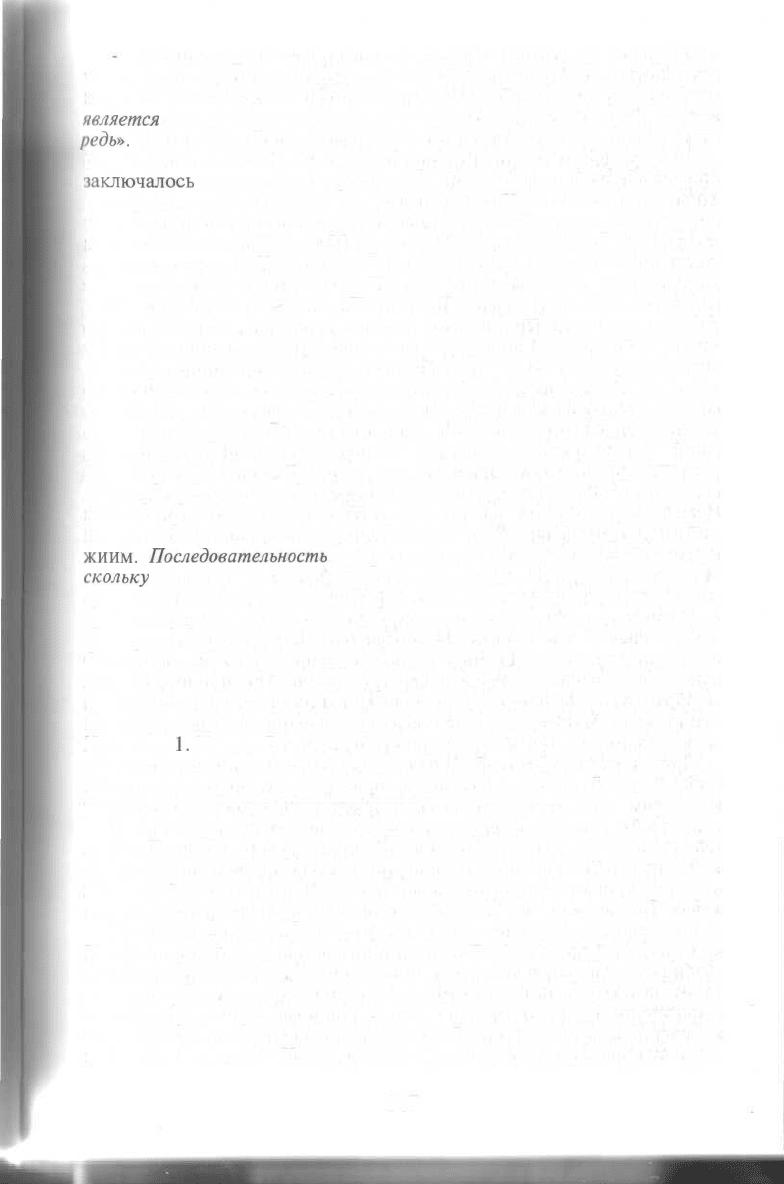
— именно в таких аспектах писали четыре евангелиста. А теперь на-
чинает действовать закон языка, который всегда противоречит природе
и простому ходу времени. Этот закон гласит: «То, что в некоем событии
является
центральным или первичным, артикулируется в последнюю оче-
редь».
То качество Иисуса, благодаря которому его воздействие на свое
окружение оказывалось самым широким, зримым и будоражащим,
заключалось
в спасении им грешников. Иоанн был наиболее близок его
сердцу, в котором он прежде всего являлся Иисусом, этой подлин-
ной, действительно единственной личностью. Иоанн передает самые
потаенные мысли Иисуса. Матфей повествует обо всех внешних дока-
зательствах веры в Иисуса как Спасителя, он мог первым сообщить о
том, что он испытал на опыте; Иоанн же оказался способным сказать
о них лишь в самом конце. Почему? Последовательность выглядит
странно, но она повторяет опыт постижения Иисусом самого себя,
только в конце очевидным образом представший как опыт Его наибо-
лее сокровенной, внутренней жизни. То, что мир сначала видит не нас
самих, а наши лежащие на поверхности функции, соответствует опы-
ту всякой живой души. Сперва замечают те наши черты, которые не
столь неповторимы. Внешний человек познается раньше внутреннего,
а исторические факты — раньше их долговременного значения. Лишь
благодаря празднику Троицы и тому опыту, который обрел Павел,
действуя среди язычников, стало известным непреходящее значение
имени «Христос», тогда как Петр мог придерживаться собственного
исторического опыта, почерпнутого из общения с живым Сыном Бо-
жиим.
Последовательность
четырех евангелий является необходимой, по-
скольку
она изменяет на обратный тот порядок, который начинается с
природной индивидуальности Иисуса. И такое обращенное вспять вос-
приятие природы являет собой необходимую последовательность осмысле-
ния, артикулирования! Ichtys: 1. Иисус; 2. Христос; 3. Сын Божий; 4.
Спаситель — это правильный, «естественный» порядок, который ну-
жен, чтобы описать эту индивидуальность. Высказанное и записанное
проникновение в саму суть этой индивидуальности осознается в обрат-
ном порядке и обратной очередности: 4. Спаситель; 3. Сын Божий; 2.
Христос;
1.
Иисус. В моих работах приведено много примеров дей-
ствия этого закона изменения порядка на обратный; к ним относится,
в частности, сформулированное в предыдущей работе «Распевы Муз»
учение о гласных и согласных звуках.
Теперь обратимся к практической связи между четырьмя еванге-
лиями. Та свобода, какую они, исходя из этой связи, предоставляют друг
другу, поистине дает ключ к «четверному евангелию». Но сперва мне
хотелось бы осветить это взаимоотношение с помощью одного примера,
не относящегося непосредственно к нашей теме.
Мой пример касается трактовки всемирной истории из нее самой.
История протекает в определенном ритме. Любой историк, который не
специализировался на французской, английской, немецкой или рус-
ской истории, и любой заинтересованный дилетант мог бы убедиться в
том, что Русская революция вместе с мировыми войнами произошла
через четыре или пять поколений после Французской революции и на-
полеоновских войн. Почти такой же промежуток времени отделяет
347
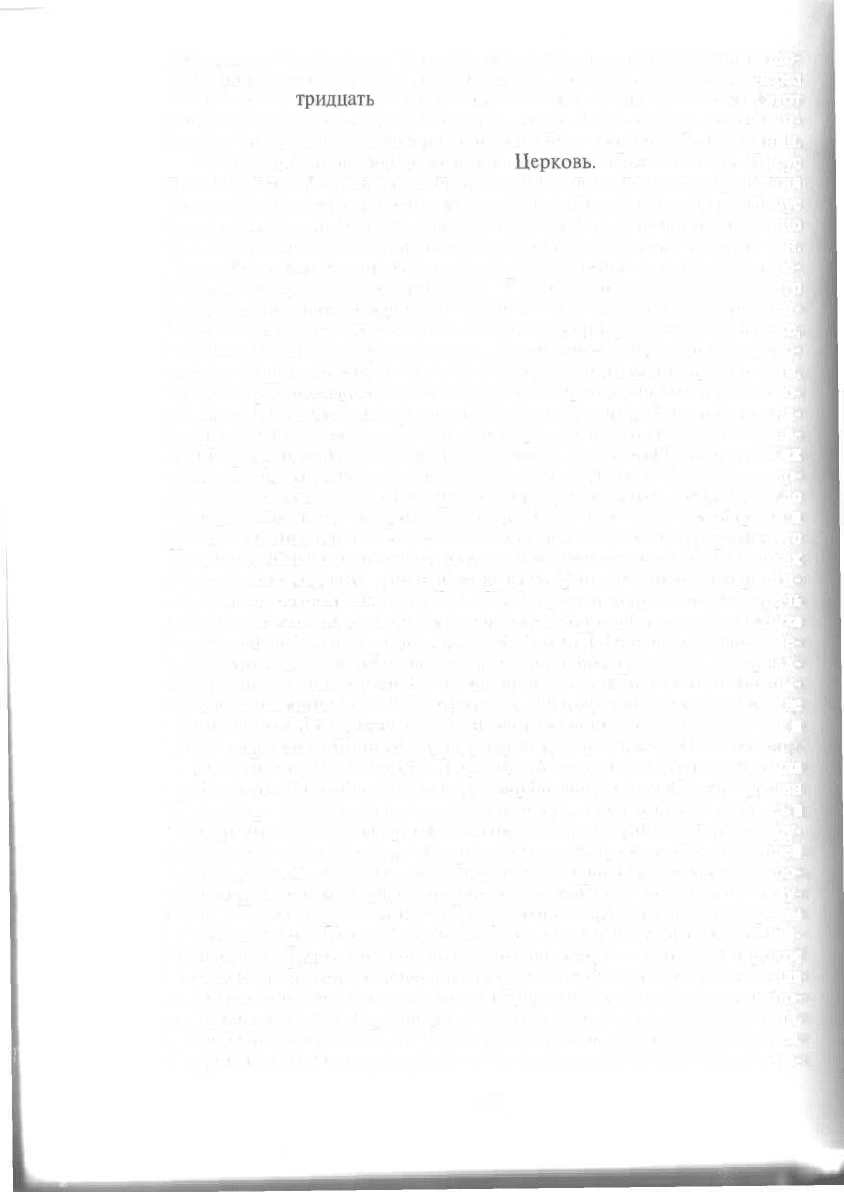
Кромвеля от Робеспьера. И опять же четыре или пять поколений отде-
ляют Лютера от Кромвеля (39). Почему революции разражаются через
четырежды по
тридцать
лет? Пускай мы не в состоянии ответить на этот
вопрос. Это ничего не изменит в том, что речь идет о факте, основан-
ном на датах, слишком впечатляющих, чтобы оставить их без внимания.
Этот вопрос лишал покоя раннюю
Церковь.
По-видимому, Иисус
пришел как раз в нужное время, т.е. за одно поколение до разрушения
Храма. Иоанну в его старости и Церкви после 70 г. было ясно, что Иисус
правильно рассчитал время. Он извлек семя с Сиона еще до того, как оно
там стало бесплодным. Но до 70 г. этот аргумент не мог быть приведен.
Иисус предчувствовал порчу и погибель. Он истолковал знамения вре-
мени за одно поколение до событий. В промежутке времени между его
распятием и 70 г. вера христиан упорно искала убедительные аргумен-
ты, способные подтвердить такое толкование истории, — точно так же,
как Ленин и Троцкий оказались в состоянии предвидеть мировую рево-
люцию задолго до 1917 г. на основе логического изучения революций,
тогда как Ницше просто чувствовал упадок и разложение. Стефан в сво-
ей речи и Матфей в своем изложении событий, написанном против на-
ходившейся у власти еврейской аристократии, попытались доказать на-
личие четкого ритма, предопределяющего пришествие Иисуса. Как
сказал Стефан перед синедрионом, история издавна снова и снова совер-
шала скачки. На первое место он ставил Авраама и его семью вплоть до
Иосифа. Затем Моисей, затем Давид и Соломон и, наконец, пророки и
вавилонское пленение. «Разве вы не видите, — так воскликнул он, — что
Иисус означает поворотный пункт, такой, как пленение, как Давид, как
Моисей, как Авраам?» (Деян. 7). Речь Стефана была первым христи-
анским домостроительством Духа. У Матфея эта оправдательная речь
возвысилась до уровня закона истории. Как он пишет, о переходе Духа
нам сообщается через каждые 14 поколений. Четырнадцать родов сме-
нилось от Авраама до Давида и до вавилонского пленения, четырнад-
цать — от вавилонского пленения до пришествия Христа в лице потом-
ка Авраамова и Давидова. Так называемая «генеалогия» в первой главе
евангелия от Матфея — это не генеалогия, а философия революции и
ритма революций. И она следует духу речи Стефана.
Даже Лука дал генеалогию Иисуса, но эта генеалогия больше не была
основой его евангелия, поскольку за прошедшее время был разрушен
Иерусалим. Суть великого всплеска красноречия Стефана заключалась в
том, что Дух изменяет формы своего проявления от одной эпохи к дру-
гой. И это — нам не следует об этом забывать — просто истина! Матфей
систематизировал высказывания Стефана и сказал, что такой прорыв про-
исходит в каждом четырнадцатом поколении. После апостольского слу-
жения Павла среди язычников Лука больше не нуждался в этом верном
по отношению к «Израилю» закону Матфея, но хранил в своей душе тай-
ну передачи Духа. Однако он мог позволить себе еще более широкое
обобщение. Он установил срок в трижды четырнадцать поколений для
эпохи, завершившейся пришествием Христа и начавшейся с основопо-
ложников иудаизма, но расширил список до семидесяти семи поколений,
живших от сотворения Богом Адама до создания второго Адама, Иисуса.
С другой стороны, в двух случаях он заменил число 14 числом 22. Мы на-
348
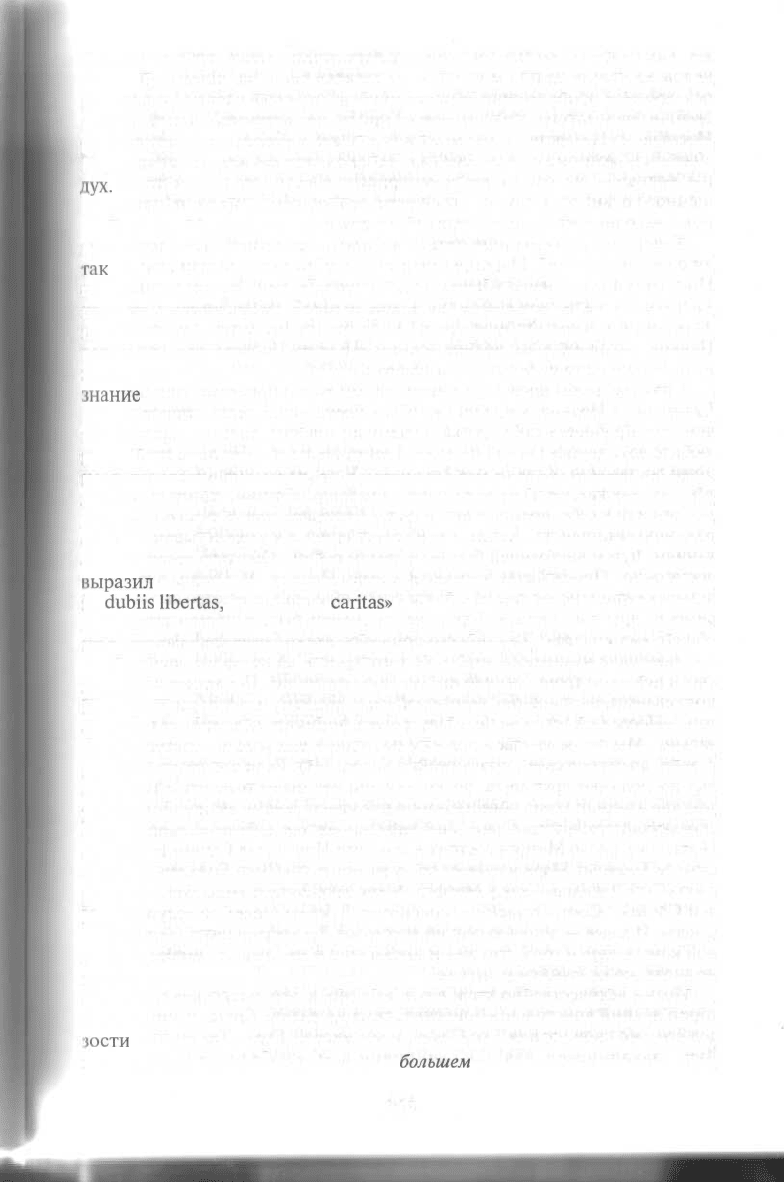
блюдаем действие того принципа, который связывает свободу с един-
ством. Вопрос, общий для всех троих, — Стефана, Матфея и Луки, — это
настоящий вопрос. Тем, кто не желает считать его вечным вопросом, я
могу указать на его секуляризованную версию. Гиббон (40) поставил воп-
рос евангелий по отношению к Риму. Он спросил не о том, «почему пал
Израиль», а о том, «почему пал Рим». Рим пал тогда, когда его оставил
дух.
В этой форме вопроса, заданного в учебной аудитории, он и интере-
сует людей — от Гиббона до Шпенглера (41).
Что же, Матфей указал на некую закономерность. Лука внес поправ-
ки в числа. «Трижды четырнадцать» оказалось неправильным числом,
гак
что его следовало исправить; но сам вопрос, хотя он и остался без
ответа, все же требовал решения. Этого можно было достичь не с помо-
щью диалектически последовательного сопоставления «да» и «нет», а в
процессе подлинного, опирающегося на здравый разум исследования,
ведущего, вероятно, к «утвердительному ответу, достигаемому, правда,
иным способом». Это выдвинуло новый метод, тогда как греческое со-
знание
всегда продвигалось вперед в рамках противопоставлений. Новый
христианский метод стал возможен потому, что сердце и душа различных
мыслителей оказались едины еще до того, как они начали аргументиро-
вать. Современное исследование происходит из христианства, поскольку
исследователи, несмотря на различные идеи в сердце и душе, поддер-
живают мир. Это — закон нашего летоисчисления. Еще у Платона идеи
должны были объединять его учеников. Но идеи не делают нам такого
одолжения. Поэтому апостол Павел должен был обратить в христиан-
ство эллинов для того, чтобы мог существовать прогресс наук. Августин
выразил
в словах это условие научного прогресса: «In necessariis unitas,
in
dubiis
libertas,
in omnibus
caritas»
(42). Стефан, Матфей и Лука созда-
ли первый известный мне совершенный образец этого. С этого време-
ни всякая диалектика является чем-то устаревшим.
Стефан воскликнул: «Этот Сын Авраамов воистину сам принес ту
жертву, которую не совершил Авраам по отношению к своему сыну
Исааку. Наступил век, завершающий историю семени Авраамова». Мат-
фей размышляет об этом возвещении, и Сын Авраамов в его евангелии
становится для всей истории Сыном Божьим. Лука соединяет период
между Сыном Божьим Иисусом и Сыном Божьим Адамом в единый
отрезок времени. Лука создал христианскую эру. В наших школьных
учебниках это разграничение между христианской эрой и древностью
относится к значительно более позднему моменту (533 г.) (43). Но дей-
ственное вызывание к жизни новой эры было общим свершением Сте-
фана, Матфея и Луки. И в третьей главе евангелия от Луки явным об-
разом заданы границы нового способа понимания — с одной эрой до
Христа и другой после него.
А теперь «Четыре евангелия» должны быть даже в буквальном смыс-
ле представлены в качестве чего-то единого. «Четыре евангелия» - - и
мы настаиваем на этом — суть уста, какими сердце Ichtys'a говорит
сквозь эпохи. Мы должны внимать им всем. То, почему мы должны чи-
тать все из них, мы попытались объяснить, выявив четыре уровня бли-
юсти
к Учителю, представленные евангелистами. Учитель, очевидно,
живо присутствует в них всех, но в
большем
или меньшем отдалении. Так
349
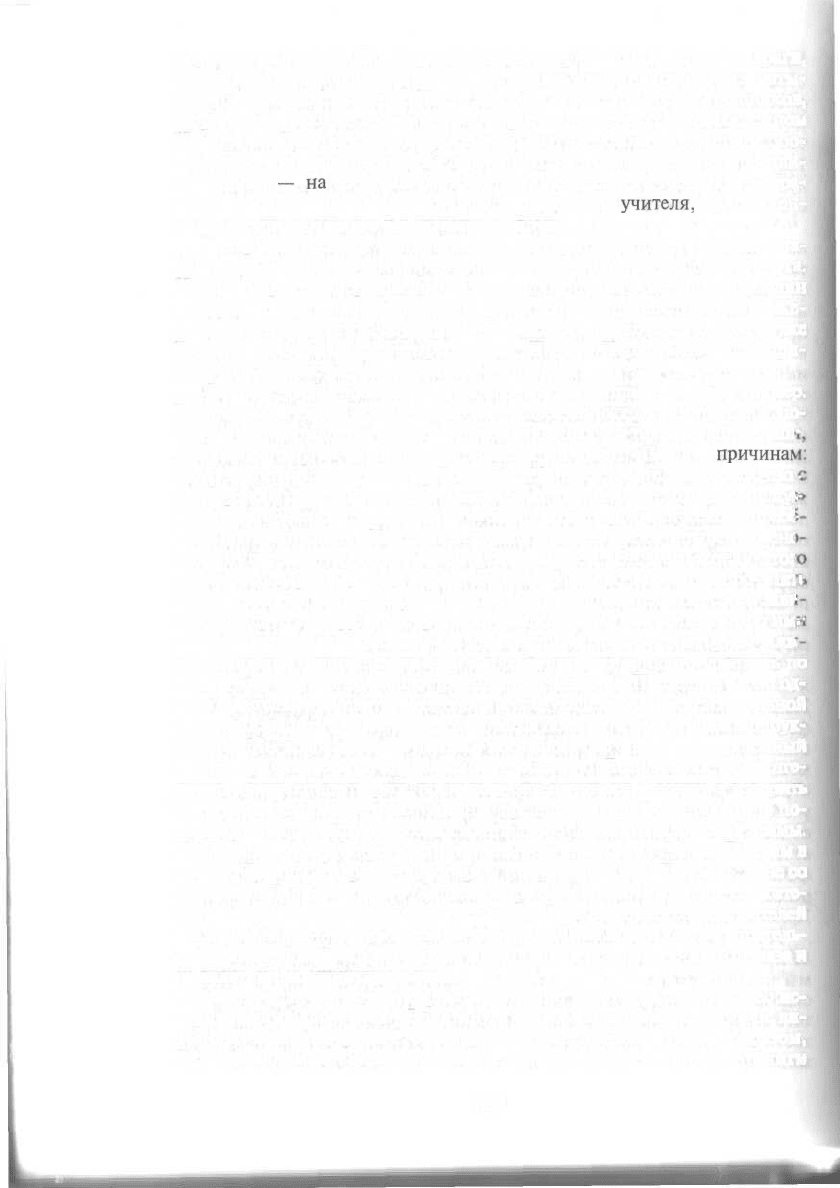
же, как существуют близорукие и дальнозоркие люди, друзья и враги,
человека нельзя целиком увидеть, оставаясь лишь на одном из четы-
рех уровней приближения. Иисус именовал себя спасителем грешников,
свершителем закона, избавителем от просто человеческого языка, сыном
Иосифа из Назарета, и мы можем услышать и усвоить эти четыре обо-
значения, которые он сам себе дал, только настраиваясь на четыре дли-
ны волны
--на
особенности восприятия спасенного грешника, обра-
щенного ревнителя закона, ставшего свободным
учителя,
прирожден-
ного, но одновременно и призванного друга.
Теперь мы должны попытаться доказать, что евангелисты тоже зна-
ли о своем единстве. Мы определенно знаем, что они читали друг друга.
Но с этим фактом неразрывно связан вопрос, почему же тогда они один
за другим писали свои евангелия в дополнение к предшествующим. Же-
лали ли они заместить друг друга? Если бы это было так, то почему же
Церковь сохранила все четыре текста? Почему Церковь не могла при-
нять только одно из более поздних евангелий?
Сначала, чтобы прояснить ситуацию, мы хотим привести один пример.
Евангелиста Иоанна, когда он уже был в преклонных летах, спросили, по-
чему его проповедь так коротка, почему он говорит только: «Дети мои,
любите друг друга!» Он дал на это знаменитый ответ: «По двум
причинам:
этого достаточно, и так сказал Господь». Четырех евангелий достаточно с
тех пор, как каждое из четырех приемлемых именований, которые «Ichtys»
мог отнести к себе, превратилось в «уста» благодаря драматическому преоб-
ражению евангелиста. Каждый евангелист пришел к этим четырем имено-
ваниям путем внутренней борьбы с самим собой. Он этого хотел. Этого
достаточно. Прислушаемся только к словам Иоанна. Мы хотим прочитать
четырех евангелистов еще раз: приводят ли они доказательство своей зави-
симости друг от друга, которое не сводилось бы к использованию ими
общего «материала»? Да, они его приводят: они создают друг друга. Каж-
дое евангелие начинается именно с того пункта, до которого, двигаясь по
своей нелегкой тропе, дошло предыдущее евангелие. Последнее слово од-
ного евангелия становится увертюрой к следующему и задает его основной
тон. «Последнее слово» не следует здесь понимать педантично или бук-
вально. Мы подразумеваем под ним последний шаг мысли, совершенный
в ходе драматического продвижения вперед (44). Если это так, то еванге-
лия продолжают друг друга, поскольку они начинают мыслить и говорить
там, где завершил свое повествование предшествующий евангелист, и по-
скольку они превращают свое заключительное слово в начало новой драмы.
Последнее слово Матфея состоит в том, что Иисус стал Сыном Божьим в
смысле Троицы. Марк начинает сразу говорить о «Сыне Божьем», а не со
слов «Сын Давидов», как у Матфея. Марк заканчивает «миссией служите-
лей Слова». Соответственно, миссионер Лука начинает со «служителей
Слова». И далее — историю деяний апостолов Лука заканчивает обстоятель-
ной констатацией того, что иудеи имеют уши и не слышат, имеют глаза и
не видят, но «язычники услышат».
Иоанн величественно вторгается именно в это последнее слово ис-
тории деяний апостолов: «Воистину, тьма не видела Света, и мир не ви-
дел его, но свои узрили Его Славу, и мы видели Его». Таким образом,
Лука заканчивает властью евангелия и «Слова единого» из книги
350
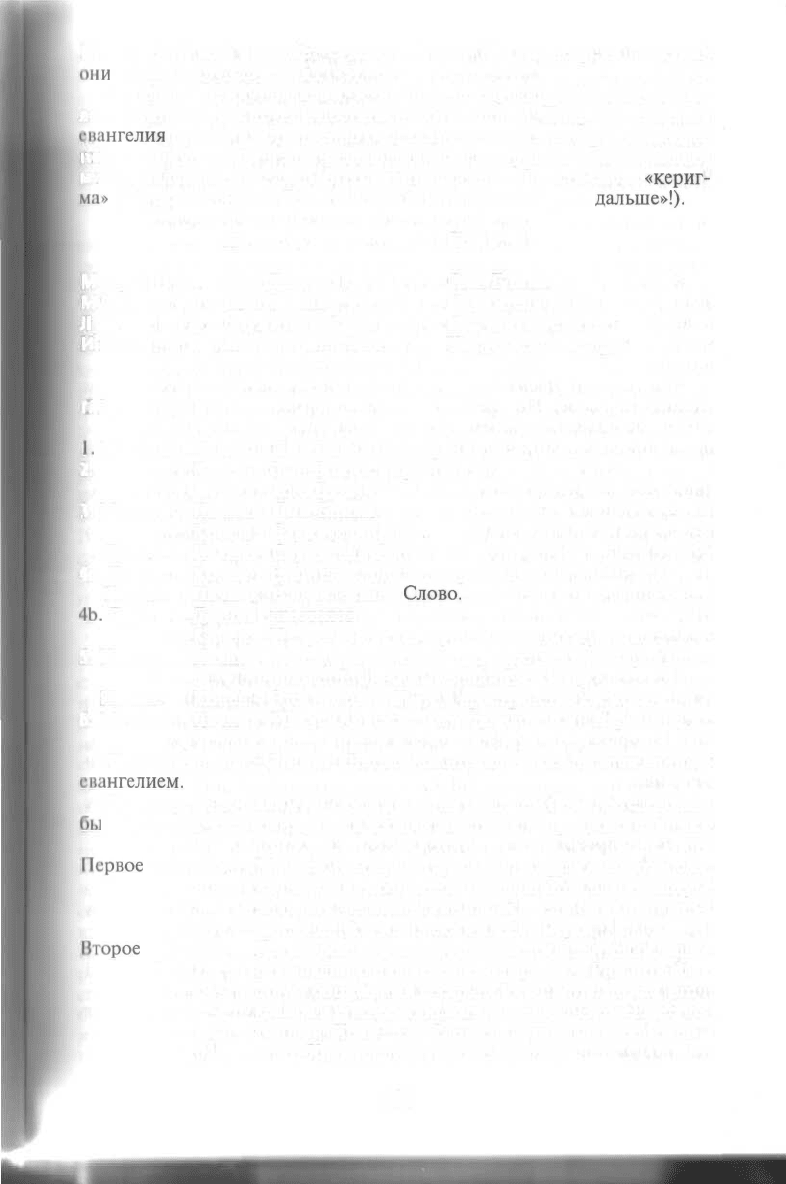
Исайи, 6. Иоанн начинает с власти Слова. Нельзя не услышать, как
они
бросают друг другу мяч (45).
Эта связь между началом и концом не случайна. Каждое еванге-
лие мучительно и с трудом достигает своего апогея. Покровы создателя
сиангелия
просто и естественно облекают человека, который наиболее
ютов к тому, чтобы в этот решающий момент принять на себя полно-
мочие, делающее нас людьми: говорить дальше. (Вместо слова
«кериг-
ма»
(46) скажите, ради Бога, так, как сам Иисус: «говорить
дальше»!).
Матфей
Марк
Лука
Иоанн
Общая схема:
Начало
Сын Давидов
Сын Божий
Служители Слова
Слово может быть
ныне услышано всеми
Конец
Сын Божий
Служители Слова
Язычники услышат
Иисус, человек, друг
1.
Матфей.
2.
.1. Марк.
Лука.
4а. Лука.
Иоанн.
4Ь.
Лука.
5. Иоанн.
Начало:
Конец:
Начало:
Конец:
Начало:
Конец:
Начало:
Деяния
Конец:
Начало:
Иоанн.
6. Матфей.
Конец:
Начало:
Сын Давидов и Авраамов
Сын Божий. (Крестите во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа).
Сын Божий
Служители Слова
Служители Слова
Евангелие: полнота прославления.
В начале было
Слово,
апостолов.
У евреев нет глаз и ушей; язычники услышат.
Мир не забыл Свет; его собственный народ не
принял Его, но мы узрили Его Славу.
Этот человек Иисус в пространстве космоса.
Иисус (Христос, Сын Давидов, Сын Авраамов).
Круг замкнулся. Отныне «Четыре евангелия» оказываются единым
снангелием.
Этот перечень, каким бы скудным он ни был, тем не менее следовало
Г)ы
читать как сценарий драмы в четырех действиях, сыгранной в один акт.
Первое
действие.
Нгорое
действие.
Матфей, мытарь, отбрасывает цифры и заметки сво-
их счетов и осознает, какой полнотой власти могут
обладать человеческие слова, если они произно-
сятся на пути человека к своей смерти.
Петр, простой рыбак, призывается в центр последне-
го западного поднебесного царства, в Рим, где вла-
ствует богоравный кесарь, в Рим с астрологией его
храмов и его иероглифами, и здесь он возвещает ис-
тинный Храм, т.е. Слово, и истинные иероглифы
этого Храма, служителей Слова.
351
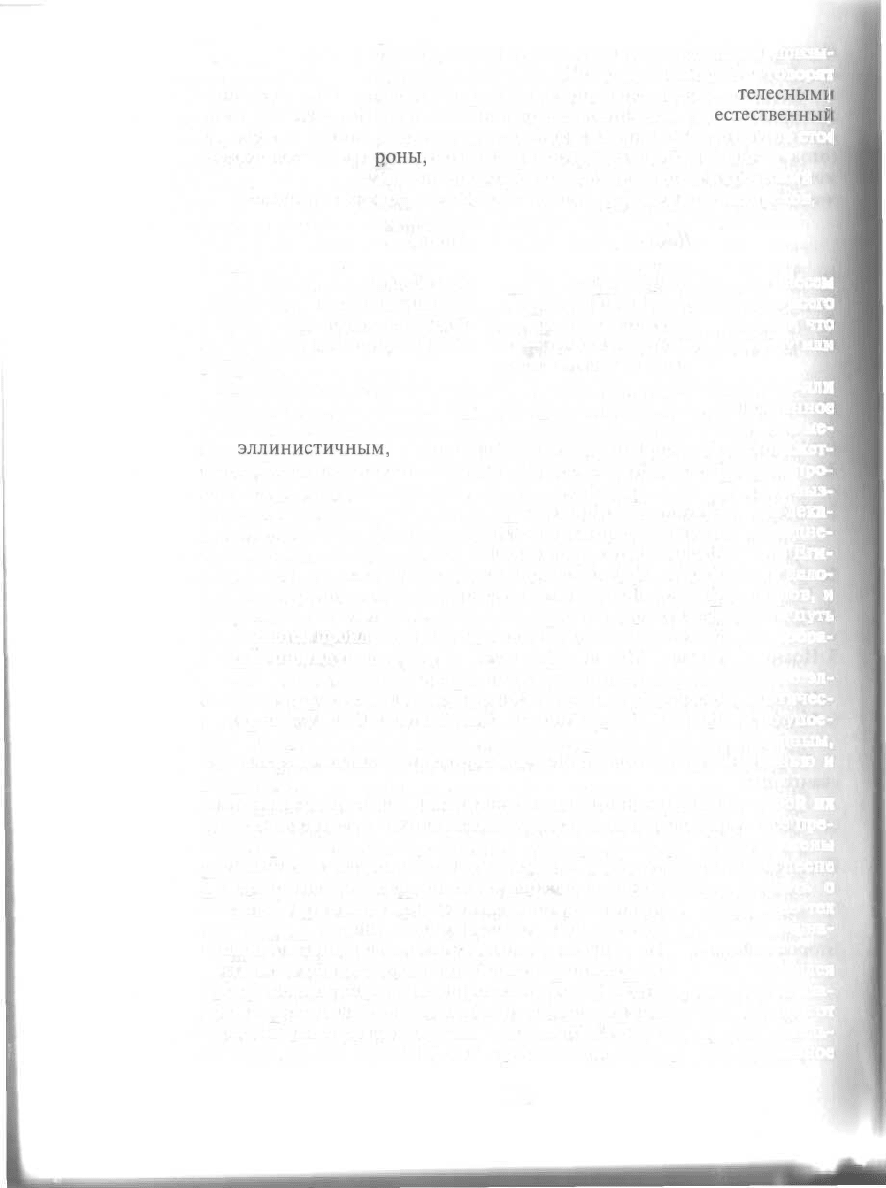
Третье действие. Лука, врач-грек, искусный в деле исцеления, призы-
вается в иудейскую атмосферу, где миру тел говорят
«нет» и где избегают соприкосновения с
телесным}
идолами. Он направляет это «нет» на
естественный
закон как иудеев, так и язычников и, с другой сто-
роны,
возвещает творческое «да» христиан.
Четвертое действие. Иоанн, пророк Откровения, вступает в греческий
космос и освобождает искусство и поэзию греков,
делая своей темой поэзию Бога. Он спрашивает:
«Как Бог пишет свою поэму?»
Коль скоро мы станем осуществлять этот сценарий, давайте внесем
ясность в его действия, начиная с Иоанна. Ибо его случай более всего
понятен нам, современным людям. Причиной тому является факт, что
мы лучше всего понимаем поэзию — лучше, чем науку, молитву или
ритуалы.
Евангелие от Иоанна всегда понимается как эллинизирующее или
эллинистическое. Но именно это неоспоримый факт сделал данное
евангелие подозрительным. Почему Лука, грек, должен был быть ме-
нее
эллинистичным,
чем галилеянин Иоанн? Напротив, это окажет-
ся необходимым, как только мы станем рассматривать язык как про-
движение вперед по пути из «откуда» к некоему «куда». Иоанна выз-
вали из Галилеи в греческий духовный мир, а Луку — из мира лека-
рей в иудейский духовный мир; Петр был призван в римский подне-
бесный мир, а Марк, его помощник, позже отправился даже в Еги-
пет, колыбель всех поднебесных миров. Матфей, современный дело-
вой человек, проходит путь, ведущий к исходному слою ритуалов, и
открывает, какой ценой надлежит платить за ритуал. Дальний путь
оказывается пройденным четырежды. Евангелисты не создают изобра-
жений, они идут вперед.
Поскольку язык подобен потоку, Иоанн не написал никакого эл-
линистического евангелия. Вместо этого он спас греческий поэтичес-
кий гений. Греки почитали Логос. Они говорили и говорили до упое-
ния. Риторика, логика, философия и театр были их хлебом насущным,
а искусства являлись их пороком и добродетелью, их жизнью и
религией.
К чему бы в сфере поэзии, -- а именно она выражала собой их
способ творить, — ни прикасалась их волшебная палочка, — все пре-
терпевало превращение, будто камни, из которых были сложены
стены Фив, под воздействием музыки Орфея. Мы внимаем песне
Гомера о гневе Ахиллеса до тех пор, пока не начинаем плакать о
Гекторе, его враге. И мы читаем историю о «муже» Одиссее до тех
пор, пока Гомер не убедит нас, что в общем и целом речь идет о на-
стоящей «Пенелопее».
Платон пришел в ужас от этого гения своего народа. Он обратился
против поэзии и предложил проклясть Гомера. Но запретный плод сла-
док. Освобождение от одержимости искусствами должно было прийти от
евреев. Евреи свергли искусства с их престола. Свои самые восхититель-
ные поэмы они понимали как простые ответы Богу. Но гениальное
352
