Розеншток-Хюсси О. Язык рода человеческого
Подождите немного. Документ загружается.

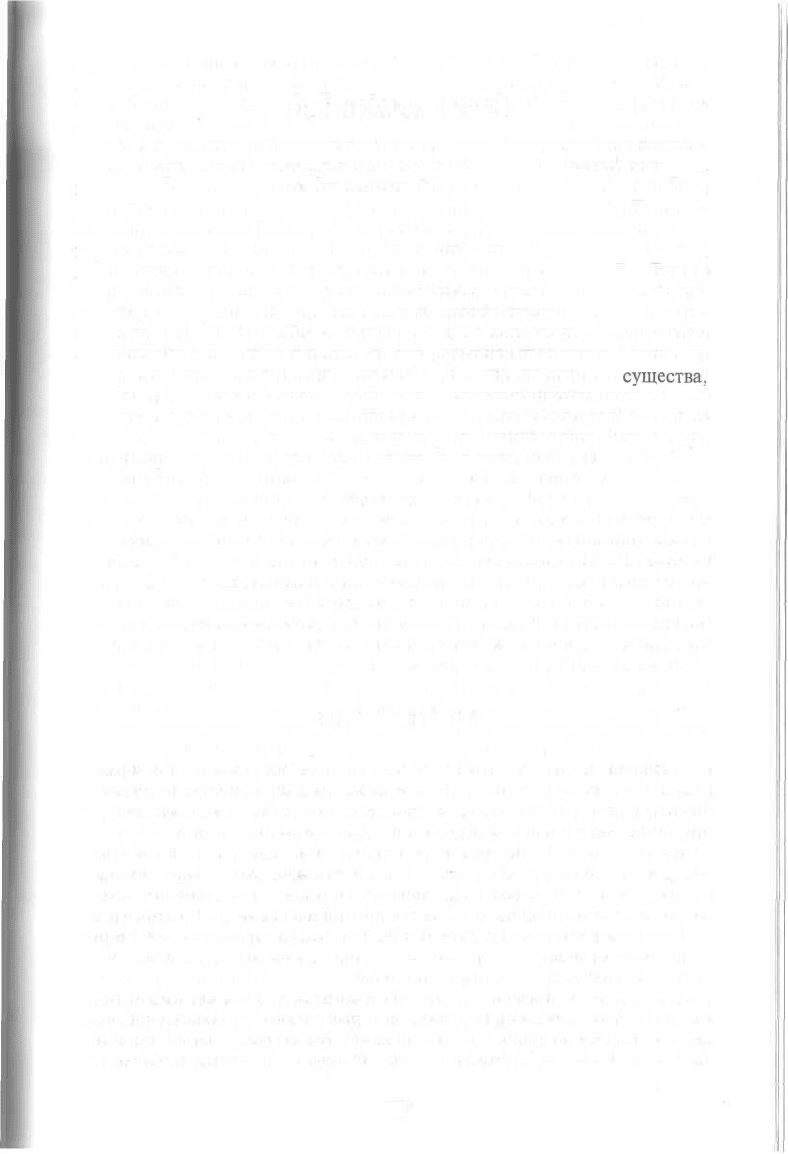
христиане будущего не станут следовать никакому образцу христианской
жизни, и я испытываю трепет перед задачей говорить о них — об этих
новых типах Атланта, которые, стоя на земле, должны будут снова под-
держивать небо.
Но общие отношения между христианством и будущим представля-
ют собой разновидность «средиземноморской» проблемы, которая рас-
полагается между хорошо известными берегами христианской души, и я
не добавил ни единого слова к учению Отцов Церкви об этом. Понима-
ние того, что время Бога, которое есть и конец, и начало, вдохновляет и
переживает многие начала и многие концы человеческих стремлений,
дает нам силу начинать заново. Сегодня, как и каждый день, Дух Божий
требует от нас ответа на вопрос Бога: «Что еще не закончено, не созда-
но, не имеет предшественников, не подвергнуто риску в порочном кру-
ге нашего мышления?» И мы всегда будем убеждаться, что будущее хри-
стианства имеется здесь и теперь до тех пор, пока двое или трое христи-
ан верят в него и отвечают на вопрос. И они, жалкие бренные
существа,
отвечают на него, сжимая время в точку самых плодотворных веры и
любви, и при этом сжатии внезапность конца света и бесконечность пер-
вого начала соединяются и свидетельствуют о вневременном характере
нашего происхождения и нашего предназначения.
473
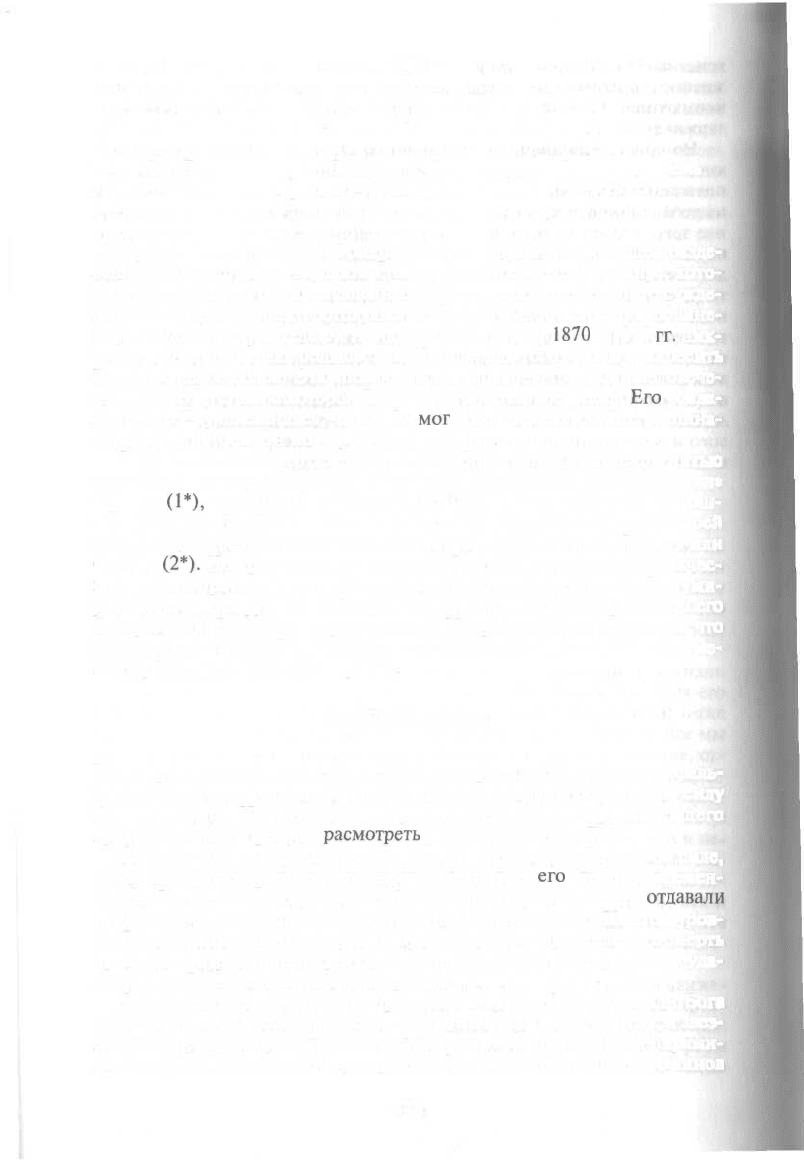
IV
Вера в живого Бога
Как Бог познается — Взрослые и Символ веры — Божественность
Христа — Сотворим человека
«Бог умер», — воскликнул Фридрих Ницше. Духовенство нашей разде-
ленной на департаменты религии, живущее, как жило оно в мире, кото-
рый уже не боялся быть оставленным Богом, отделалось от этого сужде-
ния как от болезненного богохульства. Но это было настоящим обвине-
нием священнослужителей и той их эпохи, и между
1870
и 1917
гг.
ник-
то, вероятно, не сделал больше, чем Ницше, для того, чтобы воскресить
Бога в сердцах людей. Эта эпоха забыла о древней традиции человече-
ства, в соответствии с которой Бог умирал и затем воскресал;
Его
убива-
ли те, кто Ему поклонялся, чтобы Он
мог
возродиться, или Его распина-
ли, для того чтобы Он мог пробудить всех нас.
Вера человека в смерть и воскресение Бога проходит красной нитью
через века, соединяя первобытных людей, описанных в «Золотой ветви»
Фрэзера
(1*),
с самой просвещенной формой богослужения в протестан-
тской церкви. До Христа считалось, что боги умирают в сумерках своей
судьбы или в безумии племенного экстаза, как Адонис, Таммуз или
Осирис
(2*).
Но христианство сначала в Распятии, а затем в католичес-
кой мессе и протестантском богослужении Слова показало, что Бог уми-
рает от нечистых рук, мыслей и уст тех, кто может принять участие в его
Воскресении. Весь смысл прощения нас Иисусом заключается в том, что
мы остаемся чадами Божьими несмотря на тот факт, что мы все време-
нами убиваем его в наших сердцах.
Как Бог познается
Бог открывается нам во всех тех силах, которые одерживают триумфаль-
ную победу над смертью, и люди издавна называли любую такую силу
божественной. Используя это определение в качестве руководящего
принципа, мы попробуем
расмотреть
развитие знания о Боге.
Когда люди жили родами и племенами, они видели Бога в той силе,
которая сохраняла род как целое после смерти всех
его
членов-современ-
ников. Эта сила познавалась в особенности тогда, когда воины
отдавали
жизнь за свой род и когда в жертву приносились пленные. На этом уров-
не Бог отождествляется с духами предков рода и преодолевает смерть
простым ее отрицанием: предки «в действительности» не умерли, а уда-
лились на благодатные охотничьи угодья.
Затем возникли языческие города и империи. Они понимали Бога
как вечный космический порядок, который открывался благодаря звез-
дам и которому подражали, возводя каменные стены, храмы и пирами-
ды, чтобы поклоняться этому порядку. Одним из древнейших терминов
474
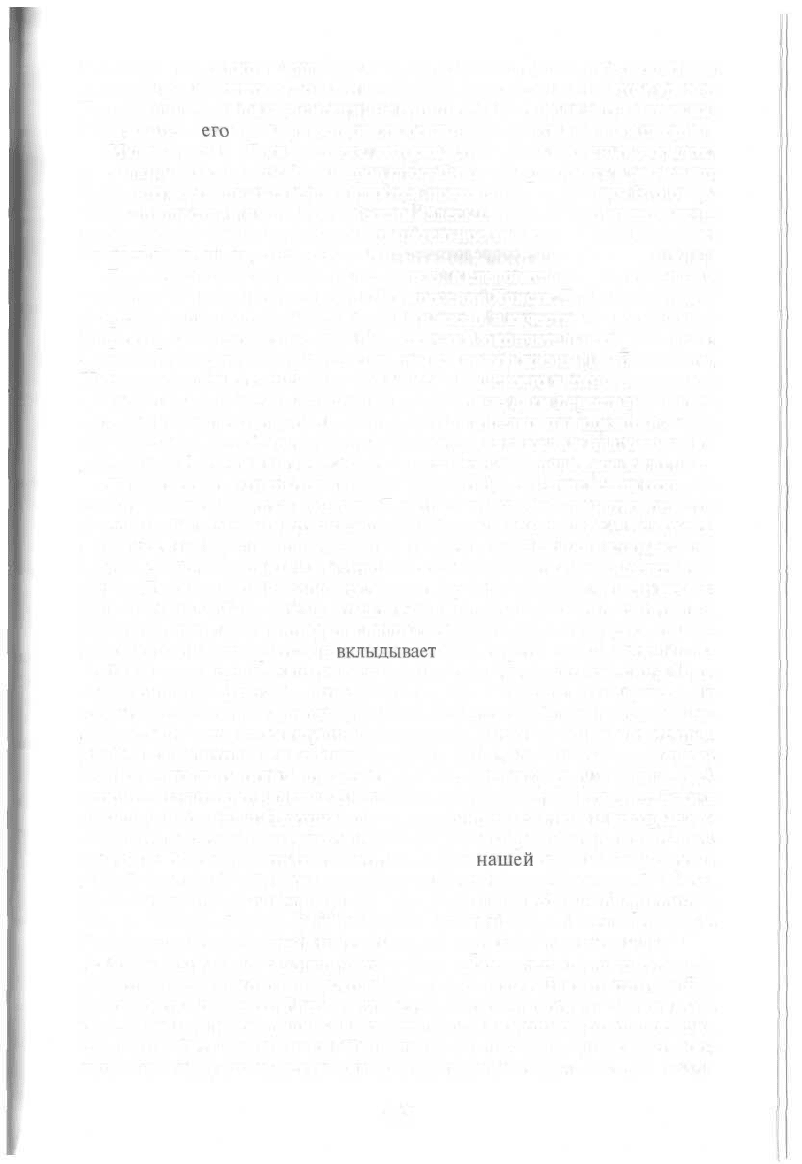
в египетской традиции является «миллионы лет», тогда как первобытные
люди не умели считать больше чем до ста или тысячи. На этом уровне
Бог преодолевает факты смерти, не отрицая их, а обходя, игнорируя их:
бог-солнце и
его
храм существовали бесконечно долго, не зная смерти.
Иудеи открыли Бога как силу, которая, сотворив и небесный порядок,
и землю, могла сделать Свой народ способным не принимать в расчет тот
факт, что все видимые вещи являются преходящими, и ждать Его буду-
щего пришествия в качестве Мессии. Здесь смерть не отрицается и не
игнорируется, но все еще имеет отрицательное значение. Она есть то, что
следует претерпеть.
Высшей точкой в победе над смертью, а следовательно, и в познании
человеком Бога, было Распятие и Воскресение Христа. Благодаря Христу
смерть в конце концов была включена в жизнь в качестве положительно-
го фактора, а потому она была полностью и окончательно преодолена:
смерть стала вратами в будущее, вратами в новую жизнь (1). Более того,
Иисус отказался как от своего ума, своего духа, своего вдохновения, так и
от своего тела, и все же выжил. Теперь родовые духи перестали влачить
свое жалкое существование, а стены городов и целых цивилизаций могли
пасть без вреда для себя, поскольку Бог одержал победу и над умами лю-
дей, и над объектами на небе и на земле: смерть потеряла свое жало.
Таким образом, открытого Иисусом живого Бога следует всегда отличать
от выраженного в чистых понятиях Бога философов. Большинство атеистов
отвергают Бога, потому что они ищут Его не там, где надо. Он — не объект,
а личность, и Он — не понятие, а имя. Подходить к Нему как к объекту те-
оретической дискуссии, — значит с самого начала делать поиски невозмож-
ными. Так нельзя найти ничего, кроме мира пространства. Никто не мо-
жет смотреть на Бога как на объект. Бог смотрит на нас, и Он смотрел на
нас еще до того, как мы открыли наши глаза или наш рот. Он есть сила, за-
ставляющая нас говорить. Он
вклыдывает
в наши уста слова жизни.
Если божественное познается в нашей жизни в качестве силы, по-
беждающей смерть, то оно есть что-то, что может только случиться с
нами в тот или иной момент времени. Божественное познается как со-
бытие, и никогда — как сущность или вещь. И это событие может про-
изойти с нами только в середине нашей жизни, после того как мы пере-
жили смерть в той или иной ее форме как тяжелую утрату, нервное рас-
стройство, потерю надежд. Следовательно, в христианстве нет Бога в
смысле Аристотеля, Платона или современного деиста (2), которые со-
ставляют понятие о нем как о перводвигателе, мировой душе или перво-
причине. У нас нет другого авторитета для
нашей
веры в Бога, кроме
живой человеческой души, которая полностью осуществила себя в вос-
кресении первого совершенного человека. Однако в несовершенном
виде каждый ребенок с первого дня своей жизни верит в спасительную
благодать, и эта вера намного сильнее его веры в самого себя.
Типичный философ начинает с мира пространства и потому в дей-
ствительности никогда не выходит за его пределы. Для Аристотеля Бог
может быть логической необходимостью, но он никогда не может быть
переживаемой и говорящей действительностью, потому что философия
стремится быть вне времени. Перводвигатель ничего не знает и не забо-
тится ни о чем, что имеет отношение к вам или ко мне.
475
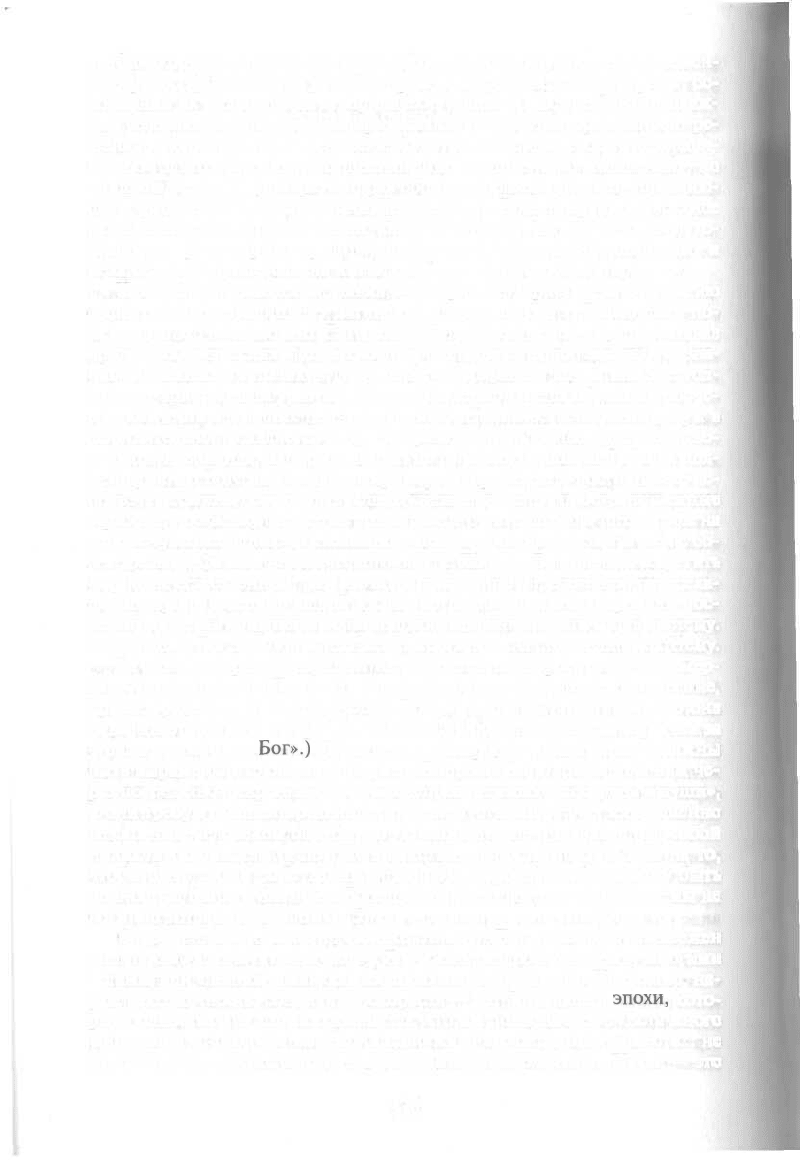
Однако Аристотель понимал суть божественного лучше, чем современ-
ные философы, поскольку он был греком, а греки воздавали героям, ос-
новавшим их города, почести, приличествующие божеству. Однажды каж-
дый человек и каждая нация соприкасаются с силой, которая выносит ре-
шения, творит и создает ценности. Аристотель придал своему перводви-
гателю только абстрактное существование «мышления о мышлении», но
он принадлежал к культуре, которая обожествляла говорящего, управляю-
щего, устанавливающего законы Человека (3). В нашу эру безжалостное
разделение труда оставило защиту божественных событий в истории духо-
венству, а философы сосредоточены главным образом на логических и
механических процессах, не имеющих божественного характера.
Когда Фома Аквинский заявил, что приведет Аристотеля к согласию
с христианской традицией, латинский аверроист Сигер Брабанский по-
казал, что это невозможно. Сигер был убит, поскольку он смело восставал
против академических идолов своего времени, и с тех пор западное созна-
ние одинаково и католиков, и гуманистов сохраняет догматическое тол-
кование аристотелева «разума» как «естественного» способа познания че-
ловеком Бога и высших ценностей жизни. Такой естественный разум в
действительности является незрелым разумом, подобным философство-
ванию вундеркинда, который мыслит до того, как он пожил. Ребенок дол-
жен думать о Боге, науке или, например, о королевском достоинстве, ис-
пользуя термины, соответствующие внешнему миру, пространственные
термины, поскольку он еще не пожил достаточно долго для того, чтобы на
основе чувства общности и взаимного понимания отождествить себя с бо-
лее зрелыми фазами человеческого опыта. Живого Бога нельзя встретить
на уровне естественного разума, поскольку он по определению пересека-
ет наш путь в середине нашей жизни, когда пройдет много времени пос-
ле того, как мы попытались с помощью мышления свести мир в систему.
У молодежи Бог за спиной, только зрелость должна стоять лицом к Нему.
Та сила, которая принуждает нас отвечать на вопрос о жизни и смер-
ти, — это всегда наш Бог (а «любая часть мира — Солнце, землетрясение,
кризис, революция — может стать Богом, когда мы чувствуем, что она
навязывает нам этот вопрос, и «сила, заставляющая атеиста бороться за
атеизм, — это его
Бог».)
Ни ответ, ни вопрос не обязательно должны
быть выражены в словесной форме. «Вопросы Бога приходят к нам че-
рез посредство смиренных и все же непреодолимых сил сердца и души»,
и они требуют нашей преданности, а не пустых слов (4). Совершенно
безбожным человеком был бы тот, кто никогда не признавал над собой
никакой такой силы, а потому в действительности притязал бы на то,
чтобы быть своим собственным творцом, короче, чтобы самому быть
полностью Богом. Мы знаем Бога прежде всего потому, что знаем: мы не
боги, но хотели бы ими быть (5).
Современный человек не столько отпал от Бога, сколько привержен
политеизму и, значит, язычеству. Его жизнь раздроблена между многими
богами, или «ценностями», как их стало модно называть. «Искусство, на-
ука, секс, алчность, социализм, скорость — вот боги нашей
эпохи,
кото-
рые полностью поглощают жизнь тех, кто им поклоняется». «Есть много
вопросов и много ответов. Но ни одно из многочисленных божеств... не
может полностью подчинить все элементы нашего бытия... Наука — это
476
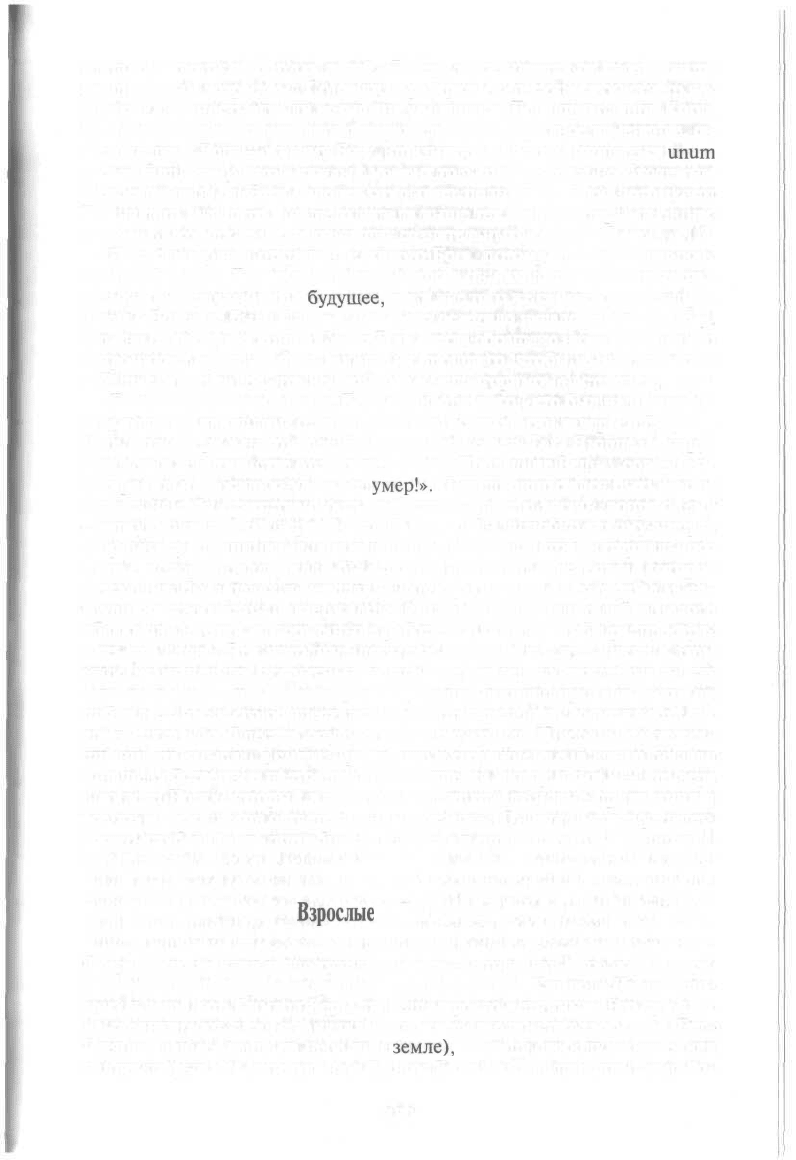
слишком жестокий бог для детей. Венера отказывается от своей власти
над пожилым возрастом. Социализм раздражает шестидесятилетнего че-
ловека, а алчность едва ли возможна у молодого. Боги преходящи. Когда
человек осознает их преходящий характер, их непрерывное изменение, он
обращается к Богу — живому Богу, призывающему его подчиняться
unum
necessarium, тому, что в каждый момент только и является необходимым
и своевременным. Этот человек открывает полную свободу, потому что
Бог нашего будущего и нашего начала выше тех богов, которыми он нас
окружил в короткие периоды наших сознательных усилий» (6).
Иисус завершил откровение живого Бога, потому что он создал под-
линное будущее. Бог жив лишь тогда, когда он находится как вне потока
времени, направленного в
будущее,
так и вне того же самого потока в про-
шлом. «В начале было Слово», но Слово осветило начало только потому,
что оно окликало из конца. Слово Бога всегда обращено назад из будущего
и проникает времена, вызывая нас из прошлого, чтобы мы воплотили в
себе то единственное, что необходимо в неповторимом настоящем.
Если люди рассматривают Бога в качестве того, кто был нашим твор-
цом только в прошлом, отказываются от эсхатологии и веры в будущее
Бога, то их вера в настоящее Бога также исчезает. Так, Ницше, обнару-
жив, что в христианстве отсутствует вера в Последние Вещи, совершен-
но правильно воскликнул: «Бог
умер!».
Ницше попытался быть Богом
и взять на себя ответственность за будущее, но его жизнь, вопреки ему
самому, привела его к вере в нечто большее. Он, подобно какому-нибудь
стороннику механицизма, должен был верить в единство материального
мира, которое поддержало бы его, в единство человечества, которое
нуждалось бы в целях и методах, в защиту которых он выступал, в со-
трудничество сестры, матери, друзей, печатников, читателей и целого
облака свидетелей, которые ныне работают для того, чтобы распростра-
нить его слова. Эти исходные посылки показывают, что никто в этом
мире не может рта открыть, не подразумевая веры в тождественность
смысла: в мир — что он сотворен в прошлом, в конец времени — что он
побуждает нас к его осуществлению, и в теперешнюю возможность че-
ловеческого сообщества осуществить этот конец. И вера в эту тожде-
ственность смысла, в смерть, рождение и сознание, т.е. в конец, начало
и наше собственное настоящее, находящееся между ними, — это вера
в живого Бога, который в каждый момент отдает новые приказания и
все же во веки веков остается одним и тем же. Он один может удовлет-
ворить глубочайшую потребность человека и привести его к жизни, име-
ющей смысл.
Взрослые
и Символ веры
Охарактеризованная выше триединая вера — это не что иное, как та вера,
которая получила формулировку в Афанасьевском Символе Веры, и по-
тому я верю, что Символ Веры является просто истинным. Его три чле-
на гарантируют с самого начала нашу веру в единство творения (Бог-
Отец создал все вещи на небе и на
земле),
в нашу свободу умирать для
наших старых «я» (данную нам Сыном Божьим, внедрившим само бо-
477
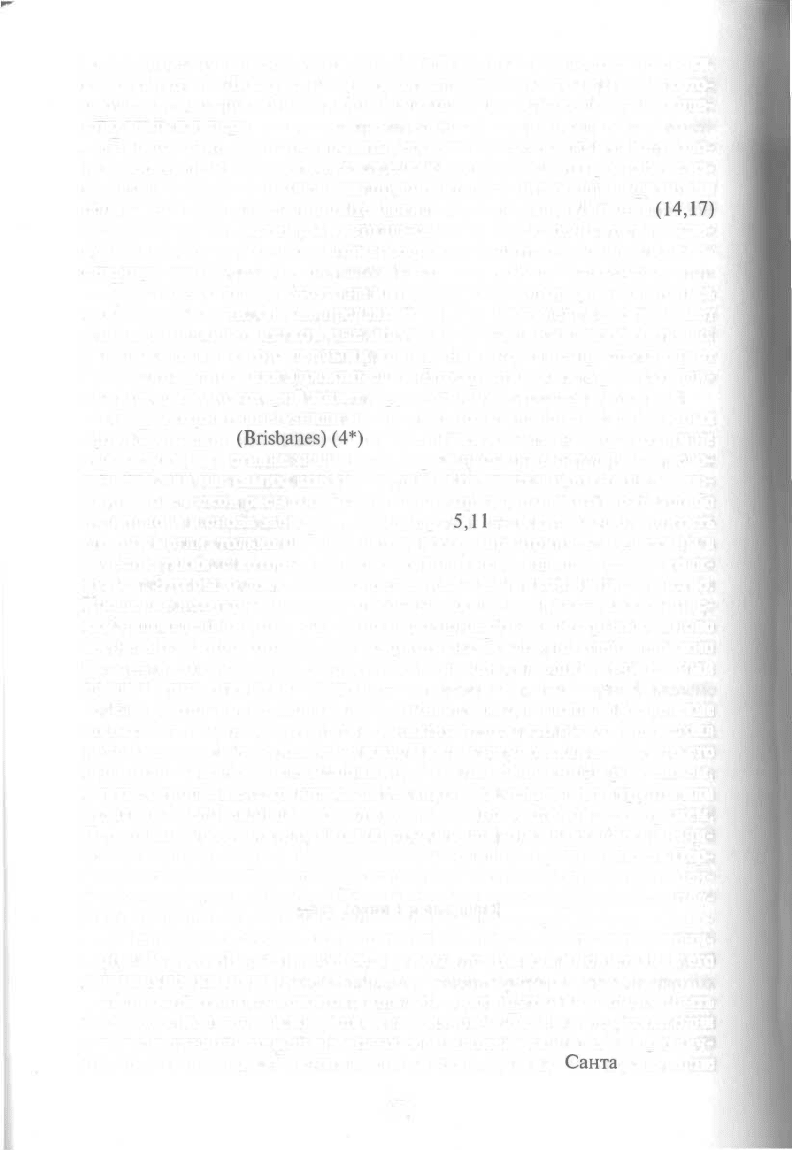
жественное в человеческую жизнь своей жизнью в качестве человека,
своей смертью и Воскресением) и в одухотворение Святым Духом, кото-
рое делает нас способными общаться с потомками и создавать сообще-
ство здесь и теперь.
В наши дни модно третировать вероучение в религии, и даже теоло-
ги говорят о нем апологетически, т.е. как защитники. Это происходит из-
за того, что ленивое духовенство предпочитает евангелию пацифизм или
социальное евангелие, и наши теологи, забывая о словах Иоанна
(14,17)
(7), трактуют Символ Веры чисто по-светски, так, словно это некая те-
орема из области языческой философии, а не поток, несущий их соб-
ственную жизнь.
Христианская догма — это не интеллектуальная формула, а летопись
и обещание жизни. Она не предлагает нам усвоить идеи, а рассказывает
о некоторых событиях, которые могут овладеть нами и преобразить нас,
как они сделали это с первыми христианами. Это не просто предмет
мысли, а предпосылка здравомыслия. Это христианское a priori, табли-
ца категорий, по которой живет верующий.
Первые христиане узнали на опыте о новых процессах, о которых
Артур Брисбейнс
(Brisbanes)
(4*)
их дней сказал бы, конечно, что они не
существуют. Христиане знали, что «мир» в нас, а именно, та часть чело-
вечества или нас самих, которая отставала от этого нового этапа эволю-
ции человеческой расы, либо никогда не признает нового опыта, либо
будет снова и снова забывать о нем (Евр.
5,11
— 6,7). Так что защитить
его они могли, только побудив нации всего мира принять эти истины в
качестве таких, с которыми им, по крайней мере, еще предстоит столк-
нуться. Это было достигнуто обращением язычников в христианство.
Крещение не открывало глаза отдельным людям, но указывало их поис-
кам направление, которое должно было привести их к открытию заново
жизненно важного опыта первых христиан. Каждое поколение должно
было — и должно до сих пор — быть включено в общий мучительный
процесс этого открытия заново.
Следовательно, Церковь, как огромная губка, поглощала все детские
попытки понимания, не отпугивая никого от тех, кто был честен, стоял
на правильном пути и был еще жив. Никого не упрекали в том, что его
первый шаг был языческим, примитивным, обусловленным рождением,
и такое отношение сохранялось до тех пор, пока человеческая группа или
отдельный человек поддерживали связь с полной истиной и ее стражем,
Церковью. В результате рационалисты, в наши дни являющиеся значи-
тельной частью «мира», будучи в состоянии видеть эту способность Цер-
кви впитывать в себя различные подходы, никак не могут усмотреть цен-
тральные истины, к которым Церковь стягивала все дохристианские под-
ходы, поглощаемые ею. Так рационалисты сводят христианство к про-
стой мешанине более ранних источников и отождествляют точное пони-
мание Символа Веры, присущее взрослым, с той или иной стадией его
детского понимания.
Однако истина содержится лишь в формах опыта, а они могут быть
выражены различными возрастами по-разному. Даже в математике одна
и та же истина повторяется в новых ее приложениях и в весьма различ-
ных формулировках. Так что легенда, вроде сказки о
Сайта
Клаусе, не
478
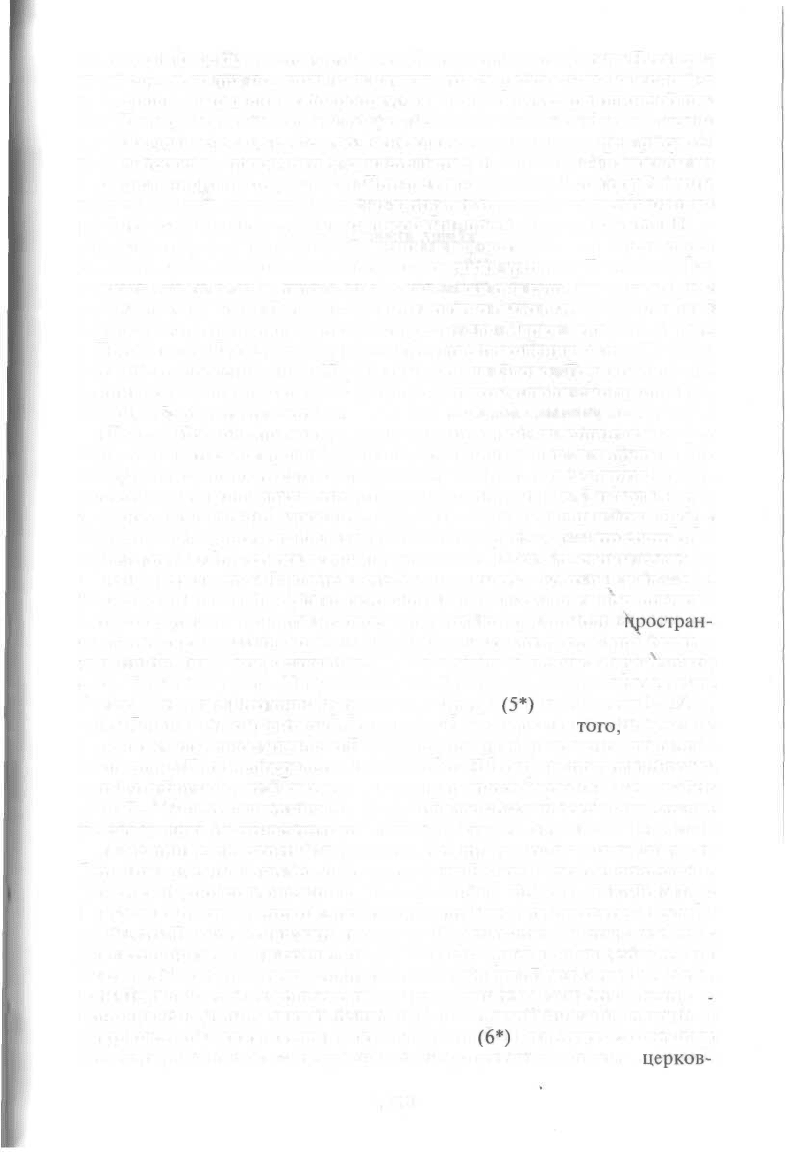
ложь, если рассказывается детям, чтобы они поняли действие Духа сре-
ди нас, — и до тех пор пока она служит этому, рассказываемая снова в
подходящих выражениях подростку, мужчине, отцу, старейшине общи-
ны. Пренебрегать легендарной формой истины — значит подавлять исти-
ну. Как человеческое существо, я нуждаюсь в легенде, мифе, ритуале,
поэме, теореме, пророчестве, свидетельстве, проповеди — в каждом из
перечисленного по отдельности. Четыре евангелия являются образцовым
примером этого правила, согласно которому одна и та же истина долж-
на быть выражена различными способами, предназначенными для раз-
личных возрастов человеческой жизни, а вся истина в ее полноте пере-
дается только совокупностью нескольких таких уровней. Евангелия вы-
ражают одну и ту же истину в том ее виде, как она существовала на раз-
личных фазах жизни Церкви — то, что должно было быть истинным для
Матфея и что он пытался доказать евреям, для Марка, жившего вместе
с Петром, для Луки, наставлявшего будущие поколения, и для Иоанна,
писавшего после падения Иерусалима, когда Слово, Тора, больше не
хранилось в видимом храме Соломона, и потому люди смогли понять,
почему «Слово стало плотью».
Теперь Церковь позволила людям, смотрящим на вещи глазами ре-
бенка, оставаться на уровне такого детского понимания, и запретила ум-
ным людям насмехаться над детской верой. Но так же энергично она
запретила детям поверхностно толковать то понимание Символа Веры,
которое свойственно взрослым. Однажды самая младшая дочь Вудро
Вильсона нечаянно услышала, как ее отец говорил: «Ад — это состояние
нашего духа». Она сбежала вниз по лестнице и сказала своим сестрам:
«Отец потерял веру». Для детей естественно думать, будто рай и ад — это
некие места, находящиеся в пространстве, поскольку дети могут предста-
вить себе то, что они еще не пережили, только при помощи
Простран-
ственных образов. Однако замечание Вильсона было строго ортодоксаль-
ным, и оно ни в коем случае не может считаться неким современным
способом понимания. Иисус сказал, что Его царство не от мира сего, но
Он сказал также, что оно внутри нас. А Ориген
(5*)
в 250 г. от Р.Х. пи-
сал: «Я написал комментарий к молитве «Отче наш» для
того,
чтобы ис-
коренить вульгарное мнение о Боге, которого придерживаются люди, по-
мещающие Бога непосредственно на небо. Никому не позволено гово-
рить, что Бог обитает в каком-то месте природного мира» (8). А если «Бог
на небесах» не означает ничего, что находилось бы в пространстве, то это
же справедливо и относительно «дьявола в аду».
Смешение детского и взрослого способов понимания Символа
Веры было усугублено тем, что со времен Реформации стало подчер-
киваться господствующее положение ребенка в Церкви. В XVI в. Цер-
ковь стала такой светской, так сильно похожей на светское государ-
ство, что Лютер изгнал католическую Церковь-государство на светс-
кую сторону жизни и создал некую область христианской совести по
ту сторону авторитета как папы, так и государя. После этой револю-
ции Церковь в обеих конфессиях — протестантской и католической -
обновилась путем развития религиозного образования молодежи под
руководством таких людей, как Меланхтон
(6*)
и иезуиты. С тех пор
и до сего дня школа — воскресная школа, приходская школа,
церков-
479
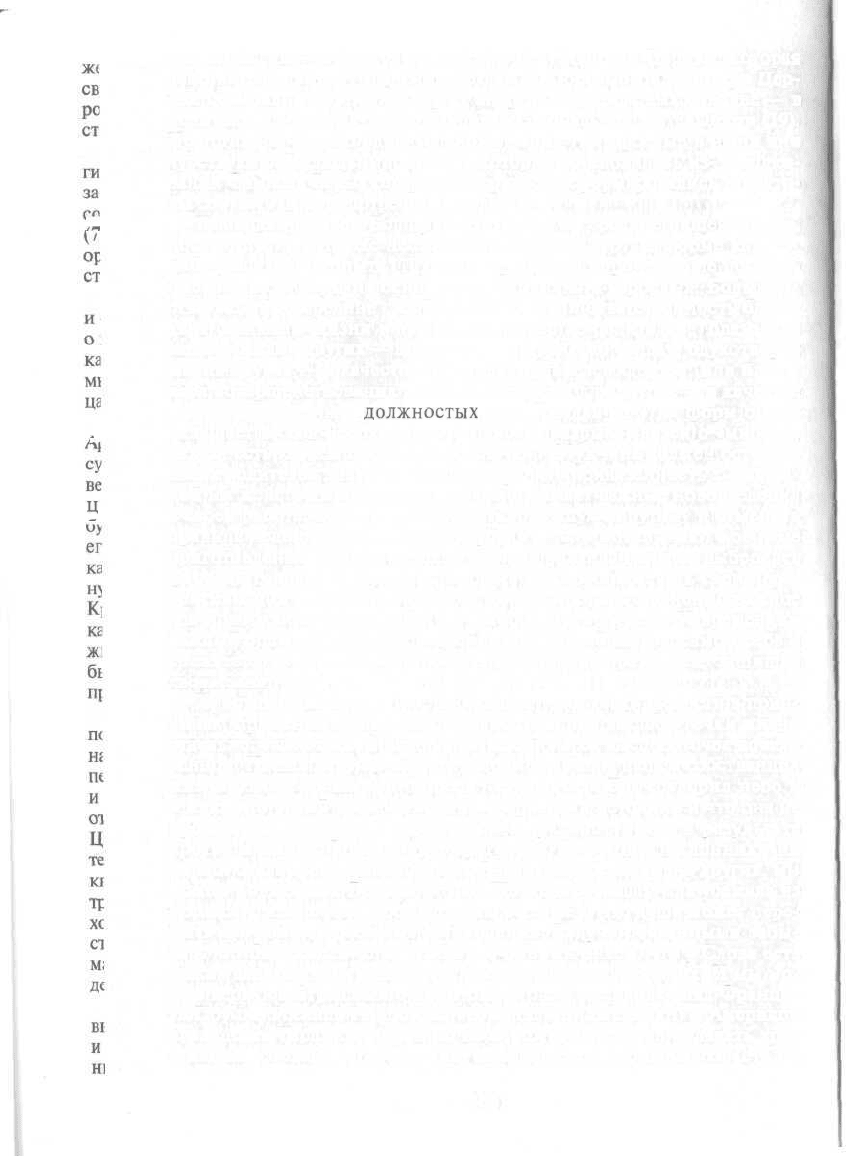
ная коллегия — является той частью деятельности Церкви, которая
действительно имеет значение, тогда как взрослые стали внутри Цер-
кви безмолвными, поскольку их энергия находила выход вовне — в
политике, деловой активности и профессиональной деятельности (19).
Но тогда нет ничего удивительного в том, что взрослые в наши дни
чувствуют себя людьми, развитие которых остановилось из-за толко-
ваний Символа Веры, которые исторически сформировались так, что-
бы соответствовать потребностям детей.
,_
Поскольку живой Бог приходит к нам в середине нашей жизни,
после того, как на нас неожиданно напала смерть в форме какого-
либо решающего опыта (10), то попробуем построить наше понима-
ние Символа Веры на основе терминов опыта взрослых. Большин-
ство людей в середине своей жизни познали ответственность благо-
даря созданию жизни в других — в качестве родителей, благодаря
защите жизни других — в качестве матерей или солдат, одухотворяя
жизнь других — в качестве писателей, учителей, друзей, или благо-
даря совершенствованию своего мастерства для других — в качестве
механиков, ученых,
должностых
лиц. Каждая из этих форм опыта
.
включает в себя необходимость некоего разрыва связей с «миром»,
как он есть, за чем следует новое начало. Мужчина должен оставить
своих родителей для того, чтобы сохранить привязанность к избран-
ной им жене. Администратор, когда он делает важные нововведения
?
в своей работе, должен сломать установившуюся рутину и отменить
правила ведения дел — как это убедительно показывают военные
приготовления. Хорошие родители или учителя должны выбросить
из своей головы много разного хлама и заново наметить свои перс-
пективы под действием необходимости отобрать жизненно важное
для нового поколения, забота о котором им поручена. И временами
каждый родитель или руководитель должен забывать о самом себе и
сражаться за свою паству так же, как львица сражается, защищая
своих львят.
Христианская догма просто обобщает этот опыт зрелости в прин-
ципах, применимых не только для достижения высшей точки жизни
отдельного человека, но и для достижения всех высших точек во все-
ленной. Поскольку нам известны новые начала в нашей собственной
жизни, мы в состоянии понять, что в начале Бог сотворил небо и
землю, что у всей вселенной один творческий источник и что она не
произошла вследствие хаотической случайности или в результате
противостояния божеств друг другу, как бы солнцепоклонники ни
хотели сделать это нашей верой. Зная о борьбе за жизнь других, мы
можем понять, как Бог любит нас. Поскольку наша душа убежала из
тюрьмы условностей и обычаев, мы осознаем, что душа может пере-
жить все свои социальные воплощения. Будучи обязанными забы-
вать и отбирать для того, чтобы обучать, мы знаем, что у Слова есть
власть давать жизнь нашим ученикам и забирать ее у них. И мы мо-
жем верить в Страшный суд, потому что суд свершился над Франци-
ей Пруста, Россией Распутина, Германией Вильгельма II и Америкой
президента Гардинга. В целом, вера, которой должен обладать хри-
стианин, состоит в требовании, чтобы в своем зрелом возрасте он
480
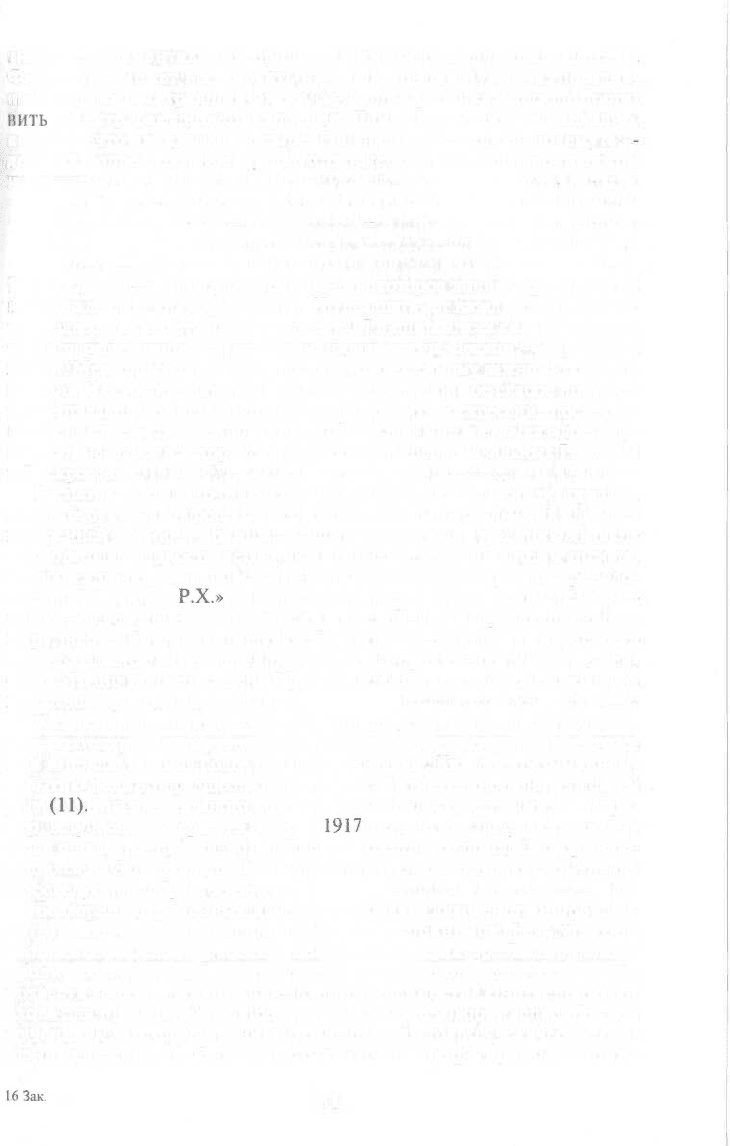
•жал о фундаментальных процессах жизни больше, чем в детстве.
Философия может не заметить начала и конца. Мужчина, посадив-
ший дерево, выигравший битву, зачавший ребенка, должен поста-
вить
в центр факт нового творения. Для него это так же очевидно,
как и то, что дважды два четыре. Он знает, что вопрос «почему?» -
детский вопрос, если речь идет о творческом акте или героическом
поступке.
Божественность Христа
Возможно, здесь мне будет позволено некоторое личное признание. Я
всегда надеялся, что я христианин. Но двадцать лет назад я почувствовал,
что подвергаюсь настоящему распятию. Я лишился всех сил, был факти-
чески парализован и все же — изменившимся человеком — вернулся к
жизни. Меня спасло то, что я мог обратиться к самому важному событию
в жизни Иисуса и узнать в его великом страдании мое слабое помраче-
ние. Это дало мне силы, не теряя веры, пережить воскресение после рас-
пятия на своем собственном опыте. С тех пор мне всегда казалось глу-
пым сомневаться в исторической реальности первоначальных Распятия
и Воскресения.
Распятие — это источник всех моих ценностей, великий водораздел,
откуда берут начало процессы, являющиеся самыми реальными для моей
внутренней жизни, и моим первым ответом на нашу традицию являют-
ся слова благодарности источнику моей собственной системы отсчета,
которой я пользуюсь в повседневной жизни. Вот почему наша хроноло-
гия «до Р.Х.» и «от
Р.Х.»
имеет для меня смысл. Тогда появилось нечто
новое — человек не в качестве части мира, а Человек, придающий смысл
миру, небу и аду, телам и духам. Когда невеста получает имя своего
мужа, создается некая новая область, к которой относятся все ее дей-
ствия. Точно так же, в имени Христа мы входим в область свободы, не
известной простым наследникам.
Каждая ценность в человеческой истории сначала возносится на вы-
соту благодаря одному-единственному событию, которое дает ей свое
имя и придает смысл более поздним событиям. Каждому безымянному
событию должно предшествовать некое событие, единственное в своем
роде
(11).
Мы видели много походов, называемых крестовыми, — напри-
мер, вступление Америки в войну в
1917
г., — но они получают свое имя
(если оно дается правильно) от Первого крестового похода, который об-
рушился на Запад как новая концепция и произвел глубокие изменения
в последующем образе жизни.
Безверие современных людей, включая и духовенство, происхо-
дит прежде всего из игнорирования этого принципа. Речь утратила
свой жизненный, творческий, ценностный характер. Люди не видят
крови, которую вынуждены проливать миллионы для того, чтобы
возвести на трон жизни определенные ценности. Они используют
слова для пропаганды или рекламы и даже не говорят «спасибо» тем
мученикам, которые подняли эти слова над толпой в качестве свя-
щенных ценностей. Они думают, что путем абстрагирования можно
163ак.
3524 481
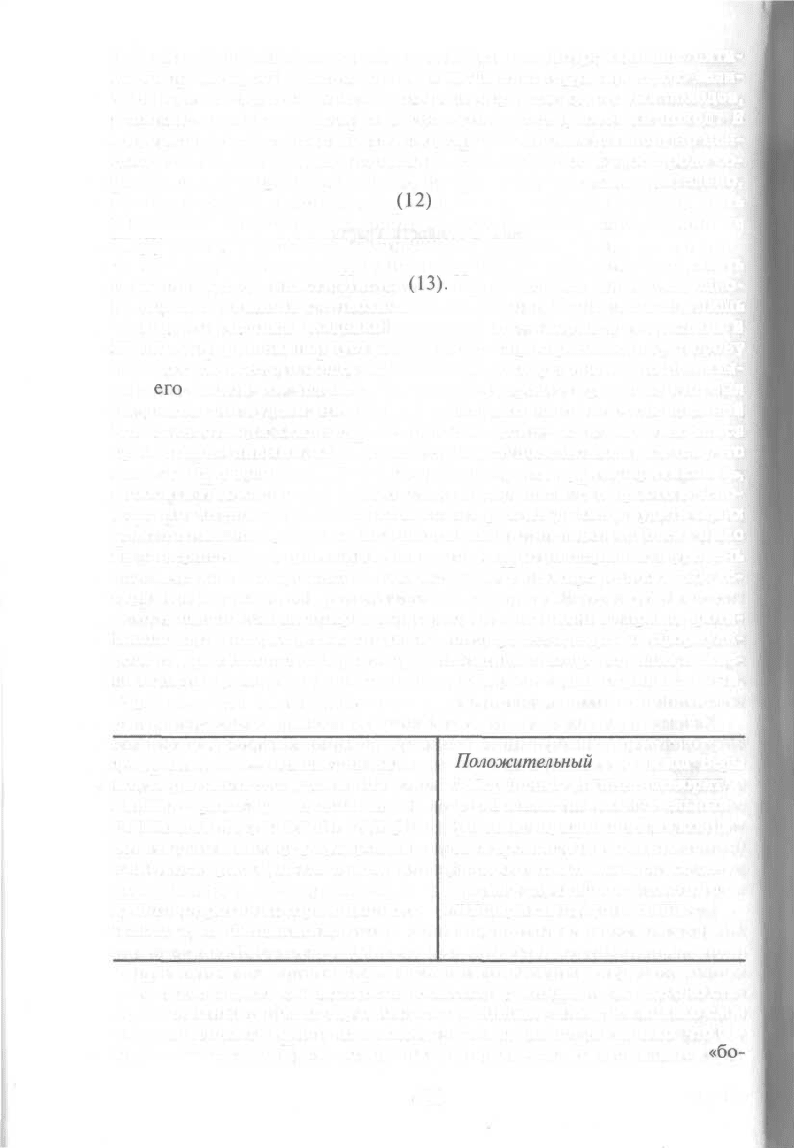
получить дефиницию крестового похода, рассмотрев больше пяти-
десяти семи крестовых походов и выведя некоторую среднюю вели-
чину. Но как можно было бы отобрать образцы крестовых походов,
если бы заранее не было известно, что такое крестовый поход? В
мире вещей целое может быть построено из многих деталей, но цен-
ности не создаются таким способом. Единственное в своем роде со-
бытие должно предшествовать многим событиям. Следовательно,
Распятие (или Страшный суд)
(12)
и Воскресение не могли бы быть
узнаны как повседневные события нашей жизни, если бы они не
произошли раз и навсегда в страшном величии.
Мне кажется, что именно по этой причине следует поддерживать
догмат о божественности Иисуса
(13).
Иисус-человек означал бы одно-
го человека из многих, — возможно, доброго и милого, но всего лишь
«какого-то» человека. Однако поскольку он — норма, путь, истина и
жизнь, которые нам следует раскрыть и распространить по ту сторону
нашего собственного общественного положения, то невозможно назы-
вать
его
«какой-то» человек. Он — «мой Творец», первый, кто не был
ни греком, ни иудеем, ни скифом, а был законченной и совершенной
человечностью, и каждый из остальных людей — если мы не являемся
просто завистливыми, как Ницше, — должен довольствоваться тем, что
является Его человеком. Если мы позволяем себе судить, критиковать,
одобрять Иисуса, то мы, конечно же, превращаем Его просто в чело-
века. Но Он — мера, в соответствии с которой мы должны судить самих
себя, Его жизнь придает смысл нашей жизни, и слово «человек» было
бы совершенно непригодным для того, чтобы поддерживать уровень
человеческого совершенства, достигнутый Им в мире, где каждый ке-
сарь был богом.
В наши дни Символ Веры застает людей в положении, прямо проти-
воположном положению тех, для кого он первоначально был сформули-
рован. Противопоставим друг другу два одинаково приводящих в заме-
шательство факта, касающихся Символа Веры, — один отрицательный,
а другой — положительный.
Отрицательный — в наши дни Сим-
вол Веры застает людей в поло-
жении, прямо противоположном
положению тех, для кого он пер-
воначально был сформулирован.
Сам успех христианства привел к
исчезновению тех верований и
культов, против которых нас по-
бедоносно защищал догмат.
Положительный
— Символ Веры
совершенно истинно говорит,
что появляется окончательный
человек, приходящий из конца
всех времен, Иисус, и что те-
перь Он истолковывает все со-
бытия, случившиеся до этого
конца, в свете этого конца.
Каждое слово в Символе Веры является истинным, и все же оно ста-
ло непонятным, поскольку оно стало истинным. И еще несколько слов
о божественности Христа. Возможно, читатель пойдет так далеко, что со-
гласится с тем, что Иисус обладает духом, но почему Иисус является
«бо-
482
